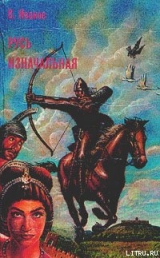
Текст книги "Русь изначальная. Том 2"
Автор книги: Валентин Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава одиннадцатая
Базилевс
Бесчисленные «завтра», «завтра»,
«завтра» крадутся мелким шагом
день за днем к последней букве
вписанного срока; и все «вчера»
безумцам освещали путь к пыльной смерти.
Шекспир
1
Галера была быстроходная, с носом, окованным медью. Сорок гребцов несколькими взмахами весел сумели разогнать галеру еще в порту. Перед узостью ворот гребцы положили весла, и галера вырвалась на простор, как квадрига на бегах. Тяжелый удар волны подбросил нос. Еще, еще. Галера бежала в Азию.
Трое людей, сидя вблизи носа, кутались в плащи из тяжелого сукна. От волн их закрывали высокие, чуть загнутые наружу борта, при нужде служившие защитой и от стрел. Столкнувшись с гребнем волны, галера приподнималась, как лошадь, собирающаяся вскинуться на дыбы. Струи холодной воды, рассыпаясь ледяной пылью, кропили лица и руки. На западе облака улеглись тяжелыми горами, солнце пропало где-то там, задушенное зловещими громадами.
Пробус, цепляясь за Ипатия одной рукой, другой держась за скобу, чтобы не соскользнуть под ноги гребцов, шептал:
– Зачем, зачем ты согласился, и зачем согласились мы? Увы, это гибель души. Молю тебя, подкупим кормщика и гребцов. Подумай, Никомедия близка. Если ты сочтешь Никомедию опасной для нас, до наступления утра мы успеем пройти Абидос.
Ипатий не отвечал, и Пробус потянулся к Помпею.
– Почему же ты молчишь? Убеди его. Мы идем на безумство, на позор. Бежим, лучше смерть, лучше утонем…
Галера подпрыгивала. Падая, узкое днище издавало странные звуки, будто жаловалось дерево, насильственно скрепленное железом. Пробус замолчал в отчаянии. Старшие братья выглядели мертвецами. Сумерки закрыли Византию, и казалось, что галера затерялась одна в открытом море, пустом, злом и холодном, как жизнь.
Сильно качнуло, волна ударила в правый борт. Второй удар, вкось, и устойчивое судно выпрямилось. Галера совершила полный поворот. За кормой светились огни Халкедона, счастливого мирного города, где не было Палатия, не было мятежа. Огни замкнули пространство, не стало широкого моря, в стылой луже Пропонтиды не больше свободы, чем в рыбном садке. Галера возвращалась в Европу, как камень, который падает обратно на землю.
Ипатий сказал:
– Неподчинение бесполезно. Нет места, куда уйти, он найдет нас везде. Бежать? К чему я говорю такое! Ведь мы с Помпеем поклялись. Ты не клялся случайно. Мы поручились в душе и за тебя.
– А грех лжи? А величайший из всех грех соблазна чужих душ? – спросил Пробус.
– Греха нет, – возразил Ипатий. – Мы христиане, не нам судить пути бога. Разве не сам патриарх напутствовал нас? Своей апостольской властью он наставил нас. У меня возникли сомнения – святейший Мена разрешил их. Не патриарх ли объяснил и мне наедине, и нам всем вместе в присутствии Божественного, что грех, коль он будет в чем-либо нами совершен, отпускается нам, а сам он, как верховный судья душ, будет свидетельствовать за нас перед богом на Страшном Суде. У меня нет сомнений. Не скрою, я не гожусь для подвига. Мне тяжко. Моя душа горит… И я прошу тебя, милый Пробус, брат мой, не увеличивай мучений…
Ипатию ответили рыданья. И сам он вытирал лицо.
Галера вскочила в Золотой Рог. Здесь волны кипели с такой силой, что судно черпнуло бортом.
– Еще, боже великий, еще, – взмолился Пробус. – Пошли еще волну! Пусть все мы погибнем!
Бог не сжалился. После узости море, разбитое выступом Сик, сделалось спокойнее. Стало совсем темно. Кормчий либо знал залив наизусть, либо видел, как сова.
Ипатий молился, стараясь сосредоточиться на словах, освященных церковью, и не мог. В темноте он чувствовал бога рядом, как льва, устроившего засаду. Дыхание бога было в ветре, в редких разрывах туч являлись не звезды – блистали грозные очи божьи. Мена-патриарх произносил слова Христа: ложь во спасенье.
Да, мед земли есть худший из ядов. Вчера Ипатий видел сон: сокол похитил его любимого голубя, а голубь пел в кривых когтях, как соловей. Не себя ли и Мену он видел? У Мены седая борода, длинная, раздвоенная, брови черные, как камень агат, густые, и ряса неприятно пахнет. «Мир держится на тонкой, тонкой нити, – думал Ипатий. – Бог едва коснется ее – и мир кончится. Придет Страшный Суд, и покой, покой, покой…» Ипатий видел унылый берег, стаи черных псов бродили по песку. А вдали уходили корабли, корабли, корабли, малые, как осы, которых угнал береговой ветер. Черно-желтые с прозрачными крылышками парусов…
От толчка судна Ипатий вздрогнул и очнулся. Галера стояла твердо, как на земле. Кто-то негромко объяснял:
– Мы во Влахернах, против портика Кариана. Под носом воды меньше, чем на локоть…
Да, да, конечно. Ипатий помнил условленное место. Его подхватили, подняли над бортом, как маленького ребенка, осторожно опустили на длинном поясе, продетом под руки, Ипатий пошел прямо к берегу, нависавшему угольно-черной горой. Ноги сжимала холодная вода, заныла правая голень. Туда, в кость, воткнулась когда-то персидская стрела. На берегу Ипатий оглянулся. Братья еще шлепали по воде. Галеры не было видно, но слуха Ипатия коснулись свист, короткий приказ, плеск – гребцы столкнули галеру с мели. С воды послышалось:
– Успех и счастье…
Жесткий акцент напомнил спафария Арсака. Разве он там? Ипатий не помнил, чтобы Арсак проводил его дальше Буколеона.
На берегу метнулись тени бездомных собак, послышалось рычанье, угрожающее и жалкое. Братья поднялись между сетями, растянутыми на шестах. На затишном от ветра берегу резко пахло смолой сетей и рыбой.
– Подождите, – сказал Пробус, – я не пойду дальше, прощайте.
– Прощай, – устало ответил Ипатий. – Но куда ты уйдешь?
– Не знаю. Да смилуется надо мной Христос, над вами… над нами всеми…
– Мы будем молиться за тебя, – сказал Ипатий.
– Я тоже. О, горе нам, горе!
– Постой, маленький! – с мягкой заботой окликнул сорокапятилетний тридцатилетнего. – Возьми. Вот солиды.
Ответа не было.
– Благородный Ипатий чудом спасен из Палатия! Ослоподобный держал Ипатия в заточении! Бог вывел его из темницы! – кричали на улицах Византии.
– Но где он?
– В своем доме! Около цистерны Бона.
– У святого Феодосия! Но кто ты, сын мула, который не знает жилища племянника базилевса Анастасия?
– Идем к нему. Пусть он расскажет о замыслах убийцы!
– Я предлагаю объявить его базилевсом!
– Ипатий базилевс!
– Базилевс Ипатий, Ипатий!
– Пусть обещает брать не больше налогов, чем при его дяде!
– Он будет раздавать хлеб!
– Он выдаст нам на расправу Носорога!
– И Трибониана! И Евдемония!
– Пусть он даст мне Коллоподия на один миг, мне хватит!
– А, он бросит нам всех светлейших, как зверей для травли!
– Будут богатые состязания по случаю нового правления!
– Ипатий базилевс! Базилевс!
Очевидец мятежа записал: «С восходом солнца распространилось известие, что Ипатий вернулся домой. Весь народ бросился к нему, провозглашая Ипатия базилевсом».
Отнюдь не такое счастливое, отнюдь не такое удачное правление Анастасия впоследствии даже историкам казалось более светлым временем, чем Юстиниановы годы. Тем более прасины были склонны, терпя обиды от Юстиниана, преувеличивать достоинства своего покровителя Анастасия. Люди умеют возвышать прошлое в ущерб настоящему, но правление Анастасия не омрачалось обдуманно жестоким преследованием некафоликов. Анастасий уничтожил налог хрисаргирон, облагавший все орудия, необходимые для существования человека, даже руки наемного слуги, собаку нищего слепца, ослика разносчика. Разорительные для земледельцев эпибола и синона были изобретены при Анастасии, но по-настоящему применены Юстинианом. Налоговый пресс давил менее жестоко в правление Анастасия. Суды решали более справедливо. Легко понять, что если дни безвластия не сумели выдвинуть кандидата на престол, весть о появлении племянника Анастасия могла быть понята, как выход, как находка. Но каким способом эта весть распространилась с быстротой степного пожара?
Бывший центурион Георгий, сделавшийся довольно известным под кличкой Красильщика, и его друг Гололобый были разбужены криком:
– Ипатий базилевс! Ипатий сверг ослоподобного! Идем к дому Ипатия!
Вчера на ипподроме Красильщик растерял три четверти своего отряда. Глумление над Юстинианом ослабило сердца. Распространилось мнение, что делать больше почти нечего: Юстиниан бежал. С Красильщиком осталось человек до сорока. «Мои ипасписты» – так он их окрестил в дружеской шутке. В Октогоне под ноги Красильщика попалось несколько блюд и чаш. Серебро купило всем сердечное гостеприимство в одной из дешевых таверн близ площади Быка. Хозяин был рад посетителям, которые в смутные дни платили не угрозами. В низкую и темную залу опускались шесть-семь ступенек. Спали вповалку на соломе, которой зимой для тепла застилают полы византийских таверн.
Очнувшись, Красильщик вскочил. Из открытой двери вниз тек ручей холода. Крик удалялся.
Ипатий? Почему бы не он! Красильщик расталкивал тех, кто до сих пор не сумел проспать вчерашнее вино. Хозяин таверны с помощью двух слуг тащил корзины с хлебом, деревянные блюда с холодной свининой и говядиной, распечатанные амфоры. Возвращалась лихорадка мятежа. Давились куском. Пусть будет новый базилевс. Один бог в небе, одно солнце греет. В доме – хозяин, в семье – отец. Другой власти не бывает. Сменить базилевса, жизнь станет лучше. Хотя бы потому, что он не отомстит за мятеж. Хотя бы потому, что он побоится участи старого. Хотя бы потому, что новый еще никого не обидел. Племянник Анастасия? А ведь это уже совсем хорошо. «Я вернусь в войско», – думал Георгий Красильщик. «Я уйду за Красильщиком», – думал Гололобый. Каждый видел лучшее, чем сегодняшний день.
Тощий, долгорукий и по-особенному ловкий в своем деле, хозяин спешил ублаготворить гостей. Он улыбался, кланялся, заискивал, называя каждого добрейшим, любезнейшим, умнейшим, прекраснейшим, щедрейшим… Наилучшие качества и в превосходной степени сыпались с его языка, как отборный горох с лотка. Конечно же, он возьмет на сохранение все серебро – это великолепные вещи, большого веса, большой цены. Христос свидетель, он все сбережет, он будет безо всякого обмана, троица святая видит, да, да, он будет кормить, поить, давать кров благороднейшим людям, он запомнил каждого, достаточно войти, чтобы получить все желаемое… Напрасно, право же, напрасно великодушный начальник упоминает о расправе за неверность. Пусть спросят весь город, здесь никогда не обманули христианина.
С топотом, бряцая оружием, сталкиваясь щитами, отряд Красильщика выбрался на улицу. В таверне сделалось пусто. Холодные струи наружного воздуха размешивали застоявшийся смрад человеческих испарений, кислого вина. Хозяин чувствовал гнетущую усталость, он не спал ночью, тревожимый сознанием беды. Еле держась на ногах, хозяин выбрался наверх и опустился на камень у входа. Он помнил смуты при Анастасии, помнил бойню, устроенную благочестивым Юстином после смерти Анастасия. Ничего нет хорошего в жизни. Налоги растут до неба, силы уходят, все ухудшается, и нет надежды иной, как будущая жизнь. Бог милосерд, он отпустит жалкие грехи жалкого человека. Хозяин, скорчившись под овечьей шубой, шевелил губами. Да, грешен, грешен, лгал много, обманывал, обсчитывал, изворачивался, задаривал сборщиков налога – и это грех, по словам духовника; утаивал доходы – худший грех, но не убивал, не отнимал суму нищего, не вымогал – господи, ты видишь! – и в грехе иудином не грешен, не предавал, не доносничал – ты знаешь, господи! А вот человеку, что недавно пробежал, возглашая Ипатия-базилевса, ему не простится, иуде. Двуногая ищейка. Палатийская ли, Евдемония или еще чья, ты все видишь, господи!
Хозяин таверны знал несколько таких. Зря не проходит жизнь, пусть и убитая на услуги первому встречному. Глаз учится сам находить, его уже не обманешь безразличием взгляда, небрежным видом. Ищейки все одинаковы, даже удивительно, как люди не умеют их узнавать. Иуды не меняются, такие же были при Зеноне, при Анастасии. Ныне их во много крат больше. Прежде, бывало, вся неделя пройдет, прежде чем среди пьющих и утоляющих голод появится шпион. Ест он, и пьет, и говорит, и слушает даже, пожалуй, как все. Однако же слепость человеческая удивительна! Теперь без тайного надзора не проходило дня, до самого мятежа. Часто сразу две, три ищейки трутся у столов, ведут речи, наводят на опасные слова, притворяются, вызывают. Ты же, хозяин, знай, да молчи…
Так почему же иуды сами сегодня провозглашают противника Юстиниана? Ба, для новой заслуги. Дело Юстиниана пропало, базилевсы уходят, а ищейки служат новым. Сегодняшнего иуду хозяин помнил с лет Анастасия. Лучше не думать о делах Власти. Да прекратится мятеж. Сколько бед, сколько несчастий!.. А ведь наемникам-варварам очень приятно безнаказанно избивать и грабить ромеев.
Ночными ворами пробирались Ипатий с Помпеем к дому, принадлежавшему старшему племяннику базилевса Анастасия. Мятежный город не хотел спать. Братья уступали дорогу, поспешно и робко прижимаясь к стенам. Перед каким-то шествием они метнулись в переулок и выжидали, когда протечет толпа, гудящая, визгливая, испятнанная дымным светом факелов.
«Нет, нет, я не сделаю ничего, чтобы привлечь к себе внимание, – думал Ипатий, так он решил в своей душе. – Пусть вершит Судьба, он не будет противиться, и только, и только, не больше, нет, нет!» Забывшись, Ипатий заговорил во весь голос.
– Что с тобой? – испуганно спросил Помпей.
– А? Ничего, ничего…
Еще недавно улицы были опасны из-за бесчинства разбойников. В страхе перед еженощными грабежами и убийствами жители с наступлением темноты лишь по крайней необходимости покидали дома. Богатые выходили с многочисленной свитой из клиентов и слуг, вооруженных, увы, только дубинами, ибо настоящее или самодельное оружие было воспрещено подданным. А бедные – грабители не брезговали ничем и никем – поручали себя богу.
– Наверное, наверное, теперь все воры и убийцы нашли себе другое дело, – шепотом утешал себя и брата Ипатий.
«Ах, почему Божественный, который все знает, видит, во все проникает, не дал нам охрану…» – но такое Ипатий мог едва-едва и осторожно подумать, не больше.
Слабый, опираясь на слабого, братья благополучно добрались к дому Ипатия. Родовое владение от улицы защищала стена, сложенная на извести из тяжелых тесаных камней. Для пеших был оставлен вход не более трех четвертей ширины. Массивная дверь ложилась без щелки в выемы порога и притолок.
Две серые фигурки боязливо сжались. Есть еще время уйти, как Пробус, скрыться, исчезнуть. «Но куда деваться от бога, разгневанного ложной клятвой! Куда уйду от лица его?..» Нащупав молоток на цепи, Ипатий опустил его с силой, испугавшей его самого. Он замер в странном удивлении: прожито скоро полстолетия, но впервые он сам прикоснулся к молотку собственной двери. Да, с той минуты, когда базилевс позвал, многое сделалось впервые. Внутри груди, где обиталище души, кололо и болело. Боль отдавала в плечо. Это было тоже впервые.
Привратник ответил немедля. Упал один засов, другой, загремела цепь. В привратной ложе горела масляная лампада перед иконой Богоматери Влахернской. Привратник поцеловал господина в плечо, нашел руку, поспешный, искренний в радости. По сравнению со многими и в понятиях своего времени Ипатий был добрым человеком.
– Запри дверь, дверь! – нетерпеливо крикнул Ипатий, охваченный внезапным гневом. Он едва не ударил докучного.
По мощеному дворику бежали навстречу. Почему столь быстро?
Ипатия мягко и нежно обняли.
– Вернулся, вернулся! Я так ждала, я так боялась! Пойдем же, идем же, слава Христу! Но ты дрожишь, ты болен? Ты попал в воду! Святая Приснодева!
Мария, мать его детей, была известна городу своей душевной чистотой и разумом. «Небесное благословение» – так звали жену Ипатия домочадцы, клиенты, рабы, вся фамилия патрикия. Не он, Мария была настоящим хозяином владений Ипатия.
– Но почему ты здесь? Я просил тебя покинуть город в такое тревожное время. Я думал, ты на вилле, с детьми, – говорил Ипатий.
– Не думай о детях, они на вилле, с ними ничего не случится. Я не могла быть там, так далеко от тебя. Я вернулась сюда, я ждала, я сразу поняла – ты!
По привычке Ипатий не возразил. Он не признался, но вправду ему сделалось хорошо, увы, лишь на короткое мгновение, когда ее руки прикоснулись к нему.
Ипатий проснулся перед рассветом, угнетенный тайной, неуверенный, сомневающийся в действительности событий. Он не понимал, что случилось, зачем? Непоправимое… Но где Мария, почему ее нет рядом? Ипатий вошел в малую молельню, соединенную со спальней коротким переходом. Неугасимая лампада освещала жесткий лик Христа Пантократора.
Ипатий шептал слова молитв, зерна четок скользили в пальцах. Он просил помощи, чтобы его миновало горькое испытание. Он опять видел во сне голубя и ястреба. «Боже, да минует меня чаша сия…»
Жена прервала его уединение.
– На улице становится все больше и больше людей. Они спрашивают тебя. Первые пришли, когда ты еще спал.
– Чего же они хотят? – спросил Ипатий с деланным безразличием. Четки упали на пол. Теперь Ипатий слышал – день пришел.
– Все готово, – сказала Мария, не отвечая на вопрос мужа, – пойдем скорее!
– Что готово?
Мария объяснила с обычным уважением к мужу: ему и деверю приготовлены туники рабов из бурой шерсти, пояса, сумы с хлебом, деньги. Сейчас брадобреи снимут им волосы на правом виске, легкой краской покроют лица и руки.
– Ты станешь неузнаваемый, только я угадаю тебя, любимый! Я выпущу вас обоих через задний выход для рабов. С вами пойдут Павел и Андрей, они ждут уже. Вы пройдете воротами Харисия. За стеной они наймут или купят лошадей. Идем, я расскажу остальное, пока тебя будут брить. За меня не бойся. Я сговорюсь с толпой.
– Я не должен бежать, – с трудом выговорил Ипатий.
2
Ипатий молил бога о чуде, но в памяти оживали едкие слова Прокопия-ритора, советника Велизария. Действительно, нужна ли молитва-прошение к богу? Прокопий говорил о свойственной несчастным вере в чудеса и великие блага в будущем. В тяготах текущих бедствий люди находят указание на лучшее в дальнейшем, но без всяких оснований. Прокопий утверждал, что человеком управляет судьба. Коль суждено хорошее, ничто не помешает счастью, и явные ошибки служат на пользу. Если же судьба противна, самые мудрые решения приносят только вред.
– Но где же воля божия? – спросил Ипатий, подозревая ересь в мыслях ученого.
– Судьба установлена богом. Не может быть противоречия между творцом и творением.
«Суждено быть, так будет, – утешал себя Ипатий, освобождая совесть от необходимости действия. – Ничто не совершается без воли бога…»
Он слышал крики, прерываемые многозначительными паузами. Мария убеждала охлос уйти, доказывала, просила. И опять, будто на ипподроме, охлос вопил по слогам:
– И-па-тий! Сла-ва! Ба-зи-левс! Сла-ва!
Юстиниан прозрел будущее. Нужно подчиниться.
Ипатий узнал Оригена, некогда с издевательской злобой обиженного Феодорой. Узнал демарха Манассиоса, патрикия Тацита…
Приветствуют именем Великого, Покровителя, Деспота ромеев. Мария кричит, кричит женщина, которая никогда не повышала голоса:
– Не отдам мужа, не отдам отца моих детей! Смилуйтесь, христиане! Вы ведете его на казнь! Он погибнет, и вы вместе с ним. Пощадите его и себя!
Его хватают, увлекают, поднимают, несут.
На улице Ипатия встретили поднятые руки, разинутые рты, вопли восторга, длинный, слитный вой сотен-сотен голосов. Мария осталась далеко. Помпея несли, как Ипатия. Кружилась голова. Ипатия опустили, посадили в кресло, опять подняли. Он вцепился в подлокотники.
Его несли почти бегом, бледного, с непокрытой головой. Ветер раздувал длинные волосы. Ему было холодно, он дрожал.
Толпы, толпы, толпы… Крики оглушали. О, неутомимые глотки плебса, ярость зверя-охлоса, порвавшего цепь. Ипатий никогда не искал милостей демоса. Почему его избрали жертвой – он не понимал. В смятении чувств он старался не забыть, только не забыть великую клятву, волю церкви, выраженную патриархом, волю Юстиниана.
Нет пуха мягче мускулов носильщика. Кресло владыки парило. Ипатия проносили под арками водопровода недалеко от пересечения улицы Палатия с улицей Меса. Капитолий остался влево. Шествие клином врезалось в скопления людей на площади Тавра. Отсюда до площади Константина один прыжок. «Как короток путь, – жаловался себе Ипатий, – если бы тысячи стадий…»
И вот он уже на ступенях колонны Константина.
– Венчать! Венчать! Да будет возложена диадема на главу Доброго базилевса Ипатия Благословенного!
Не диадема – нашлась золотая цепь из толстых колец, ею приковали голову невольника Власти к судьбе Византии.
Он был уже Добрый, уже Благословенный, базилевс Ипатий. Его уже любили, но почему бы и не так? Византийский демос впервые осуществлял естественное право самовольного выбора властителя. До сих пор этого не случалось. Юстин и Юстиниан подкупили палатийские войска. Анастасий женился на вдове базилевса Зенона – тоже способ взять диадему. А как сам Зенон овладел престолом?.. Кто помнил об этом! Да живет Ипатий, избранник, первый базилевс, поставленный демосом.
Новое начало не сулило ли лучшую жизнь? С инстинктом справедливости, свойственным людям всех веков и племен, демос мог ждать внимания к себе, мог любить Ипатия, как любит человек сотворенное своей рукой.
Получив живое знамя, мятеж мог преобразиться в переворот. Самые решительные, самые дерзкие теснились к базилевсу. Здесь были и многие сенаторы. Обладатели пустого звания возмечтали о воскресении сената. В них переворот мог найти людей, способных на создание формы новой власти. Но Ориген не видел вожаков венетов, даже Вассос, способный растерзать своими руками Юстиниана в отместку за соляную монополию, и тот исчез.
Вчера к Оригену явился некто с подлинным письмом от Хранителя Священных Щедрот Нарзеса: обещались забвение мятежа и дарственная на виллу с пахотной и садовой землей в пятьсот югеров, свободных от налога! Ориген приказал проследить експлоратореса-лазутчика и прирезать его. Обещания Палатия, гарантии, клятвы… Ложь и ложь!
Власть и переворот подобны состязающимся на бегах: остановись, и тебя обгонит самая слабая квадрига. Штурмуя город, палатийское войско будет бито само, охлос доказал свою способность к обороне.
Притворяясь умирающим, Ориген начал с мечты о яде для Феодоры, закончил размышлениями об уничтожении династии. Он радовался каждому кровососному новшеству Юстиниана – чем хуже, тем лучше. Да процветут гонения, пусть гибнет Сирия, Ливан, разоряется дельта Нила! Кровь вопиет к небу. Как логик, Ориген верил в справедливость.
Но и его мятеж застал врасплох, подобно летней буре на Евксинском Понте, которую угадывают лишь за четверть дня до начала. Ориген не сумел удержать руку на пульсе демоса.
Около нового базилевса начались речи, обычное самоутешение, когда нет организации и плана действий. Третьего оратора, блуждавшего в героических дебрях воображаемого прошлого, Ориген решительно перебил:
– Базилевс великий и вы, ромеи! Война! Власть и война, вот дела наивысшей важности! Нам нужны разумное решение и долгие усилия. Если мы сейчас пойдем на врага, наше дело решится кратко и судьба наша будет на острие бритвы. Не будем же отдаваться случаю, как игрок – кубику кости. Спокойно устроим наши дела, и Юстиниан, сидящий в твоем Палатии, великий базилевс Ипатий, – твой пленник! Подумайте, ромеи. Ведь власть презираемая рушится сама собой. И тот тиран, – Ориген указал на Палатий, – теряет силы. Разъедаемый сомнениями, он боится вызвать новое войско. Он сидит, как рак, забравшийся в неподъемный панцирь. В городе есть дворцы, кроме палатийских. Пойдем за Ксиролоф в Плакиллины дворцы.[8]8
Ксиролоф, Плакиллины – дворцы на западной окраине Византии, вдали от Палатия и ипподрома.
[Закрыть] Оттуда тебе, базилевс, удобно будет вести войну с тиранами и править империей. А Юстиниан пусть бежит хоть сегодня. Нет убежища свергнутым базилевсам, нет клочка земли, где не проклинали бы Юстиниана и Феодору.
Протянув руки к Ипатию, Ориген вкладывал в свой взор всю силу убеждения. Решайся же, решайся, спаси себя и нас!
Ипатий страдал от острой боли в груди, как вчера, перед дверью своего дома. Почему никто, сильный и властный, не возьмет его за руку, не прикажет так, чтобы пришлось согнуться? Тогда нарушение клятвы, быть может, простится. Ему претило многоглавое чудище демоса – брезговать им он, патрикий, сам собой учился чуть не от груди кормилицы. Дурно пахнущий, говорящий на грубом наречии, замешанный, как земля, на крови сотен племен и народов, демос был приемлем только в строю войска, под розгами профоса. Базилевс-игрушка не будет иметь и дня покоя. Юстиниан бросил его в пищу зверю, но, может быть, Ориген прав? А клятва?
Не понимая причины промедления, не слыша, о чем говорят знатные у колонны Константина, демос волновался. Ничтожная доля терпения истлела фитилем без масла. Судорога бросила волны голов, угрожающих рук:
– На Палатий! На виселицу Юстиниана! В клоаку Феодору! Перебьем наемников! В ипподром! На кафизму базилевса! Ипатия на кафизму! На кафизму!
Что другое мог найти демос? Единственное место, где плебей иногда сознавал себя хозяином города. Где еще могли бы сойтись, видеть и слышать друг друга почти сто двадцать тысяч человек? Трибуны зрителей в дни волнений превращались в организацию. Понятно стремление базилевсов разбить демос на партии. Склонность некоторых базилевсов уступать перед единством всех «зрителей» и даже их части говорит о разумной осторожности, но не о трусости носителей диадемы.
Ипатий решился:
– На ипподром!
«Идем навстречу Судьбе», – подумал Ориген. С ним было десятков пять хорошо вооруженных людей. Прежде чем он успел окружить ими базилевса для охраны, Ипатий сказал кому-то на ухо несколько слов. Доверенный утонул в толпе, как краб в камнях.
Единственно Величайший любил перстни с сардионами-сердоликами за женственно-человеческую способность камня изменять свой цвет. По воле бога золото зарождается влиянием Солнца, серебро – под действием Луны. Но камнем Луны называют только сардион. Он умеет быть красноватым, как Владычица ночи на восходе, и делаться белым, как она же в зените. Сардионы падают прямо с Луны.
Сегодня базилисса надела на палец Любимейшего новый перстень с удивительно нежным сардионом – ведь это был Ее камень, Камень Феодоры. Чета во всем условилась, Феодора все поняла со свойственным ей одной тонким ощущением действительности. Расстались ненадолго. Юстиниан направился к себе.
Базилевсу предшествовали два спафария. Четверо замыкали шествие. Нападение сзади вдвое опаснее. Вне своего обыкновения, Коллоподий добавил к незримой охране явную.
Удача кинжала – и судьбы империи могут измениться. Сегодня, по древнему выражению, Судьба идет по лезвию бритвы. Случайный взгляд на выпуклость кубелиса-секиры вызвал у Юстиниана мысль о тайне слов. Кубос – игральная кость, кубе – голова, а кубелис – то, что снимает голову. Цель изобретателя секиры-кубелиса была ясна, забытый правитель знал, что делал. Самосближение понятий разрешало казнь. Речь греков полна удивительного смысла. Но что нужно Коллоподию?
Начальник охраны и разведки Коллоподий сказал:
– Единственный, пришел человек от Ипатия. Лжебазилевс ведет весь охлос на ипподром. Таково известие, Божественный.
– Где посланный? – спросил Юстиниан с улыбкой. Сегодня давно затасканный титул приобретал значение.
– Он умер.
– Кому он сказал?
– Мне.
Движением руки базилевс отпустил понятливого слугу. События подчинялись.
Сегодня Юстиниан не без умысла избрал ту часть дворца Буколеона, которая выходила в порт. Сановники пали на колени. Базилевс осенил всех знамением креста.
Молчание лежало, как лужа под стеной. Но вот и Феодора. В пурпуре, в диадеме. Юстиниан так хотел. Сам он ограничился шерстяной тогой патрикия и десмойлентой для волос. Он сказал:
– День жаден к событиям. Нам угодно выслушать мнения Наших подданных. Остаться ли Нам в Палатии? Или отбыть, дабы укротить охлос извне?
Юстиниан счел удачным слово «охлос». Многозначительное понятие.
Не отрицая заранее возможность получить разумный совет, Юстиниан слушал не без внимания. Но не было тонкого Трибониана. Не хватало едкости ручного Носорога. Их робкие заместители, Фока и Василид, не сумели ничего лучшего найти, кроме отъезда. Один предложил Гераклею Европейскую, другой – Пафлагонийскую на Понте. Они солидно поспорили. Ничтожные люди, которые считают себя не ромеями, а римлянами на старый образец. Носорог в своей берлоге нашел ли способ подслушать? Он – внизу.
Блюститель Палатия Гермоген подал мнение покинуть город. Он, раскосый гунн, ловко сыграл словом «охлос». Этот настоящий ромей. Но его мнение не имеет цены: ему было указано готовиться к погрузке на корабли.
Нарзес, взятый в плен ребенком в Персоармении, отказался от слова. Тоже ромей, но более тактичный, чем Гермоген. Ему известно больше, чем многим.
Мунд клялся: какова воля базилевса, таково и его, Мунда, желание. Он, Мунд, перебьет всех мятежников, коль они полезут в Палатий. Но, да не гневается Божественный, сил мало, чтобы пойти в город. Увлекшись и забыв изысканное начало своей речи, Мунд сорвался:
– Да будь я базилевсом, разве я ушел бы из Палатия!
Юстиниан улыбнулся. Сановники с подчеркнутым смехом указывали пальцами на дурачка с мечом, изрекшего глупость, почти преступную: будь Мунд базилевсом!
Движением руки базилевс призвал к порядку. Обсуждение продолжалось, сановники высказывались.
При всей выдержке они были взволнованы. Тем ярче проявлялась разноплеменность Юстиниановых слуг. Базилевс вспомнил, что вредный предрассудок наций родился в грехе вавилонского столпотворения. Разогнанные богом, одни почернели и пожелтели на солнце. Кто долго смотрел на синеву моря, стал синеглазым. Северяне – белокожими, как снег… В речи отразился шум волн, лесов, степного ветра. Наследники Адама перестали считаться родством. Но в Палатии Юстиниана они сделались равно ромеями.
Базилевс слушал. Не желая – он не имел в том нужды, – Юстиниан подверг своих светлейших острому испытанию.
Автократор создал из палатийских сановников людей особых чувств. Каждый из них бессознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения, воздвиг внутри себя некое здание любви и верности базилевсу. Так моллюск строит себе раковину. Благодетельный самообман срастался с кожей, от неосторожного прикосновения струпья добровольного рабства ныли, кровоточили. Поэтому даже случайное слово сомнения, высказанное посторонним, вызывало ярость: скорлупа требовала защиты. Нельзя безнаказанно играть роль в жизни, это не сцена, где слова означают действие и действие ограничено словом.
Автократор распространял заразу. Совещание со светлейшими было никчемной затеей, чего Юстиниан не знал, ибо познавший эту истину перестает быть автократором.








