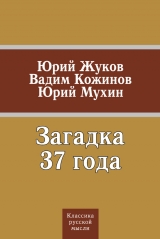
Текст книги "Загадка 37 года (сборник)"
Автор книги: Вадим Кожинов
Соавторы: Юрий Мухин,Юрий Жуков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Обратимся, например, к не так давно опубликованной стенограмме «Февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года» (пленум этот длился 11 дней – с 23 февраля до 5 марта), после которого террор и приобрел весь свой размах. Стенограмма зафиксировала недвусмысленные призывы к беспощадному разоблачению «врагов», прозвучавшие из уст таких вскоре же подвергшихся репрессиям «цекистов», как К.Я. Бауман, Я.Б. Гамарник, А.И. Егоров, Г.Н. Каминский, С.В. Косиор, П.П. Любченко, В.И. Межлаук, Б.П. Позерн, П.П. Постышев, Я.Э. Рудзутак, М.Л. Рухимович, А.И. Стецкий, М.М. Хатаевич, В.Я. Чубарь, Р.И. Эйхе, И.Э. Якир и др. Нельзя не отметить также, что «разоблачавшийся» непосредственно на этом самом пленуме Н.И. Бухарин (в то время – кандидат в члены ЦК) в своих заявлениях осыпал проклятиями всех своих уже «разоблаченных» к тому времени сотоварищей…
Вот два достаточно выразительных «примера» из стенограммы этого пленума. 23 февраля 1937 года Н.И. Ежов «сетует»: «К сожалению, слишком много уродов в семье правых…» (то есть в окружении Бухарина). Р.И. Эйхе (которого, как говорится, никто специально за язык не тянул) прерывает Ежова: «Сплошь одни уроды». Спустя год сам Роберт Индрикович окажется «уродом»…
1 марта Ежов снова «жалуется» пленуму: «…должен сказать, что я не знаю ни одного факта… когда бы по своей инициативе позвонили и сказали: «Тов. Ежов, что-то подозрителен этот человек, что-то неблагополучно в нем, займитесь этим человеком» – факта такого я не знаю… (Постышев: А когда займешься, то людей не давали). Да. Чаще всего, когда ставишь вопрос об арестах, люди, наоборот, защищают этих людей. (Постышев: Правильно.)». Между тем и по сей день распространено представление о Постышеве как несчастной жертве террора; уж в таком случае и Ежова, арестованного годом позже Постышева, 10 апреля 1939-го, следует считать жертвой…
И еще один выразительный факт. В целом ряде сочинений, опубликованных в конце 1980 – начале 1990-х годов, говорится о борьбе против террора, на которую отважился тогдашний нарком здравоохранения РСФСР, кандидат в члены ЦК Г.Н. Каминский. До 1937 года говорить о его недовольстве террором никак невозможно; дело обстояло противоположным образом. Вполне возможно, что Григорий Наумович начал сопротивляться, когда смертельная опасность нависла над ним самим. Однако до того момента он вел себя совсем по-иному. Так, бывшему предсовнаркома, а с 1931 года наркому связи А.И. Рыкову в 1936 году предъявили обвинение в том, что он в апреле 1932 года готовил терракт против Сталина. Алексей Иванович возразил, что он тогда находился на отдыхе в Крыму, и в доказательство предъявил открытку, отправленную ему в то время из Москвы в Крым юной дочерью. Однако именно Каминский отмел этот аргумент: «Ты столько лет работал в связи, – «обличил» он Рыкова, – что любую открытку и штампы мог подделать»… Жестокая «ирония» времени: Каминский был расстрелян раньше Рыкова (первый – 10 февраля, второй – 15 марта 1938 года).
Показательно, что сами деятели НКВД, подвергшиеся репрессиям, но все же уцелевшие, обычно рассказывают о себе именно и только как о жертвах. В 1995 году были изданы мемуары руководящего сотрудника ВЧК-ОГПУ-НКВД М.П. Шрейдера «НКВД изнутри. Записки чекиста». В редакционном предисловии к ним утверждается, что их автор в 1937–1938 годах боролся-де за «честный профессионализм» и «не признавал “липовых” дел и людей, которые на его глазах фабриковали такие дела».
В 1937 году Шрейдер был заместителем начальника управления НКВД Ивановской области (начальником являлся прославленный чекист В.А. Стырне), а в феврале 1938 года по личному указанию Н.И. Ежова (о чем он сам сообщает в «Записках») получил немалое повышение: стал заместителем наркома внутренних дел Казахской ССР (наркомом был в то время свояк Сталина, комиссар госбезопасности 1-го ранга С.Ф. Реденс). Между тем, если верить Шрейдеру, в Ивановской области (то есть перед его повышением в должности) он, мол, всячески стремился противостоять «ежовскому» террору.
Но одновременно с книгой Шрейдера – хотя и совершенно независимо от нее, – в том же 1995 году, было опубликовано изложение сохранившейся в архиве г. Иваново стенограммы пленума тамошнего обкома партии, состоявшегося в августе 1937 года, – своего рода чрезвычайного пленума, которым командовали прибывшие из Москвы секретарь ЦК Л.М. Каганович и секретарь партколлегии Комиссии партийного контроля при ЦК М.Ф. Шкирятов. И уже пожелтевшая стенограмма показала, что (цитирую) «Шрейдер обрушился на секретаря горкома (Ивановского. – В.К.) партии Васильева. Он выразил возмущение по поводу того, что Васильев, имевший связь с врагом народа, занимает место в президиуме…
– У меня нет никаких (! – В.К.) данных о том, что Васильев враг, – сказал он (Шрейдер. – В.К.), – но я позволю себе выразить ему недоверие.
Затем Шрейдер обвинил начальника управления НКВД Стырне в том, что тот противодействовал репрессиям и имел связь с бывшим сотрудником НКВД Корниловым, который в 1936 году обвинялся в сотрудничестве с троцкистами. Стырне тут же был снят с работы, а впоследствии арестован и расстрелян… Шрейдер выразил недоверие еще нескольким ответственным работникам, ничем это не мотивируя».
Между тем в мемуарах Шрейдер не только преподносит свои отношения со Стырне как истинно товарищеские, но и уверяет, что он не раз предостерегал этого знаменитого чекиста, раскрывал ему глаза на «ежовщину»!
Увы, подобного рода «забывчивость» типична для авторов изданных в последнее время мемуаров; так, например, Лев Разгон, публикуя в 1988 году свое ставшее тогда очень популярным «Непридуманное», где он гневно проклинал НКВД, ухитрился «забыть» даже и о том, что сам он в 1937 году был штатным сотрудником этого самого НКВД! Согласно его мемуарам, он занимался тогда трогательным делом издания книжек для детей…
Еще одни интересные воспоминания были изданы в 1983 году за рубежом: это книга идеологической, затем литературной деятельницы, далее «диссидентки» и, наконец, эмигрантки Р.Д. Орловой (урожденной Либерзон; 1918–1984). В обобщающих своих суждениях Раиса Давыдовна присоединяется к типичному «разделению»: мол, были хорошие «мы» и некие мерзкие «они», которые и устроили террор 1937-го…
Нельзя не оценить правдивость мемуаристки. Так, рассказывая о своем собственном отце, не самом крупном, но все же руководящем деятеле, отстраненном от своего поста в 1937 году и ждавшем ареста (чего не произошло), Р.Д. Орлова честно признается: «…он спрашивает: «А если меня арестуют?» И я, не подумав ни мгновения: «Я буду считать, что тебя арестовали правильно». Сказала, и пол под ногами не содрогнулся… Принял ли он мои чудовищные слова как должное? Он и сам говорил, что по-другому нельзя».
Или другой пример. В первое издание уже упомянутого «Непридуманного» (1991) Льва Разгона вошел небольшой раздел «Военные», в центре которого – судьба двоюродного брата автора, Израиля Разгона – высокопоставленного армейского политработника, расстрелянного в конце 1937 года. В рассказе создается прямо-таки героический образ, речь идет о выдающихся «уме, честности и бесстрашии Израиля», о его благородной дружбе с легендарным героем гражданской войны Иваном Кожановым и т. п. Однако, переиздавая свое сочинение через три года, в 1994-м, Л. Разгон явно вынужден был выбросить этот краткий раздел (менее 20 страниц) из своей книги (все ее другие составные части вошли во второе издание), поскольку по документам было установлено, что именно его кузен Израиль Разгон «посадил» своего друга Ивана Кожанова, о чем как раз в 1991 году было сообщено в печати…
* * *
Прежде чем идти далее, нельзя не остановиться на возбуждающем страсти вопросе, который, по всей вероятности, уже возник в сознании читателей. Почему в обсуждение феномена «1937-й год» вовлеклось столь много еврейских имен?
Здесь неизбежна определенная реакция: эти имена, мол, тенденциозно выпячены в «антисемитских» целях. И неправильно было бы закрыть глаза на эту сторону дела, причем не только (и даже не столько) ради опровержения упреков в «антисемитской» тенденциозности, но и – прежде всего! – ради всестороннего уяснения реальной политической ситуации 1930-х годов. Выше цитировалось исследование израильского политолога М.С. Агурского, который не «побоялся» напомнить, что к 1922 году в верховном органе власти – Политбюро – состояли три (из общего количества пяти членов) еврея. Между тем в 1930-х годах в составе Политбюро (тогда – десять членов) имелся только один еврей – Каганович. Об этом очень часто говорится в сочинениях о тех временах с целью показать, что евреи тогда уже не играли первостепенной роли в политике.
Всецело естественный процесс постепенного «продвижения» во власть представителей «основного» населения страны действительно совершался, но колоссальная роль евреев в верховной власти первых послереволюционных лет привела к чрезвычайно весомым результатам, – о чем недвусмысленно писал тот же М. С. Агурский. В его уже не раз цитированной книге есть специальное «приложение» под заглавием «Демографические сдвиги после революции», где прежде всего, как он сам сформулировал, «идет речь о массовом перемещении евреев из бывшей черты оседлости в центральную Россию», и особенно интенсивно – в Москву: «В 1920 г., – констатирует М.С. Агурский, – здесь насчитывалось 28 тыс. евреев, то есть 2,2 % населения, в 1923 г. – 5,5 %, а в 1926 г. – 6,5 % населения. К 1926 г. в Москву приехали около 100 тыс. евреев» (с. 265).
Имеет смысл сослаться и на сочинение другого, гораздо более значительного, еврейского идеолога – В.Е. Жаботинского. На рубеже 1920—1930-х годов он привел в своей статье «Антисемитизм в Сов. России» следующие сведения:
«В Москве до 200 000 евреев, все пришлый элемент. А возьмите… телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Певзнеров, Левиных, Рабиновичей… Телефон – это свидетельство: или достатка, или хорошего служебного положения».
Из обстоятельного справочника «Население Москвы», составленного демографом Морицем Яковлевичем Выдро, можно узнать, что если в 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, то всего через два десятилетия, в 1933 году, – 241,7 тысячи, то есть почти в сорок раз больше! Причем население Москвы в целом выросло за эти двадцать лет всего только в два с небольшим раза (с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс.).
В сознание многих людей давно внедрено представление, что евреи тем самым вырывались, «освобождались» из чуть ли не «концлагеря» – «черты оседлости». Но вот, например, И.Э. Бабель записывает в дневнике об исчезавших на его глазах еврейских местечках в «черте оседлости»: «Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была…» Через много лет, в 1960-х, М.М. Бахтин рассказал мне о своей только что состоявшейся беседе с широко известным в свое время писателем Рувимом Фраерманом, который был старше Бабеля и еще лучше знал еврейскую жизнь в «черте оседлости». Р.И. Фраерман (1891–1972) с глубокой горечью говорил о том, что в пределах этой самой «черты» в течение столетий сложились своеобразное национальное бытие и неповторимая культура, которые теперь, увы, безвозвратно утрачены…
Однако среди родившихся позднее, чем Бабель и Фраерман, евреев господствовало иное мнение. Я рассказал тогда же о сетованиях Фраермана близко знакомому мне поэту Борису Абрамовичу Слуцкому (1919–1986), и он не без гнева воскликнул: «Ну, Вадим, вам не удастся загнать нас обратно в гетто!» Подобное «намерение», разумеется, даже и не могло бы прийти мне в голову – уже хотя бы в силу его полнейшей утопичности. Тем не менее «реакция» Слуцкого была, несомненно, типичной для евреев, которые не могли иметь представления о реальной жизни в «черте оседлости», – несмотря даже на то, что жизнь эта нашла художественное и, более того, поэтическое воплощение, скажем, в прозе Шолом-Алейхема и живописи Шагала.
Могут, впрочем, возразить, что в произведениях Шолом-Алейхема и Шагала воссозданы не только «поэзия» жизни еврейских «местечек», но и ее тяготы и страдания. Однако такое возражение совершенно неосновательно, ибо литература и живопись того же времени, запечатлевшие русскую жизнь, ничуть не менее драматичны и даже трагедийны; собственно говоря, «поэзия бытия» и немыслима без тягот и страданий…
Но обратимся непосредственно к еврейскому «перемещению» 1920 – начала 1930-х годов. Сотни тысяч евреев после 1917 года бесповоротно уходили из тех городов и городков на западных землях России, где их предки жили в течение столетий, и устремлялись в центр России; только в Москву переселились к 1933 году, как мы видели, около четверти миллиона евреев!
Это своего рода «великое переселение», естественно, не могло не иметь самых существенных последствий. «Очень большое число евреев», резюмировал в своем исследовании М.С. Агурский, оказалось «в ряде жизненно важных областей государственной, экономической, социальной жизни».
Стоит сказать о том, что многие из пишущих об истории считают ненужной или даже вредящей истине самую постановку вопроса о роли «национального фактора» и, особенно, о роли евреев в истории России. Так, например, в 1992 году Г. А. Бордюгов и В. А. Козлов в своей совместной книге «История и конъюнктура» заявили:
«Мы собственными глазами видели, как в 1988 г. некоторые люди, опираясь на статью В. Кожинова «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4), составляли списки партийных работников 20—30-х годов с указанием их псевдонимов и фамилий и подсчитывали количество евреев в составе руководящих партийных органов. Очевидно, они считали, что это и есть та самая главная правда, та самая истина, до которой следует докапываться. Такие «простые» ответы были очень соблазнительны для неразвитого сознания, но это было нечто весьма и весьма чуждое как правде, так и истине. Заметим, что «простые ответы» часто возникают и от растерянности, и от незнания. Но есть незнание, которое ведет людей в библиотеки. А есть воинствующее невежество, которое зовет людей «бить жидов, спасать Россию»…»
К сожалению, подобные рассуждения отнюдь не редкость, и потому следует разобраться в их существе. Начну с конца. В течение последнего десятилетия (1988–1997) о весомой, а в отдельные периоды даже исключительно весомой роли евреев в трагической истории России 1910—1930-х годов писали и говорили очень многие авторы и ораторы, однако нельзя привести ни единого факта «битья жидов», – хотя межнациональных побоищ за это время в стране было сколько угодно… Бордюгов и Козлов, по всей вероятности, скажут, что такое все же могло бы случиться, и поэтому нельзя, мол, касаться столь «опасной» темы. При этом – хотели этого или не хотели наши авторы – неизбежно подразумевается, что нарушивший сей запрет человек предстает – пусть хотя бы «объективно», «невольно» – в качестве опаснейшего врага евреев, ибо люди с «неразвитым сознанием», прочитав его статью, примут решение «бить жидов».
Кстати сказать, согласившись с этим мнением, придется признать антисемитами М. Агурского и Д. Самойлова-Кауфмана, которые, не боясь острых углов, размышляли о непомерном «обилии» евреев в составе послеоктябрьской власти…
* * *
Конкретная «доля» евреев в важнейших, по определению М. Агурского, «областях жизни» 1930-х годов не выяснена со всей достоверностью, и вокруг этой проблемы нередко возникают сегодня горячие споры. Так, например, страстный борец против «антисемитизма» журналистка Евгения Альбац, признавая в своей книге об «органах», что «среди следователей НКВД-МГБ – и среди самых страшных в том числе – вообще было много евреев» (уже точно установленные факты никак не позволяют это игнорировать), все же утверждает: «…в процентном отношении – к общей численности еврейского народа в стране – евреев в НКВД было не больше, чем, скажем, русских или латышей».
Архивы ОГПУ-НКВД, в сущности, еще не изучены. Однако, что касается верховного руководства НКВД в середине 1930-х годов, оно доподлинно известно, ибо 29 ноября 1935 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение о присвоении «работникам НКВД» высших званий – Генерального комиссара и комиссаров госбезопасности 1 и 2-го рангов (соответствовали армейским званиям маршала и командармов 1 и 2-го рангов, – то есть, по-нынешнему, маршала, генерала армии и генерал-полковника). И из 20 человек, получивших тогда эти верховные звания ГБ, больше половины, – 11 (включая самого Генерального комиссара) были евреи, 4 (всего лишь!) – русские, 2 – латыши, а также 1 поляк, 1 немец (прибалтийский) и 1 грузин.
Стоит привести здесь прямо-таки поразительное заявление по поводу обилия евреев в «органах», сделанное принципиальным «юдофилом» А.М. Горьким еще в 1922 году:
«Я верю, что назначение евреев на опаснейшие и ответственные посты часто можно объяснить провокацией: так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам, то эти реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты».
Закономерно, что Горький начал со слов «я верю» (а не «я знаю»), и, разумеется, он не смог бы назвать даже хотя бы одно имя из тех «многих черносотенцев», которые, сумев «пролезть» в ЧК, якобы заняли там положение, дающее им возможность назначать евреев на «ответственные посты»! К тому же – как уже было показано выше – суть дела состояла в назначении на такие посты не именно и только евреев, а вообще «чужаков», которые смотрели на русскую жизнь как бы со стороны и могли в тех или иных ситуациях «не щадить» никого и ничего… Часто можно столкнуться с утверждениями, что ВЧК и, затем, ГПУ вообще, мол, «еврейское» дело. Однако до середины 1920-х годов на самых высоких постах в этих «учреждениях» (постах председателя ВЧК-ОГПУ и его заместителей) евреев не было; главную роль в «органах» играли тогда поляки и прибалты (Дзержинский, Петерс, Менжинский, Уншлихт и др.), то есть, по существу, «иностранцы». Только в 1924 году еврей Ягода становится 2-м заместителем председателя ОГПУ, в 1926-м возвышается до 1-го зама, а 2-м замом назначается тогда еврей Трилиссер. А вот в середине 1930-х годов и глава НКВД, и его 1-й зам (Агранов) – евреи.
Впрочем, Е. Альбац может возразить, что, помимо самого верхнего «этажа», имелось множество руководящих сотрудников ОГПУ-НКВД, которые непосредственно осуществляли репрессии, и следует учитывать «национальные пропорции» не только на самом верху.
Документами, которые дали бы возможность точно выяснить эти «пропорции», мы пока не располагаем. Правда, не так давно киевский журнал «Наше минуле» опубликовал обширный свод «документов из истории НКВД УССР» (1993, № 1, с. 39—150), свидетельствующих, что на Украине евреи играли в репрессивных «органах» безусловно преобладающую роль. Но нас интересует центр страны, Москва, куда после 1917 года шел, по определению М.С. Агурского, «огромный приток еврейского населения», и множество евреев заняло чрезвычайно весомое положение «в ряде жизненно важных областей», к которым, понятно, относилось и ОГПУ-НКВД.
Ведущий специалист Государственного архива Российской Федерации Александр Кокурин и сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров опубликовали статистические данные о национальном составе НКВД в 1937 году, – правда, только о периферийных его сотрудниках; приводимые цифры предваряет следующее уклончивое разъяснение: «Статистические данные о состоянии (на 1 марта 1937 года) оперативных кадров УГБ (то есть местных «управлений госбезопасности». – В.К.) НКВД/ УНКВД (кадры ГУГБ Центра сюда не входят) выглядят так: общая численность – 23 857 человек… русские – 15 570 человек… евреи – 1776 человек…»
При этом остается совершенно неясным, каков был удельный вес тех и других среди «руководителей». Количество сотрудников «низших» званий (сержант ГБ, младший лейтенант, лейтенант) или вообще не имевших звания составляло 22 271 человек (имеются в виду местные УГБ) – то есть 93,4 процента (от 23857 человек), а количество сотрудников (опять-таки местных) с более или менее высокими званиями – от старшего лейтенанта ГБ (соответствовало нынешнему майору) до комиссара ГБ 1-го ранга (соответствовало генералу армии) – всего лишь 1585 человек, то есть 6,6 процента.
И архивисты должны были бы, конечно, сообщить, какая часть из 1776 евреев, являвшихся к марту 1937 года (то есть как раз ко времени широких репрессий) сотрудниками местных управлений ГБ, принадлежала к 22 271 носителю «низших» званий (и вообще не имевшим званий), а какая – к 1585 носителям высших. Публикаторы сведений, похоже, предпочли затушевать это соотношение…
Еще более важны, конечно, данные о национальном составе Главного управления ГБ (в Москве), которые в публикуемый материал вообще «не вошли» (по всей вероятности, опять-таки из-за опасений публикаторов быть обвиненными в «антисемитизме»).
Но точно известно, что в 1934–1936 годах во главе «центра» НКВД стояли два еврея и один русский (нарком Г.Г. Ягода и его заместители: 1-й – еврей Я.С. Агранов и 2-й – русский Г.Е. Прокофьев). В конце 1936 года впервые в истории ВЧК-ОГПУ-НКВД (о смысле этого – ниже) главой стал русский, Н.И. Ежов, Агранов остался 1-м замом, а из трех действовавших с конца 1936-го новых замов – М.Д. Бермана, Л.Н. Бельского (Левина) и М.П. Фриновского – только последний не был, возможно, евреем (точных сведений о его национальности у меня нет). Далее, «Главное управление ГБ Центра» состояло к 1937 году из 10 «отделов» (охраны, оперативного, контрразведывательного, секретно-политического, особого и т. д.), и начальниками по меньшей мере 7 (!) из этих 10 отделов были евреи.
И все же вполне достоверной и полной картины национального состава НКВД пока не имеется, – хотя вместе с тем едва ли есть основания сомневаться, что дело обстояло тогда так же, как и в других «жизненно важных» областях.
* * *
Чтобы показать, сколь значительной была в 1930-х годах роль людей еврейского происхождения в жизни столицы СССР, обратимся к такой, без сомнения, важной области, как литература, – к доподлинно известному нам национальному составу Московской организации ССП (Союза советских писателей), точнее, наиболее «влиятельной» ее части.
На первый взгляд может показаться, что это «перескакивание» от ОГПУ-НКВД к ССП неоправданно. Но можно привести целый ряд доводов, убеждающих в логичности такого сопоставления. Для начала вспомним хотя бы о том, что среди деятелей литературы того времени было немало людей, имевших опыт работы в ВЧК-ОГПУ-НКВД, – скажем, И.Э. Бабель, О.М. Брик, А. Веселый (Н.И. Кочкуров), Б. Волин (Б.М. Фрадкин), И.Ф. Жига, Г.Лелевич (Л.Г. Калмансон), Н.Г. Свирин, А.И. Тарасов-Родионов и т. д.
Далее, своего рода «единство» с ОГПУ продемонстрировала большая группа писателей, побывавшая в августе 1933 года в концлагере Беломорканала, чтобы воспеть затем работу чекистов в широко известной книге, где выступили тридцать пять писателей во главе с А.М. Горьким.
Уместно привести также позднейшие (конца 1950-х – начала 1960-х годов) рассуждения писателя В.С. Гроссмана о И.Э. Бабеле и других: «Зачем он встречал Новый год в семье Ежова?.. Почему таких необыкновенных людей – его (Бабеля. – В.К.), Маяковского, Багрицкого – так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы, власти?»
Особой «загадки» здесь нет, ибо Бабель сам служил в ВЧК, одним из наиболее близких Маяковскому людей был следователь ВЧК-ОГПУ и друг зампреда ОГПУ Агранова Осип Брик, Багрицкий же с чувством восклицал в стихах:
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы…
и т. д.
Уже из этого, полагаю, ясно, что «сопоставление» ОГПУ-НКВД и ССП того времени не является чем-то несообразным. Что же касается национального состава «ведущей» части писателей Москвы, о нем есть точные сведения. Речь идет при этом не вообще о писателях, а о тех из них, которые имели тогда достаточно высокий официальный статус и потому в 1934 году стали делегатами всячески прославлявшегося писательского съезда, торжественно заседавшего шестнадцать дней – с 17 августа по 1 сентября.
Московская делегация была самой многолюдной: из общего числа около 600 делегатов съезда (со всей страны, от всех национальностей) к ней принадлежала почти треть – 191 человек. (Следует иметь в виду, что в опубликованном тогда «мандатной комиссией» съезда подсчете указана цифра 175, но здесь же оговорено: «не все анкеты удалось полностью обработать», и, согласно поименному списку делегатов, от Москвы участвовало в съезде на 16 человек больше).
Национальный состав московских делегатов таков: русские – 92, евреи – 72, а большинство остальных – это жившие в Москве иностранные «революционные» авторы (5 поляков, 3 венгра, 2 немца, 2 латыша, 1 грек, 1 итальянец; в кадрах НКВД, как мы видели, тоже было немало иностранцев). И если учесть, что население Москвы насчитывало к 1934 году 3 млн. 205 тыс. русских и 241,7 тыс. евреев, «пропорция» получается следующая: один делегат-русский приходился (3205 тыс.: 92) на 34,8 тысячи русских жителей Москвы, а один делегат-еврей (241,7 тыс.: 72) – на 3,3 тысячи московских евреев… Из этого, в сущности, следует, что евреи тогда были в десять раз более способны занять весомое положение в литературе, нежели русские, – хотя ведь именно русские за предшествующие революции сто лет создали одну из величайших и богатейших литератур мира!..
Но проблема проясняется, если вспомнить, что делегатами съезда 1934 года не являлись, например, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, Павел Васильев, Николай Заболоцкий, Сергей Клычков, Николай Клюев (он был арестован за полгода до съезда), Михаил Кузмин, Андрей Платонов, – без которых нельзя себе представить русскую литературу того времени, – а также множество других значительных писателей.
Стихослагатель Безыменский заявил на съезде: «В стихах типа Клюева и Клычкова… мы видим… воспевание косности и рутины при охаивании всего… большевистского… Под видом «инфантилизма» и нарочитого юродства Заболоцкий издевался над нами… Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и живописуют образы кулаков…»
Не было, понятно, на съезде и наиболее выдающихся русских мыслителей, органически связанных (как это вообще присуще русской мысли) с литературой, – Михаила Бахтина, Алексея Лосева, Павла Флоренского, которые к тому времени были репрессированы… На съезде задавали тон совсем другие «идеологи» – Иоганн Альтман, Михаил Кольцов (Фридлянд), Исай Лежнев (Альтшулер), Карл Радек (Собельсон) и т. п.
Виктор Шкловский провозгласил на одном из первых заседаний съезда: «Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы судить его как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Ф.М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе, как изменника».
В данном случае в типичной для Шкловского претенциозной риторике выразился весьма существенный смысл: литературу необходимо отсечь от Достоевского и, в конечном счете, от всего наиболее глубокого в русской литературе.
Накануне съезда вышла книга его активного делегата И. Лежнева (Альтшулера) «Записки современника», где было немало проклятий в адрес Достоевского и выдвигалось четкое требование:
«…пора бросить набившие оскомину пустые разговоры о добре и зле по Толстому и Достоевскому». Вскоре И. Лежнев при содействии Давида Заславского добился – вопреки даже воле самого Горького! – запрета издания «Бесов» Достоевского (запрет этот действовал затем более двадцати лет).
* * *
Как уже сказано, меня наверняка обвинят в тенденциозном подборе имен и фактов, предпринятом в «антисемитских» целях. Однако ситуация 1930-х годов такова, что подобные обвинения могут предъявлять либо совершенно бесчестные, либо попросту не блещущие умом оппоненты. Чтобы доказать это, обращусь к суждениям одного обладавшего ясным умом писателя, размышлявшего впоследствии – на рубеже 1970—1980-х годов – о «вхождении» евреев в русскую жизнь и культуру. Он четко отграничил две принципиально различные «волны» в «русском еврействе» – дореволюционную и послереволюционную.
В первой «волне» так или иначе имело место (цитирую) «вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции». Но после 1917 года «через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, прошедшие только начальную ступень ассимиляции… непереваренные, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму… Это была вторая волна зачинателей русского еврейства, социально гораздо более разноперая, с гораздо большими претензиями, с гораздо меньшими понятиями. Непереваренный этот элемент стал значительной частью населения русского города… Тут были… многочисленные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, одуренных властью. Еврейские интеллигенты шли в Россию (имеется в виду Россия до 1917 года. – В.К.) с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав… Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали».
Перед нами совершенно верный «диагноз», к которому мало что можно добавить. А любителям выискивать в таких размышлениях «антисемитизм» сообщаю, что снова цитирую рассуждения Давида Самуиловича Кауфмана (1920–1990) – поэта, известного под именем Д. Самойлов. В порядке уточнения скажу только, что, во-первых, людям, о коих он говорит, не только не было «жаль» русской культуры; она в ее глубоком смысле была им чужда или даже враждебна. А кроме того, они в значительной или даже в полной мере оторвались и от той культуры, носителями которой были их отцы и деды.
Так, игравший одну из ведущих ролей на писательском съезде 1934 года Ицик Фефер (он стал после него членом Президиума Правления Союза писателей) в своей речи заявил о скончавшемся накануне крупнейшем еврейском поэте Хаиме-Нахмане Бялике (1873–1934), что тот писал «о разрушенном Иерусалиме и о потерянной родной земле, но это была буржуазная ложь…» И вынес Бялику совсем уж тяжкий приговор: «Перед смертью он (Бялик. – В.К.) заявил, что гитлеризм является спасением, а большевизм проклятием еврейского народа» (кстати сказать, как совершенно точно известно, Фефер в 1940-х годах был немаловажным секретным сотрудником НКВД-МГБ; не исключено, что это его сотрудничество началось намного раньше).
Выше уже шла речь о том, что неверно говорить в ХХ веке о евреях «вообще», ибо есть евреи, сохраняющие свою национальную сущность, евреи, так или иначе вжившиеся в русскую (или иную) культуру, и, наконец, те из них, кто утратили еврейскую культуру и не обрели реального приобщения к русской. И это в высшей степени существенные различия; именно последний «тип» и был «востребован» в условиях революционного катаклизма, и, в частности, именно люди этого типа играли значительнейшую роль и в литературе, и в других «жизненно важных областях», – включая ОГПУ-НКВД.








