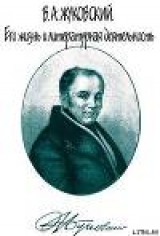
Текст книги "В. А. Жуковский. Его жизнь и литературная деятельность"
Автор книги: В. Огарков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Рассказывают, что это послание имело в то время огромный успех и что устраивались чтения его перед обвитым цветами бюстом императора.
Но Жуковский пока не особенно спешил на радушный царский призыв. Было ли у него предчувствие, что поэтический свободный дар трудно соединить со званием и обязанностями придворного, – в чем, конечно, он не ошибался, – но только в письме к Уварову от 4 августа поэт колеблется: «Боюсь я этих grands-projets, – сообщает он, – могут составить за меня какой-нибудь план моей жизни да и убьют все… Тебе, кажется, не нужно иметь от меня комментарий на то, что мне надобно… независимость да и только…».
К этому же времени относится завершение Жуковским давно уже начатого известного народного гимна.
Карамзин окончил восемь томов своей истории, – этот труд вдохновляет на историческую работу и Жуковского: он собирался написать поэму «Владимир» и с целью поиска материалов намеревался совершить путешествие в Киев и Крым. Но привязанность к семейству Протасовой взяла свое, и вместо Крыма поэт очутился с родными в Дерпте, где Воейков получил место профессора в университете.
Но поэта скоро выжили и из Дерпта. Тяжело ему было покидать то, с чем он так сжился; однако добрый Жуковский нашел силы перенести и эти огорчения. С интересом читается его письмо к Марье Андреевне от 29 марта 1815 года при отъезде из Дерпта… В нем уже слышатся те мистические струны, которые потом такими полными аккордами зазвучали в его поэзии. «Все в жизни – к прекрасному средство!» – восклицает он для утешения себя и Маши в этом письме. Теперь на родине нечему его было удерживать, и уже в мае 1815 года он ездил в Петербург, чтобы представиться государыне, и был ею ласково принят. «Кое-как накопил у приятелей мундирную пару, – рассказывал Жуковский о представлении императрице. – Я не струсил: желудок мой был в исправности, следственно и душа в порядке»…
Он был у государыни с Уваровым, говорили по-французски. Поэт приготовил было целую речь, но ничего сказать не сумел…
Придворная карьера «певца» налаживалась… Был близок момент, когда, по язвительной эпиграмме Пушкина,
…Певец
с указкой втерся во дворец!
24 августа Жуковский снова отправился в Петербург и виделся опять с императрицей. Он был назначен чтецом при ней, и, как видно из писем поэта, многое тяготило его. Более четырех месяцев прожить в столице он не мог. «О Петербург, проклятый Петербург, с своими мелкими, убийственными рассеяниями, – пишет он в Долбино. – Здесь, право, нельзя иметь души. Здешняя жизнь давит меня и душит!»
Скоро поэта ожидало новое разочарование: его любимица, его «идеальная Маша» решила выйти замуж за дерптского доктора Мойера, хорошего приятеля Жуковского. Положение девушки в семействе, при строгой матери и взбалмошном Воейкове, при ее тяготивших всех неопределенных отношениях с Жуковским, было нелегкое, и Марья Андреевна решилась отдать свою руку человеку, которого «уважала». Но это решение поразило как громом все еще питавшего надежды Жуковского. К чести его, однако, надобно сказать, что он одинаково терзался и за Машу, полагая, что ее принуждают выйти за нелюбимого человека.
Влюбленные должны были сказать «прости!» своему безвозвратно разбитому прошлому.
Вот небольшой отрывок из того письма, которое Марья Андреевна написала по поводу своего решения:
«Дерпт. 8-го ноября 1815 г. Мой милый, бесценный друг! Последнее твое письмо к маменьке утешило меня гораздо более, нежели я сказать могу, и я решаюсь писать тебе, просить у тебя совета так, как у самого лучшего друга после маменьки… Ты говоришь, что хочешь заменить мне отца… о, мой добрый Жуковский, я принимаю это слово во всей его цене… Я у тебя прошу совета, как у отца; прошу решить меня на самый важный шаг в жизни; я с тобою, с первым после маменьки, хочу говорить об этом и жду от тебя, от твоей ангельской души своего спокойствия, счастия и всего доброго… То, что теперь тебя с маменькой разлучает, не будет более существовать… В тебе она найдет утешителя, друга, брата… Ты будешь жить с нею, а я получу право иметь и показывать тебе самую святую, нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает…»
И Жуковский, эта «ангельская душа», махнув рукою на свое разбитое счастье, благословил свою Машу, повторяя любимое:
Все в жизни – к прекрасному средство!
Не будем подробно следить за этими двумя-тремя годами жизни поэта, проведенными им в Дерпте пополам с Петербургом. Казалось, что его печали угомонились и он наслаждался возможностью оказывать «самую нежную» дружбу Марье Андреевне.
В Петербурге дела Жуковского шли очень хорошо: царское семейство к нему благоволило. В 1817 году там печаталось собрание стихотворений поэта в двух томах. Один экземпляр этих стихотворений вместе с отдельно изданным «Певцом в Кремле» был поднесен министром народного просвещения, известным князем А.Н. Голицыным, государю, который назначил поэту пожизненный пенсион в четыре тысячи рублей ассигнациями.
К этому же времени относится усиленная деятельность Жуковского в «Арзамасе».
Изложение подробной истории этого общества, в котором такое видное участие принадлежит Жуковскому, не входит в задачи нашего очерка. Укажем только, что под знаменем «Арзамаса» собрались молодые и прогрессивные силы русской литературы для борьбы с озлобившимися приверженцами старых литературных традиций, группировавшимися вокруг известного Шишкова и его «Беседы». Эти хранители отживших и фальшивых литературных преданий, фанатические староверы литературной ветоши и буквоеды, ненавидевшие любое новшество, пытались тщательно оберегать от новых веяний русскую словесность. Они считали ересиархом даже Карамзина, внесшего в литературу новые мотивы и более изящный, простой язык, а имени Жуковского не могли равнодушно слышать. Один из «шишковцев», князь Шаховской, в написанной им комедии вывел Жуковского под видом жалкого балладника Фиалкина.
«Арзамас» неустанно и остроумно осмеивал этих мракобесов. На его заседаниях происходили споры, беседы, писались и произносились эпиграммы. В числе членов общества значились В.Л. и A.C. Пушкины, Жуковский, Дашков, князь Вяземский, граф Уваров, Блудов, Батюшков и другие. Это был дружеский союз людей во имя одной цели и одних идеалов, – людей, выносивших из совместных бесед известную общность взглядов и бывших во многом солидарными. Большое оживление собраниям «Арзамаса» придавал Жуковский своим безобидным юмором. До нас дошли некоторые комические протоколы собраний, составленные поэтом.
К рассматриваемому времени, кроме нескольких мелких стихотворений и переводов, относится создание поэмы «Вадим» – фантастической пьесы с обычными для Жуковского меланхолическими мыслями, высказанными в легких, звучных стихах. В некоторых частностях «Вадима» заметны указания на личные обстоятельства автора. Свадьба Маши дала возможность Жуковскому набросать нижеследующую картину:
Молясь, с подругой стал Вадим
Пред царскими вратами —
И вдруг… святой налой пред ним,
Главы их под венцами;
В руках их свечи зажжены,
И кольца обручальны
На персты их возложены,
И слышен гимн венчальный…
Пребывание поэта в Дерпте, познакомив его с местной интеллигенцией и позволив усовершенствоваться в знании немецкого языка, раскрыло перед ним с еще большей полнотой сокровища германской литературы, из которой, как мы увидим вскоре, поэт стал выбирать бесценные перлы.
Хотя Жуковский и боялся сначала связать себя с императорским двором какими-либо особыми обязанностями, но пришлось покориться обстоятельствам. В конце 1817 года поэт был назначен учителем русского языка при великой княгине Александре Федоровне, будущей императрице, и с тех пор стал близок к царскому семейству. Все идиллические планы его о жизни в Дерпте или Долбине отодвинулись в далекое будущее. С этого времени, оставаясь поэтом, он понемногу стал натягивать на себя и мундир придворного. Друзья как будто замечали в нем перемену; Пушкин, как мы видели выше, переделал в эпиграмму стихи Жуковского «О бедном певце», а И.И. Дмитриев писал Тургеневу: «Кажется, поэт мало-помалу превращается в придворного; кажется, новость в знакомствах, в образе жизни начинает прельщать его…» Сильны соблазны жизни – они сокрушали людей и с более могучим духом, чем Жуковский. Может быть, и певец «Светланы» немного испортился в своем новом звании, но у него был такой большой запас гуманности и добродушия, что даже за вечно натянутой улыбкой придворного и под туго застегнутым генеральским мундиром люди беспристрастные не могли не видеть симпатичной души Жуковского и его всегдашней готовности прийти на помощь.
Прощаясь с Дерптом, Жуковский перевел две вещи Гете: «Утешение в слезах» и «К месяцу». В конце последнего стихотворения грустно звучало:
Лейся, мой ручей, стремись, —
Жизнь уж отцвела:
Так надежды пронеслись,
Так любовь ушла!
Глава IV. Поэзия и обязанности
Близость к дворцовому кругу. – «Для немногих». – Стихи на рождение цесаревича, будущего царя-Освободителя. – Милости и отличия. – Первая поездка за границу. – «Лалла Рук». – «Шильонский узник». – Отсутствие особенных симпатий к Байрону. – Отпущение «эсклавов» на волю. – Литературные собрания у Жуковского. – «Действительный холостяк». – Смерть Маши. – Стихи в память о ней. – Назначение наставником к будущему государю. – Отношение к 14 декабря 1825 года. – Заботы о воспитании ученика и план его образования. – «Прощай, поэзия!» – Смерть A.A. Воейковой. – Жуковский и Пушкин. – Их сближение. – Строфы из «Онегина». – В салоне Смирновой. – Смерть Пушкина. – Поездка с учеником по России. – У Кольцова, в Воронеже. – Отъезд за границу и обручение там с девицей Рейтерн. – Последнее «прости» родине
Итак, Жуковский, скромный обитатель Мишенского, любивший сельское уединение, «холмы и поля», стал царедворцем; он вошел в царскую семью как свой человек и сохранил ее привязанности до конца. Но и на этой «высокой чреде», исполненной искушений и соблазнов, он не переставал быть человеком. При том высоком назначении, которое ему вскоре предстояло, он становился уже исторической личностью, а близость к источнику милостей и богатства давала возможность упражнять свою гуманность в просьбах за несчастных и обиженных.
Когда знакомишься с жизнью поэта в это время, то ясно видишь, что в общении его с высокими друзьями царили простота и человечность, почти исключавшие этикет. Это главным образом практиковалось по отношению к женскому обществу дворца; но особа императора Николая своей величавостью и импозантностью, при свойственных этому государю воззрениях на личность венценосца, само собою, не допускала особенной близости. Из «Записок» Смирновой видно, как близок к дворцовому кругу был наш романтический поэт: его там считали «своим». Раз, например, Жуковский, не будучи приглашен на какое-то интимное собрание во дворец, не явился туда. Когда государыня узнала, что он стеснялся прийти, не имея приглашения, то объявила, что он – «свой», что он «родился приглашенным», и ему нечего ждать официальностей, что он – «всегда желанный гость».
Жуковский усердно готовился к своим занятиям с ученицей, и, по всем данным, занятия эти шли успешно, что должно объясняться помимо умения учителя и талантливостью его слушательницы, образованной и с художественным вкусом женщины. Поэт составил для великой княгини особую грамматику, но главный интерес занятий с ученицей заключался в том, что она, страстно любя немецкую литературу, сделала указания поэту на пьесы, которые желала иметь в переводе, и с большим вниманием относилась к этим переводам. Такое параллельное чтение оригинала и переводов предоставляло хорошую возможность для сравнения подлинника с копией. Все эти переводы (например, знаменитой баллады Гете «Лесной царь»), указанные и вдохновленные великой княгиней, были напечатаны маленькими изящными книжками, носившими название «Для немногих». В описываемое время были переведены многие вещи, доставившие Жуковскому славу.
Зиму 1817/18 года поэт проводил с двором в Москве, еще разоренной и обгорелой. Здесь ожидалось разрешение от бремени великой княгини Александры Федоровны. Из писем Жуковского видно, как он был доволен своими новыми обязанностями. В отношениях к нему чужих и так высоко поставленных над толпою людей он нашел то искреннее участие, которого тщетно добивался у родных в последнее время.
17 апреля 1818 года пушки с Кремля возвестили о рождении наследника у великого князя Николая Павловича. Этот ребенок – будущий царь-Освободитель, и его появление на свет Жуковский приветствовал вдохновенными стихами, вылившимися из сердца. Кому не покажется благородным и глубоко симпатичным хотя бы этот отрывок из стихотворения:
Да встретит он – обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Великого из званий: человек!
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех – свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать!
Не нужно забывать, что эти прекрасные стихи явились в век крепостного права, при надвинувшейся уже туче аракчеевщины и в обществе, где не раздавалось «свободного голоса».
История в будущем еще должна разобрать события минувшего царствования, и несомненно она найдет, что поэт заронил в душу своего будущего питомца светлые и добрые семена, плодом которых стали лучшие деяния покойного государя.
Нужно, прежде чем сообщать о дальнейшем, заметить здесь, что Жуковский, смотря серьезно на свое призвание, не мог по врожденной ему добросовестности только подлаживаться к дворцовым «веяниям», – он отстаивал свои воззрения в вопросах воспитания, и хотя в почтительной форме, но с твердостью защищал излюбленные принципы. Вообще говоря, знакомясь с его перепиской с членами царской семьи, видишь не придворного Полония, готового признать облако за верблюда или за ласточку, смотря по желанию принцев, а ласкового, но опытного Друга, способного даже на внушенный любовью выговор.
Отличия и милости посыпались на поэта. Российская академия избрала его в число своих членов. Но Жуковский не забывал на своем высоком посту обязанностей по отношению к человеку. И многие были обязаны ему облегчением своей участи и улучшением положения, о чем мы подробнее скажем ниже.
Болезнь великой княгини Александры Федоровны прервала на некоторое время занятия, и когда ученица Жуковского по совету врачей отправилась для восстановления сил за границу, поэт сопровождал ее туда.
Эта первая поездка по Европе живительно подействовала на Жуковского. Он познакомился со многими европейскими знаменитостями, в том числе и с «олимпийцем Гете». Этим знакомствам, конечно, благоприятствовало его почетное положение в свите великой княгини. В Берлине поэт был свидетелем великолепных празднеств, данных в честь великокняжеской четы. Между прочим, на придворном празднике был поставлен ряд живых картин на сюжет поэмы Томаса Мура «Лалла Рук», где явилась сама великая княгиня. Как придворный поэт Жуковский не должен был молчать по этому поводу, и у него вскоре уже создалось опоэтизирование ученицы, явившейся в образе Лаллы Рук:
И блистая, и пленяя,
Словно ангел неземной,
Непорочность молодая
Появилась предо мной…
Под впечатлением виденного Жуковский перевел в Берлине поэму Томаса Мура «Пери и ангел». В эту же поездку переведена им «Орлеанская дева» Шиллера – одно из идеальнейших созданий великого поэта, представляющее, может быть вопреки историческим данным, Жанну д’Арк чересчур девственно-чистой; антиподом такого представления является, как известно, фривольная пьеса Вольтера «Pucelle».[3]3
«Девственница» (фр.).
[Закрыть]
Объездив часть Германии и Швейцарии, Жуковский познакомился с чудными памятниками искусства, с дивной природой и со многими известностями, в числе которых был и один из столпов германского романтизма – Тик.
В Швейцарии Жуковский посетил Шильонский замок. Из Веве, в лодке, с поэмой Байрона в руках, он совершил путешествие, чтобы осмотреть этот замок, где в XVI столетии томился женевец Бонивар. Жуковский осматривал подземелье и видел то кольцо, к которому прикреплялась цепь узника, и вытоптанную ногами заключенного впадину. Этой экскурсии русская литература обязана переводом знаменитой поэмы Байрона «Шильонский узник». Но, как и следовало ожидать, мягкий, мечтательный и смиренный Жуковский не особенно симпатизировал мрачному, титаническому гению британского поэта, и Байрон не состоял в числе излюбленных им образов.

Автограф стихотворения В.А. Жуковского
Жуковский возвратился в Россию в начале 1822 года. Возможно, что виденная им культурная Европа и «свободная» Швейцария указали ему на неустройства родины и на ее страшную язву – крепостных рабов. Впрочем, при свойственной Жуковскому гуманности Европа, так сказать, только переполнила чашу, и мы видим, что поэт по возвращении отпускает на волю крепостных, купленных на его имя книгопродавцем Поповым, а также дает вольную и своему единственному «рабу» Максиму с детьми. Для оценки указанного поступка надо помнить, что он совершился в крепостническом обществе за 40 лет до освобождения крестьян.
«Очень рад, – пишет Жуковский А.П. Елагиной, благодаря ее за исполнение этого поручения, – что мои эсклавы[4]4
рабы
[Закрыть] получили волю!» В pendant[5]5
в дополнение (фр.).
[Закрыть] к указанному он сообщает, что не мог освободить от цензуры перевод известных стихов Шиллера:
Человек свободным создан и свободен, —
Если б он родился и в цепях!
Жуковский по возвращении в Петербург поселился с семейством Воейкова, принужденного оставить Дерпт, на Невском проспекте против Аничкова дворца. Поэт очень обрадовался приезду своей племянницы, несчастливой в замужестве. Александра Андреевна напоминала ему милое прошлое, к которому тяготела память поэта. Жуковского часто посещали друзья; у него бывали литературные собрания, оживлявшиеся участием изящной и остроумной хозяйки дома – Воейковой. Здесь был обласкан слепой Козлов; вся тогдашняя крупная литература была своей в салоне Жуковского: Батюшков, Тургенев, Крылов, Блудов, Вяземский, Карамзин и многие другие являлись частыми гостями добрых хозяев. Особенно шумно, среди многочисленного общества отпраздновал Жуковский сорокалетнюю годовщину своего рождения. В этом собрании Жуковский с добродушным юмором объявил, что теперь он вступил в чин «действительного холостяка».
В указанное время неожиданное событие потрясло душу поэта: почти вслед за его отъездом из Дерпта, куда провожал он Воейкову, 19 марта 1823 года умерла его первая любовь Марья Андреевна Мойер. Но та мистическая вера, которая жила с детства в душе поэта, явилась для него теперь подспорьем в перенесении этого горя. В письме к А.П. Елагиной от 28 марта 1823 года поэт, между прочим, говорит об умершей:
«Знаю, что она с нами и более наша, – наша спокойная, радостная, товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания… Не будем говорить: „Ее нет“. C’est blasphème!..[6]6
Это богохульство (фр.).
[Закрыть] Ее могила будет для нас местом молитвы… На этом месте одна только мысль о ее чистой, ангельской жизни, о том, что она была для нас живая, и о том, что она ныне для нас есть небесная…»
Глубоко ошибается тот, кто сочтет это письмо лишь словами резонера, утешающего родственницу в ее потере. Наоборот, в нем он весь – чистый, милый Жуковский, с той верой, которая всегда сквозила в его поступках, в его переписке и поэзии. Эта вера в Промысл, в бессмертие, во что-то иногда неопределенное, но всегда светлое и святое очень характерна для поклонника идеалиста Шиллера и его истолкователя в русской литературе.
Маше Жуковский посвятил прекрасное стихотворение, приурочив его ко дню ее кончины:
Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств…
Он мне напомнил
О милом прошлом,
Он был последний
На здешнем свете!
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна…
Там все земныя
Воспоминанья,
Там все святыя
О небе мысли!
Звезды небес,
Тихая ночь!
Чем-то благоуханно кротким, эфирным и меланхолическим веет от этих строк, и эти стихи могут служить вообще характеристикой поэзии Жуковского в той ее части, которая обнимает собственно лирику.
Следующие пять-шесть лет были малопроизводительны для Жуковского в литературном отношении. Может быть, на это частью влияла и печаль по усопшей, но были и другие причины затишья творчества поэта: ему поручили обучать русскому языку невесту великого князя Михаила Павловича, Елену Павловну, а затем он должен был весь отдаться заботам по подготовке плана обучения будущего наследника престола, а также выработке подобного же плана и для великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны.

В. А. Жуковский. Гравюра XIX века
Воцарился Николай I, и Жуковский был назначен наставником к великому князю Александру Николаевичу. Конечно, к известному событию, ознаменовавшему собою начало этого царствования, Жуковский относился с нескрываемым ужасом.
«Милая Дуняша, – пишет он Елагиной из Петербурга в декабре 1825 года, – у нас все спокойно теперь. Но мы видели день ужасный, о котором вспомнить без содрогания невозможно. Но это – дело Промысла… Он показал России, что на троне ее – Государь с сильным духом… Теперь будущее исполнено надеждой…»
«Верить, любить и надеяться» – было постоянным девизом Жуковского, несмотря на то, что события ясно говорили поэту о невозможности осуществления многих и многих даже скромных надежд.
Здоровье поэта, однако, становилось незавидным, и он с трудом взбирался, чувствуя слабость и одышку, по высокой лестнице в свою квартиру, отведенную ему в Зимнем дворце. Его отпустили за границу лечиться; в мае
1826 года он туда и отправился. В Эмсе поэт встретился со своим дерптским приятелем Рейтерном. Жуковский и не подозревал тогда, что в семье приятеля растет девочка, которая через пятнадцать лет будет подругой его жизни и даст ему то «семейное счастье», о котором он давно просил у судьбы.
Лечение восстановило силы поэта, и он с энергией и усидчивостью принялся за приготовления к своей должности наставника будущего государя. Из писем поэта мы видим, что его озабочивала всякая мелочь; он, между прочим, собирал за границей библиотеки на французском и немецком языках для своего питомца. В Россию Жуковский вернулся в октябре 1827 года.
Мы не можем из-за размеров нашего очерка подробно останавливаться на заботах Жуковского о своем ученике и на плане образования последнего: это потребовало бы от нас много места. Скажем только, что все силы свои в течение пяти-шести лет поэт отдавал этому делу, сознавая всю высокую цель его и серьезную ответственность, взятую на себя. В обширном и разработанном в мельчайших деталях плане обучения цесаревича показаны все те науки, которые он должен был изучить, постепенно переходя от простого к более сложному; указано время и количество занятии, а также и самый способ преподавания.
«В голове одна мысль, в душе одно желание, – пишет поэт к Анне Петровне Зонтаг, – не думавши, не гадавши, я сделался наставником Наследника престола! Какая забота и ответственность! Занятие питательное для души! Цель для целой остальной жизни! Чувствую ее великость и всеми мыслями стремлюсь к ней!.. Занятий множество. Надобно учить и учиться, время захвачено… Прощай навсегда, поэзия с рифмами!!.»
Жуковский присутствует на уроках, следит за всеми частностями преподавания, выбирает учителей. Что он за это время был очень занят, видно и из «Записок» Смирновой: ее завлекательный салон поэт в эту пору не особенно часто посещал, отговариваясь «делами». Но, как ни много было обязанностей у Жуковского, это не мешало ему быть доступным для друзей и знакомых.
Обилие работы, однако, не изменяло пунктуальных привычек поэта. Как бы поздно ни ложился он, – вставал всегда в пять часов утра. В квартире его царил образцовый порядок, хотя это не мешало ей быть изящной и уютной. На большом письменном столе красовались бюсты царской фамилии, в углах комнат – гипсовые слепки античных статуй, на стенах висели картины и портреты. Обычная поза Жуковского дома была следующая: он сидел на турецком диване, поджав ноги, покуривая табак из длинного чубука с янтарным мундштуком. Форма его головы, желтоватое лицо, небольшие, но быстрые глаза, тучное телосложение, басовый голос – все это являлось признаками, указывавшими на его происхождение от турчанки.
В феврале 1829 года Жуковского постигло новое несчастье: скончалась в Италии давно уже болевшая A.A. Воейкова. Все эти утраты, указывая на горести земной жизни, очень действовали на душу поэта, может быть склонного уже думать и о собственном конце. Но и в связи с этим событием мы опять встречаем в Жуковском те черты, которые видели ранее.
«Саша, ангел мой, – пишет он Воейковой за несколько дней до ее смерти, – может быть, ты уже стала ангелом во всех отношениях. В твоем переходе в жизнь, столь достойную тебя, есть что-то чистое. Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем… Твоя душа сотворена для того, чтоб с полной ясностью встретить переход в лоно Божие…»
Эти строки, если бы они не были внушены чистой верой, могли бы показаться жестокой насмешкой здорового человека над умирающей женщиной, к которой они были адресованы.
Трогательную заботливость обнаружил несребролюбивый Жуковский об участи оставшихся после подруг его детства сирот. Он не жалел ни времени, ни средств, ни трудов, чтоб только обеспечить их будущность. И когда читаешь письма поэта, посвященные этому вопросу, то видишь всю чистоту кроткой его души.
Эта же кристальная чистота видна и в отношениях Жуковского с Пушкиным, перед которым независтливый романтик скромно склонял свою голову как перед гением русской поэзии.
Пушкин был на 16 лет моложе Жуковского, что не помешало им сблизиться и стать друзьями. Еще в лицее Жуковский отметил талантливого юношу. По выходе из лицея Пушкин, записанный в «Арзамас», встречается там с полюбившимся ему ранее и уже знаменитым поэтом. Бурная, шаловливая жизнь автора «Онегина» доставила немало забот его маститому другу. Только благодаря хлопотам Жуковского Пушкину было возвращено право въезда в столицы, и после долгого изгнания он 8 сентября 1826 года снова появляется в Петербурге. Особенное сближение поэтов относится к 1831 году: оба они по причине холеры жили продолжительное время в Царском Селе. Здесь у них затеялось что-то вроде литературного турнира; тут Жуковским написаны «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек», «Сказка о царе Берендее». Но все названные сказки далеко уступают неподражаемым пушкинским образцам, в которых брызжет народность, тоща как сказки Жуковского скорее являются переделкой иностранных произведений этого сорта, подделанных под русскую «народность». Пушкин сердечно отплачивал Жуковскому за его дружбу, обмолвившись насчет «певца» лишь одной-двумя эпиграммами. Он признавал, что многим обязан автору «Светланы»… В недавно найденных строфах «Евгения Онегина» мы читаем по адресу Жуковского:
И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец
Ты, идол девственных сердец, —
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал?
В «Записках» Смирновой есть много интересного о знаменитостях нашей литературы… Салон этого «небесного дьяволенка», как звал Жуковский Смирнову, собирал цвет интеллигенции, – увы! – не особенно пышный. Время там проходило в игривой, остроумной беседе… Наиболее частыми посетителями у Смирновой были Пушкин, Жуковский, Вяземский, Карамзины. Бывал там и «бедный, грустный, упрямый хохол», как зовет Смирнова Гоголя. Жуковский был с Пушкиным на «ты». Их звали «Орест» и «Пилад».
Что Жуковский глубоко ценил автора «Онегина», видно хотя бы из такого эпизода. Увидев как-то Гоголя записывающим за Пушкиным, он сказал «хохлу»:
– Хорошо делаешь, что записываешь за Пушкиным: каждое его слово драгоценно…
– Жуковский – отец-кормилец моей музы! – говорил Пушкин у Смирновой.
Интересно, что Жуковский сватался за Смирнову, но та отказала; она, однако, братски любила «Жука», как называла поэта. Конечно, этот отказ не испортил отношений друзей.
– У Жука небесная душа! – сказал раз, разговаривая со Смирновой, Пушкин.
– Да, хрустальная душа!
– Всякий раз, – докончил Пушкин, как мне придет дурная мысль, я вспоминаю и спрашиваю, что сказал бы Жуковский. И это возвращает меня на прямой путь…
«Я никого и ничего не знаю, – говорит Смирнова, – лучше и добрее Жуковского. Как он тревожится по поводу Рудого Панька (Гоголь)… Он подбадривает Гоголя… Жуковский – воплощенная, бесконечная доброта!»
А Пушкин добавил:
– Во всей его обширной особе не найдется жолчи, чтоб убить зловредную муху!
Мы привели эти подробные выдержки, чтоб лучше показать, какие отношения существовали между поэтами, и для характеристики Жуковского, к чему, впрочем, мы еще возвратимся.
И старому Жуковскому пришлось закрыть глаза своему молодому гениальному другу!
29 января 1837 года скончался Пушкин, сраженный рукою пустого Дантеса, приехавшего в Россию «на ловлю счастья и чинов».
Сердечно оплакал вместе со всеми, кто способен был в России мыслить, Жуковский кончину друга. В известном письме к отцу поэта Жуковский описывает последние дни Пушкина в трогательных и полных искренней печали словах.
«Нашего Пушкина нет! – пишет он. – В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами… Россия лишилась своего любимого национального поэта! У кого из русских с его смертию не оторвалось чего-то родного от сердца?»
Эти полные грусти слова делают честь скромному Жуковскому, без колебаний отдающему почившему пальму первенства в том деле, в котором сам Василий Андреевич был великим мастером. И этой скромности могли бы позавидовать многие напыщенные бездарности с «грошовой амуницией и рублевой амбицией», которых немало встречается во всех областях искусства.
Жуковскому достался от Пушкина знаменитый перстень-талисман, который он хранил как драгоценное воспоминание о поэте.
В 1832 году Жуковскому снова пришлось лечиться и путешествовать. Он был в Италии и прожил несколько недель в Риме. Письма, писанные им оттуда, представляются как по форме, так и по интересным подробностям образчиками тогдашней изящной прозы. К этому времени относится окончание им переложения на русский язык повести де ла Мотт Фуке «Ундина». Жуковский чувствовал слабость к этому своему детищу и хотел всячески украсить издание перевода. К книге были сделаны Майделем прекрасные рисунки. «Ундина» появилась, изданная Смирдиным, в 1837 году.
По достижении учеником Жуковского совершеннолетия решено было дать ему возможность познакомиться с Россией. Две трети 1837 года были посвящены путешествию великого князя по родине. Маршрут и «путеуказатель» были составлены Жуковским и Арсеньевым. В это-то путешествие сопровождавший цесаревича поэт, будучи в Воронеже, обласкал Кольцова, еще ранее узнав его в Петербурге. «Прасол»[7]7
Скупщик мяса и рыбы для розничной распродажи; гуртовщик, торговец скотом; перекупщик, кулак (Словарь В. Даля), A.B. Кольцов родился в семье прасола.
[Закрыть] был в восторге от оказанной ему поэтом-царедворцем чести, о чем восторженно писал Краевскому. В это же путешествие Жуковский посетил и Мишенское, произведшее на него грустное впечатление своим запустением.








