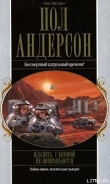Текст книги "Город иллюзий (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
С тех пор как мы вышли из загаженного извержением вулкана ущелья, после всех тягот трудного дневного перехода и бесконечных волнений у нас все-таки остаются еще душевные силы, так что мы снова стали подолгу беседовать, устроившись после ужина в палатке. Поскольку сейчас у меня кеммер, я предпочел бы вообще не видеть Аи, что весьма затруднительно, поскольку палатка у нас двухместная. Разумеется, основная трудность в том, что у него, благодаря любопытным особенностям земного организма, тоже как бы кеммер, причем постоянный. Должно быть, это весьма странное, необычное для гетенианцев и не слишком активное половое влечение, раз оно растянуто на целый год и всегда точно известно, к мужскому или женскому типу оно относится. Вот с чем я столкнулся, да еще в таком состоянии! Сегодня вечером мое возбуждение было довольно трудно не заметить, а я слишком устал, чтобы произвольно впасть в антитранс или как-то иначе подавить свои чувства в соответствии с учением Ханддары. В конце концов он спросил, не обидел ли он меня. Я с некоторым смущением объяснил собственное молчание. Боялся, что он станет надо мной смеяться. Он уже давно перестал быть для меня диковинкой или сексуальным извращенцем. Я сам таков. Здесь, на Леднике, каждый из нас уникален, каждый воспринимается как данность, по отдельности; я отрезан от мне подобных, от своего общества и его законов точно так же, как и он от своего. В этом ледяном мире не существует других гетенианцев, способных подтвердить и объяснить мою нормальность. Наконец-то мы оба равны. Равны и чужды друг другу. И оба одиноки. Он, конечно же, смеяться не стал. Но в его обращении со мной вдруг проявилась такая нежность, о которой я и не подозревал: никогда не думал, что он может быть так мягок. Потом он заговорил об одиночестве, об изолированности от своего мира:
– Ваша раса удивительно одинока даже в своем собственном мире. Здесь нет больше никого из млекопитающих. Никого из двуполых. Нет даже достаточно разумных животных, которых можно было бы приручить. Это, безусловно, повлияло на образ вашего мышления – я имею в виду не только научное мышление, хотя вы обладаете просто поразительной способностью строить гипотезы. Не менее поразительно и то, что вы сумели выработать определенную концепцию эволюции, несмотря на непреодолимую пропасть между вами самими и находящимися на крайне низком уровне развития прочими живыми существами. Но я прежде всего имел в виду вашу философию и чувственное восприятие: быть единственным исключением в столь враждебной среде немыслимо трудно; это неизбежно должно было сказаться на вашем мировоззрении.
– Последователи Йомеш сказали бы, что божественность человека и проявляется в его уникальности.
– Да, пожалуй. Человек – царь природы. Другие религии в других мирах сделали тот же вывод. Это чаще всего религии обществ динамичных, агрессивных, разрушительно воздействующих на экологию. Оргорейн тоже пошел по этому пути – со своими особенностями, конечно. Они, похоже, склоняются к тому, чтобы в итоге подчинить себе весь окружающий мир. А что по этому поводу говорят ханддараты?
– Что ж, в Ханддаре… понимаете, там не существует никакой теории, никаких догм… Возможно, ханддараты меньше обращают внимание на пропасти, что разделяют человека и животных, значительно больше интересуясь их сходством, их связями друг с другом, тем единством, тем целым, которое включает в себя все живые существа. – В тот день у меня все время в голове вертелись стихи Тормера Лая, и я произнес их вслух:
Свет – рука левая тьмы,
Тьма – рука правая света.
Двое – в одном, жизнь и смерть,
И лежат они вместе.
Сплелись нераздельно,
Как руки любимых,
Как путь и конец.
Голос мой дрожал, когда я произносил эти строки: я вспомнил, как в своем предсмертном письме ко мне мой брат процитировал те же стихи.
Аи долго думал, потом сказал:
– Вы все одиноки и в то же время неотделимы друг от друга. Возможно, вы в той же степени находитесь под влиянием своей целостности, своего монизма, как мы – под влиянием дуализма.
– Но мы ведь тоже дуалисты. Двойственность мира – в основе всего, разве нет? Хотя бы пока существуют понятия «я» и «другой».
– Я и Ты, – сказал он. – Да, это действительно в конце концов значительно более широкое понятие, чем просто половая противопоставленность…
– Расскажи мне, каковы особенности представителей иного, чем твой, пола?
Он выглядел озадаченным; да, по правде говоря, и меня озадачил мой собственный вопрос; при кеммере иногда вылетают такие вот неожиданные вопросы, проявляются неожиданные эмоции. Нам обоим стало неловко.
– Я никогда об этом не думал, – сказал он. – А ты никогда не видел женщины. – Он использовал свое, земное слово, которое я знал.
– Я видел у тебя их изображения. Они – эти женщины – похожи на гетенианца в период беременности, только груди у них побольше. А они сильно отличаются от вас своим менталитетом, поведением? Может быть, это просто другая разновидность людей?
– Нет. Да. Нет, конечно же, нет. По крайней мере в основном. Но отличия очень существенные. Я считаю, что наиболее важным, определяющим фактором в жизни любого человека является то, кем он родился: мужчиной или женщиной. По большей части в человеческих обществах с этим фактором связано все: ожидания и надежды, трудовая деятельность, перспективы, кругозор, этика, внешность и поведение – почти все. Лексика. Семиотика. Одежда. Даже отношение к еде. Женщины… женщины обычно едят меньше мужчин… Невероятно трудно отделить врожденные различия полов от тех, что привиты цивилизацией. Даже в тех обществах, где женщины столь же социально активны, как и мужчины, им по-прежнему приходится вынашивать детей, и – чаще всего – заниматься их воспитанием…
– В таком случае у вас равноправие вовсе не основной закон? Может быть, они уступают мужчинам в умственном отношении?
– Не знаю. У них, похоже, не слишком часто проявляются способности к математике или композиции. Или к изобретательству, или просто к абстрактному мышлению. Но это не потому, что они глупее мужчин. Физически они немного слабее, но, с другой стороны, намного выносливее. Психологически же…
Он внезапно умолк, уставился на раскаленную печку и затих; потом потряс головой и сказал:
– Харт, ну не могу я объяснить тебе, что такое женщины! Я как-то никогда не думал об этом абстрактно и – о Господи! – практически позабыл, какие они, понимаешь? Я ведь уже два года здесь… Тебе этого не понять. В некотором смысле женщины для меня куда более чужие, чем ты. Куда большие «инопланетяне». С тобой я как-никак все-таки одного пола… – Он отвернулся и рассмеялся, горестно и неловко. У меня самого чувства были сложными, и мы оставили эту тему.
Йирни Танерн.
Сегодня прошли двадцать пять километров. Двигались по компасу на северо-восток, шли на лыжах. Уже через час совершенно перестали попадаться торосы{4} и трещины. Впряглись в сани цугом, я впереди со щупом, чтобы определить плотность покрова, однако в этом, как оказалось, не было нужды: фирн слоем в полметра покоится на мощном ледниковом щите, а сверху фирна насыпало еще по крайней мере сантиметров двадцать плотного снега; поверхность почти ровная. Идти очень легко и тащить сани ничего не стоит, даже трудно поверить, что на них еще по крайней мере килограммов тридцать поклажи. Весь день тянули сани по очереди – при такой замечательной поверхности и один мог с этим справиться без труда. Жаль, что самая трудная часть нашего путешествия – подъем и путь по каменистому ущелью – пришлась на те дни, когда сани были еще тяжело нагружены. Теперь мы идем налегке. Слишком налегке; я все время ловлю себя на мысли о еде. Питаемся мы, по словам Аи, словно эльфы. Весь день шли легко и быстро по ровной поверхности ледяного плато, абсолютно белой под серо-голубыми небесами, по девственно чистым, нетронутым снегам, и эта ровная белизна лишь кое-где, далеко позади нас, как бы проткнута темными вершинами молодых вулканов, да еще совсем далеко, за этими вершинами, совсем над горизонтом, темная дымка – дыхание Драмнера. И вокруг ничего, лишь солнце под вуалью тумана и Лед.
Глава 17. Миф о создании Орготы
Корнями этот миф уходит в доисторический период; он существует во множестве вариантов и версий. Это – одна из наиболее примитивных версий. Она взята из дойомешского письменного источника, обнаруженного в пещерном храме Исенпет обитаемых районов Ледника Гобрин.
В самом начале не было ничего, кроме льда и солнца.
За много-много лет солнце, растопив льды, выжгло в них глубокую трещину. По краям этой бездонной пропасти лежали большие ледяные глыбы самой различной формы. Ледяные глыбы таяли, и капли талой воды все падали и падали вниз, в пропасть. Одна из глыб сказала: «У меня кровь идет». Вторая сказала: «Я плачу». А третья сказала: «Я потею».
И тогда эти ледяные глыбы отодвинулись подальше от края пропасти и встали посреди ледяной равнины. Та, что сказала, что у нее идет кровь, дотянулась до солнца, вытащила пригоршню экскрементов из его живота и сотворила из них земляные холмы и поля. Та, что сказала, что плачет, дохнула на лед и, растопив его, создала моря и реки. Та, что сказала, что потеет, смешала землю и воду морскую и сотворила деревья, травы, полезные злаки, зверей и людей. Растения росли на земле и на дне морском, звери бегали по суше и плавали в водах океана, но люди никак не просыпались. И было их всего тридцать девять. Они спали на льду и не шевелились.
Тогда все три глыбы льда быстро согнулись и сели, задрав вверх колени, а потом позволили солнцу растопить их до конца. Они таяли, превращаясь в молоко, которое потекло прямо во рты спящих, и спящие проснулись. И молоко это с тех пор пьют лишь дети человеческие, ибо без этого молока не пробудятся они к жизни.
Первым пробудился Эдондурат. И таким он был высоким, что, когда встал, голова его задела небо, и выпал снег. Он увидел, что остальные ворочаются, просыпаясь, испугался того, что они двигаются, и от страха убил их одного за другим лишь слабым ударом своей огромной руки. Он успел убить уже тридцать шесть человек, когда один из спящих, предпоследний, убежал. И получил он имя Хахарат. Далеко убежал он по ледяной равнине, за земляные поля, а Эдондурат упорно преследовал его, наконец догнал и слегка ударил ладонью. Хахарат упал и умер. Тогда Эдондурат вернулся к Месту Рождения на Ледник Гобрин, где лежали тридцать шесть мертвых тел, но последний оставшийся в живых человек исчез. Ему удалось спастись, пока Эдондурат преследовал Хахарата.
Из замерзших тел своих братьев Эдондурат построил дом, засел внутри и стал поджидать, когда вернется тот, оставшийся в живых. Каждый день кто-то из мертвецов непременно спрашивал вслух: «Жжется ли он? Жжется ли он?» А остальные, едва ворочая замерзшими языками, говорили в ответ: «Нет, нет». Потом Эдондурат во сне вступил в кеммер, спал беспокойно, ворочался и разговаривал вслух, а когда проснулся, все мертвецы в один голос твердили: «Он жжется, жжется!» И тот последний, что остался в живых, самый младший его брат, услышал, как они говорят, и пришел в дом Эдондурата, построенный из мертвых тел, и они полюбили друг друга. А потом у них родились дети, от которых пошли разные народы; плоть от плоти Эдондурата были эти дети, из чрева Эдондурата вышли они в этот мир. Имя же второго брата и отца детей неизвестно.
При каждом из рожденных братьями детей была некая частица тьмы, которая следовала за ними повсюду, куда бы они ни пошли при свете дня. Эдондурат сказал: «Почему это моих сыновей повсюду преследует тьма?» А его кеммеринг ответил: «Потому что они родились в доме, построенном из мертвой человеческой плоти, вот смерть и преследует их по пятам. Они все – как бы посреди времен. В начале были только солнце и лед и не было никакой тени. В конце, когда мы исчезнем, солнце поглотит самого себя и тень поглотит свет, и тогда не останется ничего, только Лед и Тьма».
Глава 18. На ледяном плато
Порой, засыпая в темной тихой комнате, я на мгновение ощущаю себя во власти бесценной иллюзии вернувшегося прошлого. Стенка палатки как бы снова касается моего лица, совершенно невидимая, но за ней отчетливо слышен легкий, скользящий, слабый звук: шуршание снега, несомого ветром. Кругом непроницаемая тьма. Свет в печке выключен, и сейчас она представляет собой лишь источник тепла, самую его сердцевину. Чуть влажное ограниченное пространство тесноватого спального мешка… шорох снега… едва слышное дыхание Эстравена, спящего рядом; темнота. И больше ничего. Мы оба находимся внутри ее, в теплом убежище, в покое, как бы в центре всего сущего. За стенами палатки распростерта великая вечная тьма, холодное мертвящее одиночество.
В такие счастливые моменты, засыпая, я совершенно определенно знаю, что самое главное в моей жизни – там, в том времени, что прошло, ушло навсегда и все-таки существует вечно: бесконечно длящийся миг, средоточие тепла.
Я не пытаюсь доказать, что был счастлив в те долгие недели, когда тащил сани по ледяному полю гибельной зимой. Я был голоден, истощен, меня часто мучила тревога, и тяготы со временем только усиливались. Нет, конечно же, счастлив я не был. Счастья не бывает без причины, и лишь разумная причина вызывает счастье. Но то, что было дано мне тогда, нельзя заслужить, нельзя удержать и часто даже нельзя распознать. Я имею в виду радость.
Я всегда просыпался первым, обычно еще до рассвета. Скорость метаболических процессов в моем организме чуть выше гетенианских норм, и сам я выше и тяжелее; Эстравен все это учел, рассчитывая наш рацион, причем учел с той дотошной скрупулезностью, которая обычно свойственна либо опытной домашней хозяйке, либо истинному ученому, так что с самого начала я имел в день граммов на пятьдесят больше пищи, чем он. Протесты по поводу столь «несправедливого» дележа пришлось прекратить ввиду неразумности. Но как бы тщательно он еду ни делил, порция все равно была очень маленькой. Я все время был голоден, голоден постоянно, и с каждым днем голод усиливался. Я просыпался оттого, что страшно хотел есть.
Если все еще было темно, я включал печку на максимум и ставил на нее котелок с подтаявшим за ночь куском льда, который вносили в палатку с вечера. Эстравен тем временем, как обычно, молча и яростно боролся со сном, словно со злым духом. Одержав победу, он садился, уставившись на меня мутным взором, тряс головой и окончательно просыпался. Пока мы одевались, обувались, собирали и укладывали вещи, поспевал завтрак: котелок кипящего орша и по одному кубику гиши-миши, который мы разбавляли горячей водой, превращая в тестообразную кашицу. Мы вкушали пищу медленно, торжественно, подбирая каждую упавшую крошку. Пока мы ели, печка остывала. Мы упаковывали ее вместе со сковородкой и котелком, надевали свои куртки с капюшонами, теплые рукавицы и выползали наружу, на свежий воздух. Все время было невероятно, непереносимо холодно. Каждое утро мне приходилось снова и снова заставлять себя поверить в то, что все случившееся со мной – правда. Если же приходилось выходить на улицу дважды, то во второй раз покинуть палатку оказывалось еще труднее.
Иногда шел снег, а порой длинные лучи восходящего солнца ложились удивительными золотисто-голубыми полосами на бесконечные километры ледяной поверхности; чаще же всего небо было серым.
По ночам мы убирали термометр в палатку, и, когда выносили наружу, забавно было видеть, как ртуть резко устремлялась вправо (у гетенианцев шкала расположена против часовой стрелки). Температура падала настолько стремительно, что трудно было уследить, как она минует отметку 0 °C. Останавливалась она обычно между −20° и −50 °C.
Пока один из нас складывал и упаковывал палатку, второй пристраивал на сани печку, дорожные сумки и тому подобное; палаткой мы прикрывали сверху все остальное, и можно было трогаться в путь. В нашем распоряжении было мало металлических предметов, но постромки скреплялись алюминиевыми пряжками, слишком тонкими, чтобы застегнуть их в рукавицах, и они обжигали голые пальцы на морозе так, словно были раскалены докрасна. Мне приходилось быть особенно осторожным, действуя голыми руками при −30 °C и ниже. Особенно если дул ветер. Я удивительно быстро обмораживался. Зато ноги у меня совсем не страдали, а это при подобном зимнем путешествии самое главное, ведь за какой-то час можно на неделю, а то и на всю жизнь превратиться в хромого калеку. Эстравену, собираясь в путь, пришлось угадывать мой размер обуви, и сапоги, которые он мне купил, были немного великоваты, однако лишняя пара носков прекрасно решала этот вопрос. Итак, мы надевали лыжи, как можно скорее впрягались в постромки, застегивались и одним рывком отдирали примерзшие полозья от снега. Начинался очередной переход.
По утрам после обильного снегопада порой приходилось какое-то время откапываться. Свежий снег отгрести было нетрудно, хотя палатку и сани заметало весьма внушительного вида сугробами; такие сугробы, пожалуй, были теперь основным препятствием в нашем долгом, в сотни километров, пути по ледниковому плато.
Мы шли на восток по компасу. Ветер обычно дул с севера, с Ледника. День за днем он упорно дул слева, и капюшон от него не спасал. Я надел еще маску, чтобы защитить нос и левую щеку от обморожения. И все-таки умудрился отморозить левое веко; веко распухло, и глаз целый день не открывался; я уж решил, что навсегда утратил способность видеть им: даже когда Эстравен отогрел его с помощью языка и дыхания, как-то заставив веки раскрыться, я некоторое время ничего не видел им – наверное, отморозил и что-то внутри. В солнечную погоду мы оба надевали особые гетенианские надглазные щитки, чтобы избежать снежной слепоты. Гигантский Ледник, как объяснял Эстравен, удерживал над своей центральной частью мощный антициклон, и тысячи квадратных километров заснеженных льдов являли собой сплошное, нестерпимо сверкающее в солнечных лучах поле. Мы, однако, находились не в центральной части Ледника, а на самом ее краешке, как бы между зоной высокого давления и зоной вихрей, отражающихся от поверхности Ледника; здесь бывают страшные метели, которые Ледник частенько насылает и на прилегающие к нему районы. Ветер, дующий точно с севера, приносил с собой устойчивую ясную погоду, однако если он начинал дуть с востока или с запада, то разыгрывалась поземка{6}, завиваясь в ослепительные, жгучие вихри, похожие на пыльные смерчи; иногда поземка ползла по самой поверхности Ледника, а небо вдруг становилось белым, и воздух белым, солнце скрывалось в этой белой пелене, и мы переставали отбрасывать тени; даже снег под ногами, даже сам Ледник как бы исчезали.
Где-то около полудня мы устраивали привал: вырезали из снега несколько кубов и делали стенку, защищавшую нас от ветра. Кипятили воду, разводили в ней гиши-миши и выпивали эту теплую питательную кашицу, иногда положив туда еще кусочек сахара. Потом снова впрягались в сани и шли дальше.
Мы редко беседовали в пути или во время краткого привала: губы были обожжены морозом и растрескались, а стоило приоткрыть рот, как от холода начинали ныть зубы, огнем жгло горло и легкие; было просто необходимо молчать и дышать только носом – во всяком случае, когда температура опускалась до сорока-пятидесяти градусов. Когда же было еще холоднее, затруднительным становился вообще сам процесс дыхания, потому что выдыхаемый воздух тут же замерзал на лице, и если не уследишь, то ноздри моментально намертво закупоривала ледяная корка; тогда, чтобы спастись от удушья, приходилось полным ртом глотать режущий, как бритва, морозный воздух. Иногда выдыхаемый и тут же замерзающий влажный воздух вылетал из носа с каким-то легким треском, словно где-то далеко взрывалась шутиха, и на лицо падал целый фейерверк крошечных ледяных кристалликов; каждый выдох, таким образом, превращался в небольшую снежную бурю.
Шли обычно до полного изнеможения или по крайней мере до наступления темноты; только тогда останавливались, ставили палатку, разгружали сани, закрепляли их колышками при сильном ветре и устраивались на ночлег. Обычно в день мы шли часов по одиннадцать-двенадцать и делали от восемнадцати до двадцати пяти километров.
Похоже, скорость была недостаточно высока, однако и условия не всегда нам благоприятствовали. Снежное покрытие редко одинаково хорошо годилось для лыж и для санных полозьев. Если, например, снег был свежим и легким, то сани скорее тонули в нем, нежели скользили по поверхности; если же снег покрывался коркой, то сани шли хорошо, зато мы на своих лыжах постоянно скользили; когда же наст был совсем плотным, то на нем часто встречались обледенелые наносы, заструги{7}, которые порой достигали высоты человеческого роста. Тогда приходилось без конца преодолевать острые гребни и фантастической формы горки, потому что заструги, как назло, всегда располагались поперек избранного нами маршрута. Раньше я воображал, что плато Ледника Гобрин ровное, как замерзший пруд; но вокруг нас расстилалась многокилометровая равнина, больше похожая на внезапно застывшее штормовое море.
Бесконечные заботы о том, как безопасно установить палатку, закрепить сани, непременно очистить весь налипший на одежду снег и так далее, страшно надоедали. Порой все это казалось совершенно бессмысленным. Порой мы останавливались на ночлег так поздно и были настолько продрогшими и усталыми, что хотелось просто снять с саней спальный мешок и улечься в глубокий санный след, не ставя никакой палатки. Я ясно помню, как сильно мне этого хотелось в отдельные дни и как яростно я сопротивлялся методичной тиранической настойчивости своего спутника, непременно требовавшего, чтобы мы все делали как следует и тщательно готовились к ночлегу. В такие моменты я его ненавидел, ненавидел лютой, смертельной, какой-то нутряной ненавистью. Я ненавидел те жесткие, неуклонные, неотменимые требования, которые он мне предъявлял – во имя жизни.
Когда все бывало сделано и мы наконец оказывались в палатке, почти сразу тепло от печки Чейба накрывало нас своим уютным колпаком. Удивительная, замечательная вещь – тепло! Смерть и холод отступали, оставались где-то снаружи.
Ненависть тоже оставалась снаружи. Мы ели и пили горячее. Потом разговаривали. Когда мороз был особенно свирепым и даже идеальное в смысле теплоизоляции покрытие палатки не могло уберечь нас от холода, мы устраивались почти вплотную к печке. Изнутри палатка за ночь покрывалась короткой шерсткой инея. Если хоть на миг приоткрывалась войлочная дверь, ворвавшийся поток ледяного воздуха тут же конденсировался и превращался в изморозь. Если же снаружи была метель, то иголочки леденящего ветра проникали сквозь вентиляционные отверстия, хотя те были самым тщательным образом защищены, и в палатке повисала практически неощутимая снеговая пыль. В такие ночи буря выла и стонала так громко, что мы не могли даже нормально разговаривать, приходилось кричать друг другу в ухо. Порой ночная тишина бывала настолько полной, что представлялось, что во Вселенной только еще нарождаются первые звезды или, наоборот, уже наступил конец света.
Где-то через час после ужина Эстравен чуть уменьшал мощность нагревателя, если позволял мороз, и выключал свет. Делая это, он бормотал короткую прелестную молитву или заклинание – единственное, что я запомнил из мудрости Ханддары: «Восславься же, о Тьма и незавершенность Мироздания!» Так говорил он, и наступала тьма. Мы засыпали, чтобы утром все начать сначала.
Так продолжалось целых пятьдесят дней.
Эстравен по-прежнему вел свой дневник, хотя за те недели, что мы шли по Вечным Льдам, он редко писал много, чаще только записывал дневную температуру и пройденный километраж. Среди этих записей порой встречаются отдельные, обрывочные его мысли, отрывки наших бесед, но ни слова о том молчаливом диалоге, что постоянно продолжался меж нами в течение всего первого месяца на Леднике, пока у нас еще хватало сил беседовать после ужина, а также когда нам пришлось провести несколько дней в палатке из-за сильной пурги. Я, например, рассказал ему, что мне не запрещается – однако и не поощряется – прибегать к телепатии на чужой планете, не вступившей в Лигу Миров, и попросил его пока сохранить в тайне то, что он узнал от меня, по крайней мере до тех пор, пока я не смогу обсудить свой поступок с коллегами на корабле. Он согласился и слово свое сдержал. И ни разу не произнес вслух и не записал ни слова из того, что касалось наших с ним телепатических бесед.
Искусство телепатического общения – вот то единственное, что я мог подарить Эстравену от имени всей экуменической цивилизации, от имени той чуждой ему жизни, которая так его интересовала. Нарушая Закон Культурного Эмбарго, я отнюдь не стремился заслужить благодарность. Или вернуть Эстравену долг. Такие долги навсегда неоплатны. Просто мы с ним достигли той стадии отношений, когда друг с другом делятся всем, чем можно или стоит поделиться.
Я даже думаю, что в итоге окажется возможной и супружеская любовь между гетенианцем-андрогином и нормальным (по хейнским меркам) однополым гуманоидом, хотя подобный союз, безусловно, будет бесплодным. Это, разумеется, еще нужно доказать; Эстравен и я не доказали ровным счетом ничего, если не считать области возвышенных чувств. Наиболее сложной в плане наших с ним сексуальных отношений была ночь где-то в самом начале пути – вторая ночь, проведенная на ледовом плато. Мы тогда весь день преодолевали торосы, без конца возвращались буквально по собственному следу, стараясь обойти глубокие трещины. Это была ужасная местность к востоку от Огненных Холмов. Мы совершенно вымотались, но не падали духом, надеясь, что вскоре перед нами откроется ровная поверхность плато.
Но после ужина Эстравен вдруг стал каким-то неразговорчивым и довольно скоро совсем умолк. В конце концов я, почувствовав его явное нежелание продолжать беседу, спросил:
– Харт, я снова что-нибудь не так сказал? Снова обидел тебя? Пожалуйста, скажи, в чем дело?
Он молчал.
– Ох, видно, я как-то задел твой шифгретор. Прости. Я никак не могу все это усвоить. Да я, если честно сказать, по-настоящему никогда и не понимал значения этого слова.
– Шифгретор? Оно происходит от старинного слова, примерно значившего «тень».
Некоторое время мы оба молчали, а потом он посмотрел на меня прямо и нежно. Лицо его в красноватом свете печки казалось столь же мягким, ранимым и далеким, каким бывает порой лицо женщины, когда она вдруг глянет на тебя, оторвавшись от собственных мыслей, и промолчит.
И тогда я снова увидел, и очень отчетливо, то, что всегда боялся в нем увидеть, притворяясь, что просто не замечаю этого: он был в той же степени женщиной, что и мужчиной. Всякая необходимость объяснять причину моего внезапного страха улетучилась вместе с самим страхом; мне осталось в конце концов просто принимать его таким, каким он был. Раньше я как-то открещивался от этого, отказывая ему в праве на собственную неповторимость. Он тогда был совершенно прав, когда сказал, что был единственным человеком на всей планете Гетен, который всегда верил мне, и единственным, которому я сам никогда не доверял. Потому что он был единственным здесь, кто полностью принял меня, кто лично испытывал симпатию ко мне, кому я был интересен как личность, кто лично был ко мне расположен. И до конца верен. А потому требовал и от меня аналогичного признания и одобрения. А я тогда никак не хотел признавать его. Я этого боялся. Я тогда совсем не желал отдавать свою веру, свою дружбу мужчине, который одновременно был женщиной. Или женщине, которая одновременно была мужчиной.
Он объяснил сдержанно и просто: у него сейчас кеммер, все это время он старался избегать меня настолько, насколько в таких условиях можно было избегать друг друга.
– Я не должен тебя касаться, – сказал он очень напряженно и отвернулся.
– Понимаю. И полностью с тобой согласен, – ответил я, ибо мне казалось, как, наверное, и ему, что именно из того сексуального напряжения, что возникло тогда меж нами, – теперь допустимого и понятного, хотя и неутоленного, – и родилось ощущение той уверенности во взаимной дружбе, той самой, что так нужна была нам обоим в этой ссылке и так хорошо была доказана долгими днями и ночами нашего тяжкого путешествия. Преданность и дружба эта вполне могла бы быть названа более великим словом: любовь. Но любовь эта возникла именно из-за различий меж нами – отнюдь не из-за сходства в облике или вкусах, нет, именно различиями порождена была эта любовь, и именно она стала тем мостиком, что неожиданно соединил края бездонной пропасти, нас разделяющей. Стать любовниками было бы равнозначно тому, чтобы снова стать чужими. Мы касались друг друга, но только так, как могли себе это позволить. И на этом поставили точку. Не знаю, были ли мы правы.
Мы еще немного поговорили в тот вечер, и я вспомнил, как трудно мне было ответить на его упорные вопросы о том, каковы женщины. Оба мы в достаточной степени чувствовали себя неловко и старались быть осторожнее в словах и поступках по отношению друг к другу еще дня два. Настоящая любовь между двумя людьми всегда в конце концов включает в себя множество способов причинить настоящие страдания, боль. До той ночи мне никогда и в голову не приходило, что я могу причинить Эстравену боль.
Теперь, когда пали эти преграды, ограниченность нашего общения и взаимопонимания стала для меня непереносимой. Очень скоро, дня через два-три, я как-то после ужина сказал своему спутнику (мы только что наелись вкусной, специально приготовленной по случаю тридцатикилометрового дневного перехода сладкой каши из зерен кадик):
– Помнишь, прошлой весной еще в Угловом Красном Доме ты говорил, что хотел бы побольше узнать о том, что такое телепатическая связь?
– Да, верно.
– Хочешь попробовать? Может быть, я смогу и тебя научить пользоваться языком мыслей?
Он засмеялся:
– Хочешь поймать меня на лжи?
– Если ты когда-либо и лгал мне, то это было очень давно и совсем в другой стране.
Он был очень честным человеком, хотя крайне редко выражал свои мысли напрямую. Мои слова его развеселили, и он сказал:
– В «совсем другой стране» я мог бы придумать для тебя и новую ложь. Но я считал, что тебе запрещено обучать этому вашему искусству… туземцев, пока они еще не присоединились к Экумене.
– Не запрещено. Просто не принято. Но если ты хочешь, я все-таки попробую. Если смогу. Учить я не очень-то умею.
– А что, для этого есть специальные учителя?
– Да. Но не на Земле. Хотя считается, что земляне в большинстве своем от природы одарены способностью к телепатическому общению и что матери якобы могут мысленно разговаривать со своими не рожденными еще детьми. Не знаю, что уж там отвечают им дети. Но почти всех нас было необходимо этому искусству учить – как учат иностранному языку. Или как если бы то был наш родной язык, но мы стали изучать его слишком поздно.