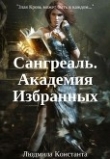Текст книги "Рай забвения"
Автор книги: Урс Видмер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Еще кофе? – спросил я, зевая. – Или, может быть, пива?
– Лучше иди одевайся, – ответил издатель. – Пора ехать. Времени-то уж вон сколько.
Я поплелся в спальню и натянул на себя велосипедные шмотки. В оставленную мной уютную впадину на постели забралась кошка и теперь дрыхла, довольно урча. Я погладил ее и прикрыл, так чтобы видна была только голова. И пошел обратно на кухню. Издатель продолжал изучать мой дневник. Завидев меня, он вскричал:
– Значит, поехали!
И, вскочив, помчался на улицу.
В этот раз нашей целью был Альбис, гора, в списке велосипедных маршрутов Швейцарии отнесенная к третьей категории и не представляющая для профессиональных гонщиков особого интереса. Мой издатель тоже не высказал никаких опасений – знай себе летел как перышко, минуя дорожные зигзаги, все выше к перевалу, – тогда как я, да еще в эту чертову рань, спекся почти сразу, так что мне приходилось то и дело останавливаться, чтобы передохнуть, а под конец меня вместе с велосипедом подсадил крестьянин, ехавший туда же на мотокосилке с пустым прицепом. Издатель тактично не заметил моего опоздания – или, возможно, и в самом деле не обратил внимания на трагизм моего положения, сидя промеж ромашек высотой почти в человеческий рост и доедая содержимое своего необъятного мешка со жратвой. Теперь мне наконец удалось прочесть на его майке имя автора книги: Сесиль Паваротти. Так это баба! Я рухнул в траву, горько сожалея, что не взял с собой никакой провизии. Издатель же, запихивая в рот плитку шоколада, сказал что-то, чего я не разобрал, хотя мне, впрочем, и не до того было, потому что я начал рассказывать ему, как Гепф Вайленман, если я верно помню, или, может быть, это был Эмилио Крочи-Торти, в каком-то богом забытом году, кажется в 1948-м, проиграл главный заезд Лугано-Хур только потому, что не успел взять пакет со жратвой в Сан-Бернардино. Голодная гонка! После этого я умолк и уставился на кролика, медленными скачками перебиравшегося через шоссе. Ромашки, среди которых мы сидели, были мокры от росы.
– Германисты все – дерьмо, – заявил мой издатель с набитым ртом. – Строят из своего ремесла науку, тогда как оно должно быть наполовину ремеслом, наполовину искусством.
Он поднес ко рту свою походную фляжку. Когда он пил, у него прыгал кадык. Напившись, он удовлетворенно вздохнул.
– Между тем все предельно просто, – продолжал он, завертывая крышку. – Тут одно из двух: либо книга мне нравится, либо нет.
– Мне никогда не удавалось дочитать «Recherche» Пруста до конца, – признался я. – Кто такая Сесиль Паваротти?
– Я рад, что ты спрашиваешь об этом!
Мой издатель, как саламандра, скользнул ко мне и положил свою правую руку на мою левую.
– Поверь, я действительно благодарен тебе за то, что ты не избегаешь этой темы. Я знал, что у тебя хватит мужества!
Я немедленно почувствовал себя жалким и покинутым, хотя издатель держал мою руку как в тисках. Он прямо-таки сиял:
– Она работала над этой книгой десять лет! – воззвал он к облакам, плывшим средь голубых небес. – В ней все правда, до последней запятой!
– Неужели? – произнес я, срывая маргаритку. Я пощекотал ее стебельком божью коровку, но улетать той решительно не хотелось.
– Она пишет о женщине, ставшей министром в одной маленькой европейской стране. По долгу службы ей приходится бороться с финансовой мафией, однако ее муж – заправила той же мафии. Он держит в руках все нити, и бедная женщина чувствует себя марионеткой.
– Что-то я такое слышал, – вспомнил я. – У нас ведь была похожая история. Как же ее звали, ту женщину-министра?
– Тс-с! – замахал руками издатель. – Книга проходит по разряду fiction [3]3
Беллетристика (англ.)
[Закрыть]. Ты только представь: если бы речь шла о настоящей Швейцарии и если бы ты, скажем, путем ясновидения узнал хотя бы десятую долю того, что происходит в высших эшелонах власти, и записал хотя бы сотую долю, а я издал бы эту твою книгу – полиция явилась бы к нам в тот же день!
– Это точно, – согласился я.
– Я уволил всех своих сотрудников, – продолжал он, затягивая лямки опустевшего рюкзака. – С одной книгой я и один сумею управиться. Все опять будет как раньше. Коробка из-под ботинок по-прежнему стоит у меня под кроватью, и автор будет ходить ко мне прямо домой.
– Авторша, – уточнил я.
Проигнорировав мое замечание, издатель продолжил свои рассуждения.
– One book, one editor [4]4
одна книга, один издатель
[Закрыть], – значительно произнес он, – вот сегодняшний лозунг издателей в Нью-Йорке. Ну, тут тоже, конечно, кому как повезет. Лорду Уайденфелду, взявшемуся печатать автобиографию Мерил Стрип, повезло не в пример больше, чем Макгроу и Хиллу, ограничившимся последними словами Чарлза Буковски.
– Выходит, теперь везде так? – спросил я. – Все сокращаются? Издатель кивнул.
– Ну, ты-то найдешь другого, я в этом уверен. За тебя я спокоен. Такой мощный профессионал, как ты, без издателя не останется. Я тоже кивнул, однако все же усомнился:
– Но если у них у каждого осталось по одному автору… Или авторше…
– Мой милый, совсем без проблем жизни не бывает, – напомнил он, вскакивая на велосипед. – Поехали!
И рванул вперед так, что только покрышки задымились. Некоторое время я глядел вслед его удаляющейся заднице, а потом подобрал камешек, бросил в пасшегося рядом кролика и попал. Позже, уже возвращаясь домой, я долго не мог понять, отчего у меня на глазах выступили слезы: от озона или от встречного ветра.
Подъехав к дому, я увидел, что издатель сидит у меня на крыльце. А я-то думал, что уже никогда его не увижу! Ему просто не хотелось возвращаться к себе в издательство, и он решил выпить у меня пива. Пока я отпирал дверь, он полез куда-то в трусы и достал влажную от пота фотографию женщины лет тридцати, светловолосой, красивой. Един ственным недостатком Сесиль Паваротти было то, что взгляд ее глубоких глаз предназначался не мне. Мы поднялись по лестнице и снова уселись за кухонный стол.
– «Жизнь Эрики Папп»! – заявил издатель, доставая стакан и наливая в него пиво. – Вот то, о чем надо писать сегодня. История потрясающая! Заглавие, кстати, придумал я сам. Эрика Папп – дочь миллионера, детство и юность прошли на берегу Цюрихского озера, на той самой южной стороне, где владелец какого-нибудь «форда-фиеста» выглядит на фоне других жалким оборванцем. Виллы со спускающимися к озеру садами, кругом цветущие кустарники, выписанные откуда-нибудь с Бали или с Сицилии и рассаженные лучшими архитекторами. Собаки. У родителей Эрики тоже была собака, огромная овчарка, что на самом деле довольно странно, потому что фамилия у них была какая-то еврейская: то ли Гирш, то ли Блох. Родом они были из Германии, но швейцарское подданство у них древнее нашего с тобой, вместе взятых. Когда Эрика потом стала министром полиции, то гоняла инородцев и в хвост и в гриву. Вот о чем ты мог бы написать между прочим.
Я кивнул, не испытывая никакого энтузиазма, потому что голова у меня кружилась от голода. Пооткрывав по очереди все шкафы на кухне, я обнаружил там лишь зубочистки да использованную алюминиевую фольгу. В холодильнике стояла одинокая банка варенья.
– В Швейцарию они переселились вовсе не из-за Освенцима, – продолжал издатель. – Это было в первую мировую войну… Хотя что я говорю, еще задолго до нее. Юная германская демократия тотчас же после 1848 года сделала все возможное, чтобы отравить евреям жизнь, однако в конце века они все еще имели право жить где хотят. Так было и с ее родителями. Они жили в Мюнхене и торговали солодом. Фирма разорилась, и один из ее двоюродных дедушек церемонно, точно прусский офицер, простившись с женой и детьми, удалился к себе и застрелился. Родной дедушка Эрики собрал все, что осталось от фамильного имущества, и перебрался в Цюрих, где снова открыл торговлю солодом, очень скоро приобрел дом, а потом и машину, один из первых автомобилей в городе, – почтенный старичок за рулем в шоферских очках и крагах. Первая мировая, черт знает почему, взвинтила спрос на солод, и в двадцатые годы весь наш Swinging Zurich [5]5
Развеселый Цюрих (англ.).
[Закрыть]только и делал, что хлебал темное пиво, а что было после изобретения овомальтина [6]6
искусственный солод
[Закрыть], и описать невозможно. Дедушка стал поставщиком Двора. Вот скажи, – произнес издатель, осуждающе глядя мне прямо в глаза, – почему ты никогда не пишешь ни о чем историческом, памятном, предпочитая какие-то фантазии?
Я начал было складывать в уме ответ, что, мол, фантазия и есть выражение самого памятного, однако для издателя этот вопрос был чисто риторическим, и он продолжал свою речь. Я успел услышать лишь, как он помянул отца Эрики, и тут у меня случился приступ кашля. От дикого голода воздух попал мне в пищевод. Я кашлял и давился, а издатель все говорил, и когда я опять смог слушать, отец Эрики, очевидно, уже вырос, купил машину, женился, поселился в той вилле над озером и успел родить Эрику, потому что в этой сказке «Тысяча и одной ночи» в изложении моего издателя она весело бегала по чудесным садам, слушая пение пчел, а где-то далеко бушевала вторая мировая война, и в нашей стране царили такие мир и благоденствие, каких никогда не было прежде.
– То make a long story short [7]7
Сократим эту долгую историю
[Закрыть], – продолжил издатель, для которого Нью-Йорк давно стал второй родиной, – ее папаша записался в протестанты, как и положено цюрихцу, и предался свободомыслию, приняв сторону партии фабрикантов текстильных и прочих машин, которая во время войны только потому не стала фашистской, что ее члены de pere en fils [8]8
От отца к сыну (франц.)
[Закрыть]унаследовали уверенность в том, что демократия в том виде, как у них в стране, представляет собой идеальное государственное устройство для желающих без помех зарабатывать деньги. Им фюрер был не нужен, тем более такой. Их прадеды были революционерами, вырвавшими свою демократию из цепких лап господ с напудренными косичками, и они настолько гордились этими своими предками, что могли теперь позволить себе консерватизм, ибо то, чего они хотели, у них уже было: свобода. Их свобода. Эрика выросла, стала совершеннолетней и поступила в университет. Ее папаша надеялся, что она скоро выйдет замуж за кого-нибудь из сыновей его новых знакомых. Однако она была девушка своенравная, насчет морали у нее тоже были свои взгляды, и курс права сумел лишь заполнить ее досуг до того момента, пока ей не встретилась большая любовь. Училась она на отлично, делала доклады, в которых так изящно цитировала своих преподавателей, что те были в полном восторге от ее ума. Она ни с кем не испортила отношений. Незадолго до лиценциата она познакомилась с господином Паппом, ставшим ее судьбой, – юношей из вовсе не богатого дома, который только что закончил учебу и сделался правой рукой председателя той самой свободомыслящей партии (ее еще называли «либеральной»), – адвоката, так и не избавившегося от своего деревенского вида, несмотря на костюмы, пошитые у дорогого портного, и продолжавшего зарабатывать деньги (и немалые) консультациями для крупных промышленников. Юноша, хотя ему было тогда не больше двадцати пяти, быстро превратился в «движущую силу» всех политических группировок, обещавших защитить собственность и видевших в каждом детском велосипеде, выкрашенном в красный цвет, угрозу с коммунистического Востока. Об этом Папп, которого близкие звали Эрнст, своей возлюбленной не рассказывал (хотя это, как выяснилось позже, нисколько ее не пугало); он водил ее на все более длительные и все более ночные прогулки, закончившиеся однажды судорожным стягиванием трусиков под черными деревьями зоопарка. Потные от счастья, оба лежали рядом, тяжело дыша. Теперь и у них была своя тайна. Следующей весной они поженились. Был ослепительно-белый праздник в замке на воде, со ста пятьюдесятью гостями в вечерних платьях и смокингах. К ним заглянул на пару часов даже один госсоветник, подаривший новобрачным ящик шампанского «Эгль». Эрика тоже вступила в либерально-демократическую партию и согласилась вести общественную работу. Эрнст был очень ею доволен. Босс только что назначил его своим первым заместителем, ответственным за работу с объектами и субъектами в странах, где трудно копить деньги. В самом деле, какой южноамериканский промышленник, если он, конечно, не спятил, станет заводить банковские счета в песо или крузейро? У Эрнста была секретарша, часто красневшая и опускавшая голову на руки, лежавшие на столе. Эрика догадывалась, что между ними не все так просто, и однажды, в дождливый Новый год, когда гости наконец разбрелись по машинам и уехали, они остались втроем наедине посреди полопавшихся воздушных шариков и бумажных гирлянд. У Эрнста хватило сил на обеих, и обе женщины преисполнились к нему любовью, превратившей их в любящих сестер. Когда Эрнст уснул, они принялись зализывать раны друг другу. После этого они уже не расставались. Одевались одинаково и говорили о своем муже и возлюбленном, как если бы он был их общим ребенком. Впрочем, круги, в которых они вращались, видали многое, поэтому их альянс деликатно терпели. Эрнст, от которого эта страсть женщин тоже не укрылась, обманывал их во время командировок в Милан, происходивших все чаще, где он уже во второй свой приезд познакомился с одной графиней, взявшей инициативу в свои руки и привязывавшей его к кровати ремнями из черной кожи. Покрасневшими глазами смотрел он на ее сверкающие зубы и плеть, терзавшую его плоть. После третьей командировки ему пришлось давать объяснения обеим дамам, откуда у него полосы как у зебры. Эрика разрыдалась, а секретарша отнеслась ко всему вполне серьезно, решила попробовать сама и чуть не до смерти забила бедного Эрнста. После этого рыдали уже все трое; в конце концов они поклялись никогда больше не делать ничего подобного. Несколько недель они любили друг друга как все нормальные люди. Однако любовные утехи с графиней имели еще одну подоплеку: графиня была связана с мафией, желавшей таким образом поощрить юного цюрихского адвоката как делового партнера. На всякий случай все было заснято на пленку. Узнав об этом, Эрнст провел бессонную ночь, мучаясь жуткими страхами и строя планы, как ему скрыться вместе с Эрикой и Хайди, чтобы начать новую жизнь где-нибудь на берегу теплого моря, в соломенных юбочках и чистоте душевной.
Издатель стянул с себя мокрое от пота трико и сидел теперь с голым торсом. Хотя тренирован он был отлично, с живота все-таки свисали две толстые складки. Его жена умела великолепно готовить, а профессия до сих пор обязывала закатывать роскошные обеды с многочисленными авторами. Теперь он позволял себе лишь diners intimes [9]9
Интимные ужины (франц.)
[Закрыть]c Сесилью, так что жирка должно было поубавиться. Точно прочитав мои мысли – несомненно, он умел читать их, – он заявил, что хочет пиццы, и мне пришлось бежать «Мигрос» напротив. Пока пицца сидела в духовке, он рассказывал, что Сесиль тоже HI плохо ездит на велосипеде. Они уже предприняли с ней пару велосипедных прогулок Она даже на Клаузен сумела въехать, ни разу не сойдя с седла. Сегодня он тоже заезжал сначала за ней, однако, просвистев условленную мелодию под окнами ее спальни, увы дел лишь зевающего мужчину, вышедшего на балкон в лиловом шелковом халате и ее совершенно не похожего на ее мужа, зато в точности походившего на владельца издательства «Ледиг-Ровольт».
– А этот Ледиг-Ровольт умеет ездить на велосипеде? – спросил я, доставая пиццу из духовки. Я разрезал ее на две половинки.
– Я бы не сказал.
– Тогда зачем он ей вообще нужен?
Он недоуменно пожал плечами и вонзил вилку в свою половинку. Я тоже усиленно чавкал. Пицца подгорела снаружи и осталась ледяной внутри. Но издатель был настолько погружен в свои мысли, что этого даже не заметил. Я думал о том, что Ледиг-Роволь как и весь его гамбургский клан, наверное, тоже ест на завтрак стеклянные рюмки; однако Сесиль-то была не стеклянная – во всяком случае, хрупкой ее назвать никак нельзя было, – так что навряд ли стоило опасаться, что он вырвет этот лакомый кусочек из рук моего друга.
Издатель жевал все медленнее, сплевывая непрожеванное в ладонь. Я пододвину ему пепельницу, и он вытряхнул туда остатки пиццы. Кивнув мне, он продолжил свой рассказ:
– Миланские друзья Эрнста Паппа все чаще стали появляться в сопровождении партнеров из Ливана или Боливии. Они прилетали на один вечер, бизнес-классом, при чем, возможно, теми же рейсами, которыми, сидя где-нибудь в хвосте, прибывали и несчастные курьеры, и, пока хозяева ужинали вместе с Эрнстом, те тужились в клозет какого-нибудь дешевого пансионата, пытаясь освободиться от тридцати трех презервативов с героином, проглоченных незадолго перед вылетом. Почему ты об этом никогда не пишешь?
– Когда-нибудь, – ответил я раздраженно, – я заверну такой сюжет, что ты сто раз пожалеешь, что решил его напечатать.
– Жалеть будет твой новый издатель, – возразил старый, вставая. – Почему бы тебе, кстати, не обратиться к Ровольту?
Открыв шкаф, он начал рыться в моих рубашках, пока наконец не выудил одну – это была красная блузка моей жены, из чудесного шелка, та самая, которая осталась; меня после ее ухода и в которую я зарывался лицом еще вчера вечером. Возможно, на ней остались следы моих слез. Моя жена, Иза, любит теперь одного детского хирурга который к тому же еще скульптор-любитель, так что блузка ей ни к чему, потому что ей приходится день и ночь стоять на постаменте, подняв руки над своей чудесной головкой чтобы он мог высекать ее из мрамора. Сейчас эта блузка была на издателе. Там, где когда-то были ее груди, ткань тоскливо провисала.
– Сними! – велел я. – Сними сейчас же!
Вскочив со стула, я ухватился за дорогой шелк. Рука у меня дрожала.
– Спокойно, спокойно, – проговорил издатель.
– И книги у меня гораздо лучше, чем у твоей Сесили! – прокричал я. – Пусть от кажутся вымыслом, но каждое слово в них выстрадано, это память о том, что было на самом деле! А на ту требуху, которой кормит читателей эта Паваротти, даже мартышка не польстится!
– Даже собака.
– Что?
– Обычно говорят: «даже собака», – поправил меня издатель.
Я дернул его к себе через стол, чтобы высказать ему все, и порвал блузку. Она разорвалась на три примерно равные части, одна из которых осталась у меня в руке, а две другие повисли на издателе. Я собрал их воедино и бросил в мусорное ведро. Швырнул издателю свою старую футболку. Он натянул ее. Она была ему узка и коротка.
– Нет, тебе не к Ледигу надо обращаться, а по меньшей мере к Амману, – пробурчал он. – Тот, по крайней мере, хоть здоровый мужик.
– Извини, – пробормотал я. – Нервы ни к черту. Попробовал бы ты сам потерять рукопись, над которой работал четыре года.
– Ничего, старик, – издатель перегнулся через стол, хватая меня за руку. – Я все понимаю.
– Расскажи лучше, чем закончилась твоя история, – попросил я.
Мне было все равно. Моей книги больше не было. Мне хотелось очутиться за столиком у себя в саду и попробовать опять поймать тень моего героя, все еще блуждавшего в круговороте метели, ведь без меня ему оттуда не выбраться. Я взял пепельницу с остатками пиццы и поставил ее в мойку.
Мы стояли у крыльца. Я переминался с ноги на ногу, а мой друг примеривался вскочить в седло. На нем снова было его трико, только надетое наизнанку, так что имя его подружки зеркально просвечивало сквозь тонкую ткань.
– Я напишу свою книгу заново, – сказал я. – Важное не забывается. Только мелочи.
– А если наоборот? – глубокомысленно отозвался он.
Так и не поняв, что он хотел этим сказать, я решил все-таки подать ему руку. Он пожал ее.
Я поднялся по лестнице и пошел мыть руку, пролежавшую в его клешне чуть ли не вечность. Томатный соус и моццарелла. В пепельнице лежала фотография Сесиль Паваротти. Вытерев насухо, я стал вглядываться в нее, в эти красивые глаза. Спустился в «сад», точнее, палисадник, засыпанный галькой, потому что поставить там, например, стол для пинг-понга было бы уже негде. Прямо передо мной высилась стена соседнего дома, такая голубая, что я не раз принимал ее за небо. Некоторое время я просто смотрел на далекий горизонт. Потом открыл тетрадь в коленкоровом переплете и несколько минут раздумывал, о чем же я собирался вспомнить.
Чтобы вновь найти своего старика, мне понадобилось гораздо больше времени. Я сам так заплутал в этой метели, что уже плохо представлял себе дорогу обратно. Старик кружил вокруг купы деревьев, густо осыпанных снегом, – то ли елок, то ли пальм. Лицо его сияло. Нет, он не кружил, а скорее приближался к ним по спирали, находя прежнее место, но тут же отправляясь искать другое. И место и человек с каждым новым кругом были иными. Вскоре он оказался совсем близко к деревьям. Сейчас у него нигде и ничто не болело или, возможно, боль так ровно распределилась по всему телу, что он не ощущал разницы. Что сны, что песок. Мужчина или женщина. Волк или ягненок. С такой манерой ходьбы он, естественно, продвигался вперед очень медленно, так что я без труда поспевал за ним, однако он ни разу не сбился с шага, даже когда дошел до поленницы, сложенной из высохших трупов. Помахал рукой мальчишке, сидевшему на вишневом дереве и плевавшему в старика косточками. В меня он тоже плюнул. Описав изящную дугу, косточка пронзила меня насквозь и застряла где-то в позвоночнике. Позже, когда солнце уже растопило снег, врач во всем белом объяснял какому-то юнцу, что «с таким сердцем этот ваш пациент долго не протянет». Старик, проходя мимо, пожал ему руку. Он нюхал цветы на ходу – то ли синеголовники, то ли горечавки. Что-то такое, давно вымершее. Опять сплел веночек из ландышей, однако на этот раз сам надел его, недооценив при этом размеры своего черепа настолько, что венок лежал на нем, как на блюде.
– Как это называется, – вдруг бросил он через плечо, – когда мгновения следуют друг за другом одной сплошной чередой?
Только теперь до меня дошло, что он все время знал о моем присутствии.
– Привычка! – крикнул я в ответ. – Это называется «привычка»!
Погладив двух мурлыкающих кошек, самочку и кота, он взял и связал их хвостами, так что, если бы не я, они и до сих пор бегали бы по кругу. А он все брел себе между какими-то тетками и племянницами, и ему это почему-то нисколько не вредило. Как же безобразно устроен мир! Через метр – горы пластиковых пакетов, и на каждой возвышается очередной папаша, комментирующий дочери вид с горы Пилатус на Кап-Суньон. Однако именно эти детки, глядящие на все столь скептически, только и могли разглядеть бедного старика, на этот раз вздумавшего вскарабкаться на нечто вроде откоса Айгернорда, причем безо всяких страховок и страха. Я – у зрительной трубы на террасе ресторанчика, полного туристов. Он то и дело оказывался в каком-то другом месте – то на склоне Шпинне, то на Хубеггедрее, то где-нибудь на самой вершине. А я ищу его двумя тысячами метров ниже, среди коров. Слежу за ним по ходу обычного маршрута – и обнаруживаю на снежной поляне, куда он нечаянно съехал на заднице. «Выше меня все чисто, покойников нет, – докладывает он, смеясь. – В остальном тоже все в порядке». Однако в этот раз я следил за ним в оба. Больше никаких самостоятельных походов! Потом он стоял на коленях посреди разъеденных озоном сосновых иголок, шаря руками в гниющих подушках мха.
– Ты знаешь, что такое альпийская роза? – спросил он. Я отрицательно покачал головой.
– А ты слышал, как я пою?
– Вот уж чего не слышал, того не слышал!
– Так я же у себя в голове пел! – обрадовался он.
Он побежал по высокой траве, гнувшейся под порывами берегового бриза, – нет, он гнал перед собой волны моря, поднимая пену, как дельфин. И по-прежнему, кстати, двигался по своей спирали. Вот почему – а я-то, дурак!.. – он таскал меня за собой по горам. Другие бы, увидев, как он кинулся с кручи, сразу бы сбавили темп и прежде всего посмотрели, куда его несет. Я попробовал сделать так, когда он был в воде и махал мне, однако тут же промок и запутался в каких-то водорослях. Еле вынырнул, хватая ртом воздух. Поверхность воды блестела черной нефтью. А он скользил навстречу солнцу, оставляя за собой небесно-голубую спираль. И действительно в обнимку с дельфином, общаясь с ним на его чирикающем языке. Под конец – только крохотный силуэт. Если бы я потом не встретил его в театре, где ставил «Смерть Дантона», то, наверное, забыл бы о нем. Премьера уже началась, и в зрительный зал я вошел с небрежностью фаталиста, знающего, что теперь от него уже решительно ничего не зависит. Видел лишь ноги своих актеров, белые лосины Дантона и босые ступни какой-то женщины. Марии, хоть она и из другой оперы. Старик – я видел его со спины – свешивался вниз с ложи просцениума в окружении двух дам, тоже смотревших вниз, причем одна из них тоже была нагишом. Он сделал глоток из коричневого пузырька с рыбьим жиром. Вдруг та из дам, которая была нагишом, перескочила через парапет и с шумом рухнула куда-то далеко вниз. Я в ужасе рванулся вперед, на ее место, и заглянул в яму, где неподвижно лежала на спине нагая, а старик рядом со мной, вытянув длинную руку с бесконечным пальцем, коснулся ее соска – и, смотри-ка, она зашевелилась! Он взглянул на меня с какой-то хитринкой.
– Скажи, ты Бог? – обратился я к старику.
Однако прежде чем я дождался ответа, он уже умчался – старый гном, под руку с одетой, – и я увидел, как оба, точно психи, съезжают с горки и исчезают в глубине театральных кулис. Потом спектакль как-то добрался до конца и завершился смертью Дантона. Оглушительные аплодисменты. Как же я теперь доберусь домой один? Я долго пробирался ощупью сквозь какое-то голубое ничто – наверное, небо. Иногда самолеты. Один раз помахали дети из окон. Я уже привык ходить по облакам – это так же странно, как ходить по батуту. Куда же теперь? Все направления выглядят одинаково. Лишь в одной стороне – грозовой фронт и молнии, летящие вниз. Ветром меня понесло туда, и очередной разряд сбросил меня на землю. Промоченный дождем, я лежал посреди камней. Какой-то пес дергал меня, перетаскивая то туда, то сюда. Но голос его хозяина уже приближался, одышливый; это был старик. Он выглядел как античный пастух, и был им, и нес меня на руках. Сидя среди своих овец, он растирал меня, пока я не высох; это было место, где позже построят Дельфы. Произрастали колючки, пахло лавандой, шуршали ящерицы. Кругом жили духи – Оракул-то еще не возвели, и им не надо было прятаться. Никто не приходил за ответами на вопросы. Еще не было того знания, которого сегодня уже нет. Любое открытие вызывало восторг. Я разглядывал жука, блестевшего, как зеленое золото. Остальные – нимфы, гномы – тоже смотрели завороженно. Впрочем, нас скоро отвлекли еще не виданные цветы и новые сверкающие камешки. Небо тоже было совсем новым. Воздух, еще никогда никем не дышанный, и вода, которую мы пили впервые. У старика была флейта с пятью тонами. Он заиграл, и оказалось, что больше и не требуется. Нам вообще ничего не требовалось, у нас все было. Юный Филемон обожал малышку Бавкиду, закрывшую глаза от счастья. Духи пытались подражать им, но эта тайна рода человеческого была им недоступна. Нам пришлось уходить, лишь когда на холм пришли люди, одетые по-городскому – в кожаные сандалии, в белые полотнища через плечо, – и принялись мерять землю. Мы укрылись в скалах. Старик метнул камень и убил геометра. И все-таки вскоре тут возник круглый храм с колоннами, и мы ушли. Голоса верующих, завывавших в экстазе, удалялись. Мы потеряли друг друга, потому что духам двигаться было легче. Нимфы, нырнув в ручьи, тоже исчезли, превратившись в воду. Гномы, уцепившись за лапы коршунов, заскользили с вершины вниз по склонам и, вопя, свалились в кусты дрока. Лишь я да еще почему-то старик брели вперед из последних сил. Скоро мы, шатаясь и то и дело теряя друг друга из виду – я рыдал, он бранился себе под нос, – погрузились в какую-то голубизну, которая из воздушной с каждым шагом становилась все более плотной, почти бетонной. Я рвался вперед в полном отчаянии. Внезапно плотная материя отпустила меня, и я, падая, рухнул на гальку, которую, подняв голову, признал своей собственной. Рядом лежал мой же перевернутый стул. И росла моя жимолость, порядком подсохшая, потому что еще зеленые дочерние побеги получали слишком мало питания от материнских. А вот и мой садовый столик. Я кое-как встал на ноги и поставил стул. Сел. В коленкоровой тетради было полно записей. Куда же делся старик? Я был настолько не в себе, что стал звать его, правда вполголоса, но достаточно громко для того, чтобы из окна выглянула соседка, хорошенькая менеджер по рекламе. Я помахал ей рукой и пошел в дом. Не желая еще раз пережить такое, достал из подвала велосипед и поехал, впервые в жизни один. Едва успев пару раз нажать на педали, я почувствовал себя лучше, а когда взобрался на Дольдер, то дышал уже совсем свободно.
И поехал дальше, на юг. Нигде так хорошо не думается ни о чем, как на велосипеде. Я думал об Изе, своей жене, и это было не больно. Вскоре после ее бегства я подкрался к дверям студии, где она обитала в окружении мешков с гипсом, серая, пыльная и счастливая, валяясь на раскладушке и раз в три дня приводя в порядок сбитые простыни. «Нескафе», залитое горячей водой из-под крана. Прижав ухо к двери, я хотел услышать, как она дышит. Но не услышал ничего, совсем ничего, и представил себе, как оба любовника, узнав меня, заулыбались и прижали пальцы к губам. Это он, гадюка, ничего, он скоро уйдет. И я ушел. Конечно, в студии попросту никого не было: в три часа пополудни любовник был на работе, оперировал больных детей. Что делала Иза, мне было неизвестно. В мое время, когда мы любили друг друга, когда я еще не ездил на велосипеде, она служила библиотекаршей в Центральной библиотеке и занималась тем, что переводила рукописи Конрада Фердинанда Майера на микрофильмы. Майера она терпеть не могла и с удовольствием переключилась бы на Готфрида Келлера. Но им уже занимались другие. Я влюбился в нее, когда разыскивал – не помню уже зачем – документы по истории немецкого свободомыслия, и однажды, будто случайно, проводил ее домой после работы и сказал ей об этом, а она бросилась мне на шею и поцеловала, и остаток ночи мы провели в кустах сирени. Было лето. Вообще-то она тогда еще жила с каким-то специалистом по Шторму, настоящим гунном, нежноголосым: он иногда подходил к нашей двери, легонько стучал и шепотом звал Изу. Мы не шевелились, даже если кофе в чашках остывал окончательно. Таяли в глазах один у другого. И смеялись, когда он наконец уходил. Все было замечательно. До тех пор, пока однажды вечером я не нашел на кухне записку, из которой и узнал эту новость. Я видел работы ее нового друга. Я бы сказал: это нечто, – если бы на свете не было Джакометти. У Джакометти его глиняные человечки годами выходили не больше горошины, даже если он начинал лепить из центнера глины. Однажды он явился к своему менеджеру, достал из кармана спичечный коробок и сказал: вот моя новая выставка. Статуи Изиного нового друга были бронзовые и очень тяжелые.