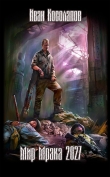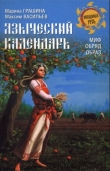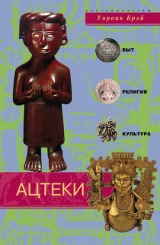
Текст книги "Ацтеки. Быт, религия, культура"
Автор книги: Уорвик Брэй
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Язык и устная литература
Язык науатль приятен слуху, с легким произношением и обладает богатым словарным составом. Подобно греческому и немецкому языкам, науатль имеет обыкновение строить длинные, сложные слова посредством того, что М. Леон-Портилья назвал лингвистической инженерией –вид языковой структуры, позволяющей с легкостью создавать абстрактные термины, в которых можно выразить философские или поэтические идеи.
Таким образом, разговорный науатль обладает большой гибкостью, но, к сожалению, ацтекская система письма была не способна запечатлеть сложные или абстрактные суждения. Антонио де Геррера, хронист короля Филиппа II, проницательно заметил:
«…Оттого, что их письмо не так совершенно, как наше собственное, они не в состоянии точно все записать и отражают лишь суть своих мыслей. Однако они заучивают множество речей, молитв и песен. Они очень заботятся о том, чтобы молодые люди учили их наизусть, и для этого создают школы, в которых старики обучают группы молодежи. Только так тексты сохраняются во всей своей полноте». И действительно, заучивание наизусть было важной частью образования детей – в особенности посещавших школу телъпочкалли,где чтению и письму не обучали.

Рис. 12.Вырезанная из дерева черепаха длиной 8 см. Некогда была частью посоха или трещотки.
В силу невозможности использовать иероглифы для записи поэзии с ее утонченными мыслями и языком окрепла устная традиция – она сохранила литературу, написанную на языке науатль. Самые значительные песни и речи передавались из поколения в поколение. В одном из своих стихов Нецауалькойотль сказал так:
Мои цветы никогда не увянут,
моим песням не суждено быть забытыми:
Я, певец, исполню их,
и они разнесутся повсюду.
Эта поэма была сочинена, должно быть, незадолго до смерти правителя (1427 г.), но ее все еще исполняли в XVI веке, когда испанцы разработали алфавит и стало возможным записывать ацтекскую литературу. Около 2 тысяч различных текстов были зафиксированы таким образом. Среди них – гимны; эпические поэмы; лирические поэмы, воспевающие красоту цветов или скорбящие о быстротечности человеческой жизни; драматические произведения и фрагменты театральных пьес; песни, передающие ацтекские легенды и исторические песни; произведения на философские темы; поэтические сообщения (о болезнях, кометах, происшествиях на охоте), а также произведения комического характера. Основными категориями прозы были исторические хроники и так называемые «Наставления старших» – пространные менторские речи, адресованные молодым людям.
Как мы говорили, поэзия была предназначена в основном для пения или декламирования под аккомпанемент. Это оставило свой отпечаток на структуре стихов – мексиканская поэзия имеет характеристики, обычные для устной литературы во всем мире. Такие испытанные приемы, как повторение, параллелизм и использование рефренов, обнаруживаются везде, где устное творчество преобладает над письменным (например, в псалмах, а также в оперных ариях, народных песнях, политических речах и детских стишках). Они выполняют двойную функцию – делают стихи более легкими для запоминания и в то же время снижают темп повествования, так что у аудитории достаточно времени, чтобы постичь смысл произведения.
Поэзия науатль нерифмованная. Она достигает музыкального эффекта благодаря ритму и балансу ударных и безударных слогов, комбинированных с искусным использованием цезур и естественных пауз. Популярные приемы – ассонанс и аллитерация. Язык – возвышенный, наполненный метафорами, параллелизмами и скрытыми аллюзиями. Последнее в особенности характерно в отношении гимнов, которые по-настоящему были понятны только жрецам и людям образованным. Некоторые из этих произведений – магические заклинания, повторяемые снова и снова с незначительными вариациями, как в этой песне, адресованной богине маиса:
О семь початков, пробудитесь, встаньте. Наша мать,
теперь ты покидаешь нас;
ты уходишь в свой дом в Тлалокан.
Пробудитесь, встаньте. Наша мать,
теперь ты покидаешь нас;
ты уходишь в свой дом в Тлалокан.
Вся поэзия науатль, религиозная или светская, полна образности. В одной военной поэме поле битвы описывается как место,
где разлит божественный пылающий напиток,
где божественные орлы почернели от дыма,
где рычат тигры,
где рассыпаны драгоценные камни и богатые украшения,
где бесценные перья волнуются, как пена,
там, где воины ранят друг друга
и знатные вельможи разгромлены наголову.
Благодаря образности поэту удалось запечатлеть весь блеск и все смешение ацтекской битвы. Он был уверен, что его аудитория поймет намек на воинов Орла и Ягуара и на кровь – «божественный напиток», – ибо она часто проливалась на алтарях во славу богов.
Еще одним излюбленным приемом, используемым как в прозе, так и в поэзии, было совмещение двух слов или фраз так, чтобы навести на мысль о понятии, которое прямо не обозначалось. Эти совмещения всегда использовались метафорически, и прямое их значение было отчасти или полностью утрачено:
«в мешке и в сундуке» = тайна;
«в облаках, в тумане» = таинственно;
«жадеит и прекрасные перья» = красота;
«место преткновения и перекрестки» = нравственная проблема.
Словосочетание «цветок и песня» обозначало саму поэзию и являлось повторяющейся метафорой в ацтекских стихах, как в этой элегии, воспевающей поэта:
Изумруд упал на землю,
расцвел цветок, твоя песня!
Всякий раз, когда ты исполняешь свои песни здесь,
в Мексике,
солнце сияет вечно.
Ацтекские речи сегодня представляют собой весьма скучное чтение. «Наставления старших» многословны и высокопарны, полны иносказаний и повторений, отягощены образностью и витиеватыми фразами, которые считались признаком изысканного стиля. Впрочем, вся литература – это продукт своего времени, и простота, которой мы так восхищаемся сегодня, всего лишь отражение скорости и суеты современной жизни. Ацтекская литература сочинялась в более спокойные времена, когда у человека было больше возможностей спокойно сидеть и слушать, когда больше значили древние традиции и было больше условностей в повседневной жизни. Наши деды, воспитанные на длинных проповедях и многотомных романах, возможно, выказали бы ацтекской наставительной литературе свои симпатии.
Итак, в XVI веке были записаны тексты речей, поэтических представлений и пиктографических кодексов. Приведем фрагмент из манускрипта 1576 года – все изложенные в хронике события реальны:
«10-й год Кремня.
Чимальпопока умер. Тепанеки ушли с ним.
13-й год Дома.
В этот год солнце было проглочено (то есть было затмение): появились все звезды. Это случилось, когда умер Ашайякатль.
11-й год Кролика.
В этот год была буря с градом. Вся рыба в воде погибла».
Глава 3
Семейная жизнь
Когда юноше исполнялось двадцать лет, он считался готовым взять на себя обязанности взрослой жизни. Фактически это означало, что он должен жениться, так как без жены, которая готовила пищу и вела хозяйство, он не мог завести собственный дом. Неженатые мужчины и незамужние женщины не считались членами общины, но, как только пара вступала в брак, они становились полноправными гражданами, внесенными в реестр домовладельцев, который вели писцы калъпулли,и получали право обрабатывать земельный участок, находящийся во владении семейства.
От обоих партнеров требовались особые навыки. Мужчина должен был уметь построить дом, занимался крестьянским трудом или ремеслом. Женщина готовила еду, заботилась о детях, ткала полотно и шила одежду, работала на огороде и приглядывала за домашним скотом. В глазах общества брак без детей был неполным. Бездетность становилась не только личной, но и социальной трагедией, и многие бездетные браки заканчивались разводом. Так что жизненные устремления обычного ацтека, будь то женщина или мужчина, были те же, что и у людей во всем мире: уважаемое положение в обществе, счастливая семейная жизнь и брак, благословенный детьми.
Рождение
Рождение ребенка служило поводом к празднованию. Роды обычно доверялись опытным акушеркам, которые были искушены как в медицинском, так и в ритуальном аспектах деторождения. Каждое важное событие в жизни ацтеков сопровождалось речами. Даже новорожденный ребенок не мог их избегнуть, и, перерезая ребенку пуповину, акушерка объясняла ему, какие обязанности у него будут в жизни. Если рождался мальчик, он должен был вырасти храбрым воином, чьей целью было напоить Солнце кровью врагов. Девочка должна была проводить дни в заботах о хозяйстве и редко покидать дом. После произнесения таких речей акушерка окунала младенца в холодную воду и клала спеленатого ребенка в колыбель.
Тем временем всем родственникам сообщали о счастливом событии, и они собирались у дома, чтобы поздравить мать и взглянуть на ребенка. Входя в дом, гости брали щепотку золы и посыпали ею свои колени и другие суставы, это было что-то вроде заклинания, чтобы предотвратить хромоту и ревматизм у ребенка. Родителям вручались подарки, и снова произносились неизбежные речи. Гости приходили в течение четырех дней. В это время семья тщательно следила за огнем, чтобы он ни разу не погас. Никому не позволялось выносить из дома горящие дрова, «чтобы не отнять славу у новорожденного» (Саагун).
Иногда в течение четырех дней празднования отец звал астролога, чтобы тот составил гороскоп младенца и определил благоприятный день для церемонии наречения ребенка. Ацтеки верили, что знак дня, под которым родился ребенок, будет оказывать влияние на всю его последующую жизнь. Ребенок, рожденный во 2-й день Кролика, мог стать пьяницей, который навлечет беды на себя и на свою семью. Знак 9 – Оленя – давал человеку несносный характер, он становился сквернословом и лентяем, а мальчику, рожденному под знаком 1 – Оцелота, – суждено было закончить свою жизнь рабом или жертвой, принесенной богам. Другие дни считались счастливыми: 10-й Орла давал силу и храбрость, 11-й Стервятника – долгую и счастливую жизнь, 7-й – Цветок – был хорошим днем для ремесленников, 5-й – Обезьяна – давал ребенку дар развлечения и увеселения других, тогда как ребенку, рожденному под знаком 4 – Собака, – суждено было процветать без видимых усилий. Прочие дни могли быть либо счастливыми, либо несчастливыми. Ребенку, рожденному в 3-й день Воды, могло легко привалить богатство, но и так же легко уйти – «как утекает вода».
Ясно, что эти предсказания исполнялись далеко не всегда и что знак дня рождения не мог быть единственным фактором, определяющим счастливую или несчастливую участь. Человек мог до некоторой степени контролировать свою судьбу. Благоприятный для рождения знак мог стать неудачным вследствие вмешательства злых сил, но соблюдающий правила жизни имел надежду на успешное будущее. Точно так же действие плохого знака могло быть исправлено благонравием и соблюдением религиозных обрядов. Но даже в этом случае человек, рожденный под неблагоприятным знаком, всегда нес на себе отпечаток предрасположенности к неудачам.
Поэтому было так важно выбрать и наиболее благоприятный день для наречения ребенка. Обычно эту церемонию старались провести через четыре дня после рождения, но детям, рожденным в несчастливые дни, не давали имя до тех пор, пока не наступал день для них благоприятный.
Акушерка также брала на себя заботу о соблюдении ритуала наречения. Ребенка выносили во двор дома, чтобы искупать в глиняном ушате, помещенном на слой тростника. Водой окропляли ротик младенца, его грудь и голову, в это время читались соответствующие заклинания. Затем акушерка омывала ребенка и читала молитву, ограждающую его от злых сил. Затем ребенка «преподносили в дар» Солнцу, молясь о том, чтобы в будущем он стал храбрым воином.
Ребенку мужского пола демонстрировали символы отцовской профессии. Миниатюрный щит и стрелы – чтобы показать, что он станет воином. Инструменты мастера – если он должен был унаследовать ремесло отца. Пуповина младенца и его миниатюрное оружие передавались воину для захоронения на поле битвы. Девочке акушерка показывала крошечное веретено, корзинку с принадлежностями для рукоделия и метлу, символизирующую ее домашние обязанности. Пуповина ребенка погребалась в доме, чтобы показать, что ей никогда не странствовать, как ее брату. После этого объявлялось имя ребенка.
У каждого ребенка было календарное имя, данное в соответствии с датой его рождения, а также личное имя, принадлежавшее только ему одному. Самым известным правителем Тескоко, например, был Нецауалькойотль (что в переводе означает Голодный Койот), но иногда он фигурирует в текстах под своим календарным именем Ка-Масатль, 1-й Оленя. Животные вообще часто встречаются в именах ацтеков, хроники полны описаний деяний таких персонажей, как Сердитый Индюк, Пчела в Камышах, Говорящий Орел или Огненный Койот. Были имена по предметам одежды или по личным качествам, например Тот, Кто Смеется Над Женщинами или неудачно названный Мокиуикс (Пьяница). Некоторые имена, например Черный Холм, имели топографическое происхождение. Девочкам давали более женственные имена, такие, как Нефритовая Куколка или Драгоценное Сломанное Перо Птицы Кетсаль (что на языке науатль звучит длинно и труднопроизносимо). Особенно популярны были цветочные имена, например: Миауашуитль (Бирюзовый Цветок Маиса) или Куиаушочитль (Дождевой Цветок). Все эти личные имена, как и названия городов, можно было записать в виде пиктограмм.
После окончания церемонии наречения следовало пиршество для всех родственников и друзей семьи. Гостей украшали гирляндами из цветов и давали покурить ароматный табак, пока женщины готовили еду. Тут имелась еще одна возможность для демонстрации ораторского искусства. Во всех речах, даже в тех, что произносились по случаю рождения ребенка, проскальзывала меланхолическая нотка – неизменно упоминалось о быстротечности человеческой жизни и о предстоящих испытаниях. Акушерки поднимали эту тему, как только ребенок рождался: «Мы не знаем, будешь ли ты долго жить среди нас… Мы не можем сказать, какая судьба тебе уготована…» – говорили они, а старики развивали эту тему во время трапезы:
«О мой возлюбленный внук… тебе предстоит многое узнать и многое испытать: боль, несчастья и страдания. Земля эта – место страданий и скорби, место тяжелого труда и страданий. Может быть, станет нам благословением и наградой, если ты недолго пробудешь с нами».
После главных блюд подавали шоколад, но наступали сумерки, и старики часто отставляли его в сторону, чтобы насладиться кубком опьяняющего октли. К позднему вечеру они все были пьяны, пели, острили и не отказывали себе в удовольствии разразиться сентиментальными рыданиями, так что со стороны казалось, «будто лают псы».
Через двадцать дней, когда волнения, связанные с «крещением» ребенка, шли на убыль, родители несли младенца в храм, подносили богам пищу и одежды и демонстрировали ребенка жрецам.
Детство и воспитание
Поначалу ребенку не давали никакой работы, а лишь учили «тихим словом». Затем, в возрасте четырех лет, начиналось практическое обучение и детям разрешалось выполнять простую работу под неусыпным оком взрослых. Мальчиков посыпали за водой, пока матери перечисляли дочерям названия и предназначение всех предметов в рабочей корзинке. Мало-помалу детям давали более ответственные задания, девочки помогали матерям по дому, а мальчики ходили вместе с отцами на работу или на рынок.
Образование девочек в действительности являлось подготовкой к браку. Девочка пяти – семи лет уже знала, как обращаться с веретеном и прясть нити, в подростковом возрасте ее приобщали к приготовлению пищи, а в возрасте четырнадцати лет девочка училась ткать полотно. До брака оставалось два года, а девочка уже была обученной вести дом и способной пополнять достаток в семье, изготавливая полотно на продажу. Воспитание мальчиков было столь же практичным. Пятилетний карапуз ковылял за отцом, неся несколько хворостин или крошечную вязанку. Шло время, и мальчик учился ловить рыбу, резать тростник и управлять каноэ на озере.
В то же время родители учили своих детей хорошему поведению и заставляли их выслушивать лекции о добродетельности тяжелого труда, правдивости, уважении к старшим, необходимости самообладания, послушания власти и воле богов. Ленивые или непослушные дети наказывались. Мальчиков били, кололи иглами кактуса, затем связывали руки и ноги и оставляли лежать обнаженными на сырой земле весь день или держали над огнем, в котором горели стручки красного перца, и вдыхать горький дым. Девочек тоже кололи иглами или держали над огнем, а еще заставляли выполнять дополнительную работу по дому, вставать до рассвета и целый день убираться в доме и мести улицу перед домом.
Дети из знатных семей воспитывались в еще большей строгости, так как жизнь взрослого должна была служить примером всем остальным людям. Мальчиков вскоре отправляли в школу калъмекак(см. далее), но некоторые девочки не покидали дом до дня своей свадьбы. Воспитание дочери правителя было особенно суровым, и следующий фрагмент текста (из рукописи Сориты) позволяет предположить, что жизнь во дворце отличалась холодностью и формальностью:
«Когда ей исполнилось четыре года, они внушили ей необходимость выказывать благоразумие в речах и поведении, в облике и манере держаться… Дочь правителя ходила только в сопровождении множества женщин преклонного возраста, и она выступала так скромно, что никогда не поднимала глаз от земли… она никогда не разговаривала в храме, за исключением чтения молитв, которым ее обучили. Она не должна была разговаривать во время еды, но должна была хранить совершенное молчание. Правило, что мужчина, даже брат, не должен разговаривать с незамужней женщиной, соблюдалось так строго, словно это был закон… Девицы не могли выходить в сад без сопровождения. Если они осмеливались сделать хоть шаг за дверь, их сурово наказывали, особенно если они пребывали в возрасте от десяти до двенадцати лет. Девицы, которые поднимали глаза от земли или оглядывались, также подвергались жестокому наказанию. То же самое ждало девушек ленивых или легкомысленных. Их обучали, как говорить с женами правителя и другими людьми, и, если они выказывали нерадивость, их также ждало наказание. Им постоянно внушали со всем вниманием относиться к хорошим советам, которые они получали.
Когда им исполнялось пять лет, их няньки начинали учить их вышиванию, шитью и ткачеству и никогда не позволяли им лениться. Девица (даже будучи ребенком), которая прекращала работать без разрешения, наказывалась».
Постоянное давление, наказания и тяжелая работа – эти темы вновь и вновь возникают в этом и других подобных текстах. Царственные родители, по всей видимости, оставались для детей недоступными, вели себя с ними отчужденно и холодно. В определенные часы маленьким девочкам разрешалось играть в присутствии своих матерей, но даже тогда стражники и няньки присутствовали в комнате и не было никакого намека на теплые семейные отношения. Беседа их с отцом произвела на Сориту еще более удручающее впечатление:
«Когда правитель пожелал увидеть своих дочерей, они пришли к нему процессией, перед ними выступала пожилая женщина, а за ними шли другие придворные. Они никогда не выходили без разрешения своего отца. Войдя в зал, они остановились перед отцом, который приказал им сесть. Затем заговорила женщина, она приветствовала правителя от имени его дочерей. Она передала отцу розы и другие цветы, а также фрукты, которые они собрали для него, а также вышивки, которые они приготовили для него… Отец заговорил с дочерьми, посоветовал им вести себя хорошо и слушать советы матерей и учителей, уважать и во всем слушаться их, прилежно работать. Девочки не сказали ни слова, лишь приблизились к правителю одна за другой и почтительно поклонились ему, после чего ушли. Никто не засмеялся в присутствии правителя, все вели себя сдержанно и скромно».
Отпрыски правителя часто завидовали детям простых людей, которые так много времени проводили со своими родителями и для которых правила поведения были куда менее строгими.
Кроме домашнего образования, все ацтекские дети могли обучаться в школе. Некоторые ранние манускрипты говорят, что школьное обучение начиналось с пяти лет, но Кодекс Мендосы утверждает, что дети до пятнадцати лет все еще пребывали много времени дома, хотя они, возможно, проводили в школе неполный день. Существовало два типа школ: одна – тельпочкалли, или «дом молодых», – для сыновей торговцев и крестьян, и другая – кальмекак – для высшего сословия. Всех мальчиков заставляли посещать школу того или иного типа. Девочек из хороших семей отправляли в храм, где их обучали как жриц, хотя большинство из них оставляли учебу через несколько лет, чтобы выйти замуж. Образование в тельпочкалли было доступно и для девочек, но для детей каждого пола были разные школы.
Ацтекское образование прежде всего ставило перед собой цель воспитать гражданина. Знакомые Саагуна описывали идеального школьника как «прилежного, послушного, которого легко обучать, покорного, умного, почтительного, полного благоговения, того, кто склоняется в поклоне, подчиняется, уважает других, которому можно внушить полезные мысли». Нигде в этом списке добродетелей не найти упоминания о любознательности. Мысль о том, что знание может представлять ценность само по себе, была бы – если бы она вообще возникла – отвергнута ацтекским обществом, как бесполезная для его нужд. К чему обычному человеку знания, которые он никогда не сможет применить на практике, или зачем ему размышлять, если для этого есть власть?
Целью образования и воспитания было научить ребенка тому, что государство считало необходимым, принимая во внимание его социальное происхождение и его вероятное будущее. В результате должна была получиться, говоря современным языком, «социально зрелая» личность. Независимость и инакомыслие подавлялись, а двухшкольная система с одним типом образования для богатых и другим для бедных помогала сохранить различие между знатью и низшими сословиями.
Каждый кальпулли, или клан (см. главу 4), содержал «дом молодых», где обучались дети незнатного происхождения. Обычно школа находилась рядом с храмом клана, ею управляли воины, доказавшие свою ценность, захватив в битвах несколько пленных. Каждую тельпочкалли возглавлял старейшина, тлакатекатль (директор школы), которому помогали учителя. Они не получали за свою работу плату, и школа содержалась на доход от обрабатываемых полей, выделенных для нее. Мальчики спали в школе, но приходили домой есть и проводили часть дня с отцами, получая практические навыки в деле, которым они станут заниматься, когда вырастут. В дни сбора урожая сыновьям фермеров разрешалось пропускать школу в течение нескольких дней, чтобы помочь отцам в полях, а возвращаясь в школу, они приносили с собой некоторое количество собранного ими зерна.
В доме молодых мальчики изучали ацтекскую историю и то, что можно назвать «общественными науками», включая религию, ритуалы, правильное поведение, музыку, танцы и пение – последние три науки изучались не по причине их культурной ценности, а потому, что они играли важную роль в религиозных обрядах. Обучение в тельпочкалли не включало в себя традиционные чтение, письмо и арифметику, а поскольку не было учебников, обучение было исключительно устным и практическим, причем многое приходилось заучивать наизусть. Лодырей и прогульщиков наказывали, обривая им головы.
Курс обучения был также направлен на то, чтобы подготовить мальчиков к тяготам военной жизни. С этой целью жизнь в школе намеренно делалась неудобной: юноши получали спартанскую тренировку, «ели только крошечный кусок черствой лепешки и спали почти не укрываясь, подставляя полуголые тела холодному ночному воздуху в комнатах и помещениях, открытых, как портики» (Сорита). Воины-учителя показывали им, как обращаться с оружием, и наиболее способные мальчики принимали участие в настоящих сражениях, в то время как остальные наблюдали за ними и изучали военные маневры. Было также много тяжелой физической работы: уборка школы и храма, доставка воды и дров, изготовление глиняных кирпичей, починка оросительных каналов или работа на школьных полях. Вечером мальчики получали право отдохнуть. Работа заканчивалась до заката, и мальчики отправлялись домой, чтобы вымыться и сменить одежду, прежде чем возвращаться в тельпочкалли, где они зажигали большой костер и танцевали до полуночи, когда наступало время возвращаться в свои казармы.
Школы тельпочкалли были предназначены для обучения простых граждан. Школы кальмекак воспитывали элиту, мальчиков, из которых впоследствии вырастали жрецы, военачальники, судьи, государственные служащие. Количество мест в таких школах было ограниченно, и большинство учащихся принадлежали к знати, однако эти школы разрешалось посещать и нескольким детям торговцев, а порой даже и мальчикам из бедных семей простолюдинов, если они выказывали необыкновенный ум.
Школы кальмекак строились рядом с храмами и переходили под прямой контроль духовенства. Все учителя были жрецами (в то время самый образованный класс в Мексике), и атмосфера в школе напоминала скорее монастырскую, чем школьную. Мальчики спали в школе, а готовили пищу и ели в здании под постоянным присмотром учителей.
Целью кальмекак было обучить детей «хорошим привычкам, догматам и обрядам». В дополнение к предметам, преподаваемым в тельпочкалли, в кальмекак обучали основам медицины, управлению, математике, календарю и астрологии, юриспруденции, архитектуре, письму и религии со всеми ее сложными ритуалами.
Курс обучения ставил акцент на воспитание самообладания, скромности и альтруизма, так как учителя верили, что тот, кому предназначено руководить, сначала должен научиться слушаться. Соответственно, богом кальмекак был Кецалькоатль, который был символом самопожертвования и одновременно покровителем знаний. Хотя дети были преимущественно из знатных семей, им часто поручали работу, которую обычно выполняли слуги: уборка и подметание, или аграрные работы на землях храма, или собирание дров. Их заставляли голодать и каяться, ходить ночью в пустынные места в горах, иногда довольно далеко от школы, где они воскуряли благовония и усмиряли свою плоть, прокалывая уши и ноги иглами кактуса. В полночь все мальчики вставали с постелей для чтения молитвы и принятия холодной ванны.
Школы кальмекак для девочек также отличались суровостью. Здание школы окружалось высокими стенами, а учителями были старые жрицы. Когда бы девочки ни выходили за пределы школы, их неизменно сопровождали пожилые женщины, и девочкам запрещалось разговаривать с мальчиками. Во время еды полагалось соблюдать тишину, а в течение дня наступали часы принудительного молчания – самая суровая форма дисциплины, которую можно было придумать для маленьких девочек. В течение дня они обучались религии и женскому рукоделию – ткачеству и вышиванию, а ночью вынуждены были вставать несколько раз, чтобы помолиться и воскурить благовония.