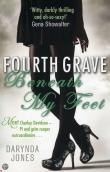Текст книги "Рождественские каникулы"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Где ты их взял, Робер?» – спросила она.
Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.
«Я вчера выиграл пари»,– ответил он.
«Ох, Робер,– воскликнула я,– ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».
«Тут дело было верное,– сказал он.– Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».
«Нет-нет, не надо ей этих денег! – крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразилась, потом она повернулась ко мне: – Поди прибери у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли неубранные».
Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сиены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.
«Бога ради оставь меня в покое,– сказал он.– Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».
Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.
«Усни, лапочка,– сказал он.– Не огорчайся из-за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самим собой».
«Это деньги твоей матери?» – шепотом спросила я.
Он сперва не ответил. Потом наконец сказал: да.
«Ох, Робер, как ты мог?» – воскликнула я.
Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:
«Если кто-нибудь о чем-нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».
«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» – воскликнула я.
«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».
Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, запахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.
«Не ходи»,– сказал Робер.
«Но в кухне что-то горит»,– сказала я.
«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешаешься, она тебя отругает».
И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.
«Если тебя станут про них спрашивать,– сказал он,– говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому-то бродяге. Клянешься?»
«Да»,– ответила я, насилу выговорила.
И тут он сказал ужасные слова:
«Может, от этого зависит моя жизнь».
Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтоб никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я смотрела, как он читает, и увидела, что он переменился в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.
«Ну что, малышка,– весело сказал он,– как насчет кофе? Ты что же, собираешься стоять так все утро, не сводя глаз со своего господина и повелителя, или накормишь его?»
Я поняла, в газете что-то есть, и я узнаю то, что непременно должна узнать. Робер позавтракал и пошел наверх одеваться. Когда он спустился, готовый выйти на улицу, я чуть не ахнула,– на нем был тот самый светло-серый костюм, в котором он ходил позавчера, те самые брюки. Но потом я, конечно, вспомнила, что, когда он заказывал костюм, брюк он заказал две пары. Об этом костюме было много разговоров. Мадам Берже ворчала, мол, слишком дорого, но он настоял на своем, сказал, если он не будет прилично одет, ему нечего и надеяться найти работу, и она наконец уступила, как всегда, только настояла, чтобы он заказал вторую пару брюк, брюки раньше обтрепываются, и экономнее заказать сразу две пары. Робер сказал, что к обеду не вернется, и вышел. Свекровь тоже скоро ушла за покупками, и едва я осталась одна, я схватила газету. И увидела, в своей квартире убит букмекер англичанин по имени Тедди Джордан. Его ударили ножом в спину. Робер часто о нем говорил, я слышала. Я поняла, что убил его Робер. У меня так заболело сердце, я думала, умру. Я была в ужасе. Не знаю, сколько времени я там сидела. Не могла шевельнуться. Наконец услышала – открывают ключом дверь, и поняла, что возвращается мадам Берже. Я положила газету на место и опять принялась хозяйничать.
Лидия тяжело перевела дух. Они приехали в ресторан не раньше часу, пожалуй, даже в начале второго, и кончили ужинать в два. Когда они входили, все столики были заняты и у стойки полно народу. Лидия рассказывала долго, а посетители мало-помалу расходились. Толпа у стойки редела. Теперь там сидели только двое, и кроме столика Чарли с Лидией был занят только еще один. Официанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу.
– По-моему, пора уходить,– сказал Чарли.– Они явно уже хотят от нас избавиться.
В эту минуту люди за соседним столиком встали, собираясь уходить. Женщина, которая принесла им с вешалки пальто, принесла и пальто Чарли и положила на соседний столик. Чарли спросил счет.
– Наверно, можно пойти куда-нибудь еще?
– Можно на Монмартр. У Граафа открыто всю ночь. Я ужасно устала.
– Что ж, если хотите, я отвезу вас домой.
– К Алексею и Евгении? Туда я сейчас не могу. Он наверняка пьян. Он будет всю ночь поносить Евгению за то, чем стали дети, мол, это она их такими воспитала, будет хныкать из-за своих горестей. В S rail мне не хочется. Лучше пойдемте к Граафу. Там, по крайней мере, тепло.
Казалось, она так удручена и вправду так измучена, что Чарли, не без колебаний, предложил поступить иначе. Он вспомнил слова Саймона, что в эту гостиницу можно привести кого угодно.
– Послушайте, у меня в номере две кровати. Почему бы вам не пойти со мной?
Она бросила на него подозрительный взгляд, но он с улыбкой покачал головой.
– Просто чтоб выспаться,-прибавил он.– Понимаете, я сегодня с дороги, взволнован, то, другое, в общем, я совершенно выдохся.
– Ладно.
***
Они вышли на улицу, такси поблизости не оказалось, но до гостиницы было недалеко, и они отправились пешком. Сонный ночной привратник открыл им дверь и поднял их на лифте. Лидия сняла шляпу. У нее был высокий белый лоб. Ее волос он прежде не видел. Она оказалась светлой шатенкой, короткие волосы вились у шеи. Она скинула туфли, выскользнула из платья. Когда, облачившись в пижаму, Чарли вышел из ванной, Лидия уже не только лежала в постели, но спала. Чарли лег в свою постель и погасил свет. С тех пор как они вышли из ресторана, они не обменялись ни единым словом.
Так Чарли провел свой первый вечер в Париже.
4
Проснулся Чарли поздно. В первую минуту не мог сообразить, где он. Потом увидел Лидию. Они не задернули занавеси, и сквозь ставни пробивался серый свет. Комната, обставленная грязно-желтой мебелью, выглядела убого. Лидия лежала в двуспальной постели на спине, с открытыми глазами, уставясь в грязный потолок. Чарли глянул на часы. Он стеснялся этой чужой женщины в соседней кровати.
– Уже около двенадцати,– сказал он.– Давайте сразу выпьем по чашечке кофе, а потом, если хотите, я поведу вас куда-нибудь завтракать.
Она обратила на него серьезный, но и добрый взгляд.
– Я смотрела на вас спящего. Вы спали так мирно, так глубоко, точно дитя. У вас было такое невинное выражение лица, меня это сокрушило.
– Но я до неприличия небритый,– сказал Чарли.
Он по телефону заказал кофе, и его принесла дородная немолодая горничная; она бросила взгляд на Лидию, но на ее лице решительно ничего не выразилось. Чарли курил трубку, Лидия – сигарету за сигаретой. Они почти не разговаривали. Чарли не знал, как себя вести в этом своеобразном положении, а Лидия, казалось, погружена была в мысли, не имеющие к нему никакого касательства. Потом он прошел в ванную, чтобы помыться и побриться. Когда вернулся, Лидия в его халате сидела в кресле у окна. Окно выходило во двор, там только и видно было, что окна номеров напротив, этаж за этажом. В серое рождественское утро вид был на редкость безрадостный. Она обернулась к Чарли.
– А нельзя нам никуда не ходить, позавтракать здесь?
– То есть тут, внизу? Как вам угодно. Не знаю только, как здесь кормят.
– Это неважно. Нет, прямо здесь, в номере. Так славно на несколько часов отгородиться от всего света. Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, такую роскошь могут себе позволить только очень богатые, а ведь это ничего не стоит. Странно, что так трудно этого достичь.
– Если хотите, я закажу вам завтрак в номер, а сам уйду.
Долгую минуту она смотрела на Чарли, глаза ее чуть насмешливо улыбались.
– Я ничего не имею против вас. Наверно, вы очень милый и славный. По мне лучше, чтоб вы остались. Какой-то вы уютный, с вами отдыхаешь душой.
Чарли был не из тех молодых людей, которые много мнят о себе, но все-таки сейчас ему стало досадно; право, это уж слишком, она и за мужчину его не считает. Но он был поистине человек воспитанный и ничем не выдал свои чувства. К тому же положение, в котором он оказался, было достаточно необычно, и хотя не ради такого поворота событий ехал он в Париж, ничего не скажешь, получается прелюбопытно. Чарли оглядел комнату. Кровати не застелены; шляпа Лидии, жакет, юбка, туфли, чулки кое-как свалены на стуле.
– Тут ужасный беспорядок,– сказал Чарли.– По-вашему, в этом хаосе будет так уж приятно завтракать?
– Не все ли равно? – ответила Лидия и впервые за все время засмеялась.– Но если это оскорбляет ваше английское чувство приличия, я застелю постели, или, пока я буду мыться, это может сделать горничная.
Лидия прошла в ванную, а Чарли позвонил, чтобы принесли завтрак. Он заказал яйца, мясо, сыр, фрукты и бутылку вина. Потом вызвал горничную. Хотя комната отапливалась, тут был и камин, и Чарли подумал, если затопить камин, будет веселее. Пока горничная укладывала поленья, он оделся, а потом, когда она приводила комнату в порядок, он сидел и смотрел в окно на мрачный двор. И с тоской думал о том, как весело сейчас у Терри-Мейсонов. В этот час, перед тем, как сесть за праздничный обед, за индейку и рождественский пудинг, они выпьют по стаканчику хереса, и все будут радостные, довольные рождественскими подарками, шумные и веселые. Немного погодя вернулась Лидия. Она не накрасилась, но аккуратно причесалась, веки уже не были опухшими, и она была сейчас молоденькая и хорошенькая; но ее миловидность не вызывала плотских желаний, и Чарли, по природе восприимчивый к женским чарам, увидев Лидию, не взволновался.
– О, вы оделись,– сказала она.– Тогда я останусь в вашем халате, можно? Дайте мне ваши шлепанцы. Я в них потону, но это не важно.
Этот халат из синего расшитого шелка ему подарила на день рожденья мать; Лидии он был слишком длинен, но она так в нем задрапировалась, что выглядела вполне мило. Огонь в камине ее обрадовал, и она села в пододвинутое ей кресло. Закурила сигарету. Чарли странно было, что она принимает все происходящее так, будто это было в порядке вещей. Она держалась так непринужденно, словно знала его всю жизнь; если требовалось что-то еще, чтобы он начисто отказался от намерений, которые у него могли бы быть на ее счет, ничто не подействовало бы на него верней совершенно определенного впечатления, что Лидия отказалась от мысли, будто ему может прийти охота лечь с нею в постель. Его удивило, с каким аппетитом она ест. По ее рассказу накануне вечером ему представлялось, что она слишком угнетена, ей не до еды, и при его романтически-чувствительной натуре он поразился, увидев, что она ест не меньше, чем он, и с явным удовольствием.
Они пили кофе, и тут зазвонил телефон. Звонил Саймон.
– Чарли? Как насчет того, чтобы прийти ко мне поболтать?
– Боюсь, сейчас не смогу.
– Это почему? – резко спросил Саймон.
Так на него похоже – воображать, что каждый готов по первому его зову бросить все свои дела. Как бы мало что-то для него ни значило, если ему этого захотелось, а ему перечат, каприз тотчас приобретал первостепенное значение.
– У меня Лидия.
– Какая такая Лидия?
Чарли на миг замялся.
– Ну, княжна Ольга.
Молчание, потом Саймон разразился недобрым хохотом.
– Поздравляю, дружище. Я знал, что вы придетесь друг другу по вкусу. Что ж, найдется свободная минутка для старого приятеля, звякни.
Он повесил трубку. Чарли опять повернулся к Лидии, она пристально смотрела в огонь. По бесстрастному лицу ее нельзя было понять, слышала ли она разговор. Чарли чуть отодвинул от себя столик, за которым они завтракали, и как мог удобнее расположился в неглубоком кресле. Лидия перегнулась, подложила в камин еще одно полено. Была в этом движении отнюдь не неприятная Чарли интимность. Потом она поворочалась, усаживаясь поуютнее, точно собачонка, что покрутится раза три на подушке вокруг своей оси и лишь тогда свернется калачиком в образовавшемся углублении. Почти до вечера они оставались в номере. Безрадостный свет зимнего дня постепенно истаивал, и они сидели при свете горящих поленьев. В комнатах напротив кое-где зажегся свет, и тускло светящиеся незанавешенные окна казались неестественными, точно на декорациях, изображающих вечернюю улицу. Но Чарли думалось, что положение, в котором очутился он сам,– сидит в убогой комнате перед пылающим камином и слушает душераздирающий рассказ незнакомой женщины о ее жизни,– пожалуй, еще неправдоподобней. Похоже, Лидии и в голову не пришло, что ему, быть может, вовсе не хочется ее слушать. Сколько он мог судить, она не задумалась ни о том, что он, возможно, совсем по-иному собирался провести время, ни о том, что, изливая перед ним душу, делясь своими страданиями, она возлагает на него бремя, которым никто не вправе отягощать чужого человека. Означало ли это, что она ищет его сочувствия? Бог весть. Она ничего о нем не знает и не хочет знать. Она просто воспользовалась его добротой, и если бы не присущее ему чувство юмора, равнодушие Лидии его бы раздосадовало. Ближе к вечеру она замолчала, и по ее спокойному дыханию Чарли понял, что она уснула. Он встал, ощутив, как от долгой неподвижности заныли ноги; стараясь ее не разбудить, на цыпочках прошел к окну, сел на стул и посмотрел во двор. Время от времени за освещенными окнами кто-то появлялся и исчезал; вот пожилая женщина поливает комнатные цветы; вот мужчина лежит без пиджака на кровати и читает; интересно, что это за люди, кто они. Вероятно, обыкновенные люди среднего достатка, ведь гостиница дешевая и квартал не из лучших; но увиденные вот так, за окном, словно в кинетоскоп, они казались почти призрачными. Кто знает, каков человек на самом деле, какие недобрые страсти, какие преступленья таятся за его заурядной внешностью? В иных комнатах занавеси задернуты, и лишь пробивающаяся между ними полоска света говорила, что там кто-то есть. Иные окна темные, но эти комнаты не пустуют, гостиница полным-полна, просто постояльцы ушли По каким загадочным делам? Чарли, выбитому из колеи, вдруг стало страшно за всех этих незнакомых людей, чья жизнь конечно чужда и неведома; почудилось, будто спокойная видимость скрывает что-то смутное, темное, уродливое, внушающее страх.
Нахмурив брови, Чарли сосредоточенно размышлял о длинной горестной истории, которую слушал всю вторую половину дня. Лидия перескакивала с одного на другое – то рассказывала о своей борьбе за существование, когда работала у портнихи за жалкие гроши, то о каком-нибудь случае из своего нищего детства в Лондоне; потом новые подробности о мучительных днях после убийства, о том, как боялась ареста Робера, как страдала на суде. Чарли читал детективы, читал газеты, знал, что совершаются преступления, знал, что люди живут в нужде, но знал все это, так сказать, со стороны; и теперь странно и страшно ему было оттого, что жизнь столкнула его с человеком, который сам пережил все эти ужасы. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил картину Мане, на которой взвод солдат кого-то расстреливает… Максимилиана? Эта картина всегда производила на него сильное впечатление. Теперь его ошеломило сознание, что на картине изображено действительное событие. Император и вправду стоял на том месте, и когда солдаты направили на него ружья, ему, должно быть, казалось невероятным, что вот он живой, а через мгновенье его не станет.
И теперь, после того как он познакомился с Лидией, как слушал ее прошлой ночью и сегодня днем, как ужинал с ней, и завтракал, и танцевал, после того, как они столько часов провели под одной крышей в такой близости, с трудом верилось, что ей пришлось такое пережить.
Если что и могло показаться чистой случайностью, так это само знакомство Лидии и Робера Берже. Через друзей, у которых она жила и которые работали в русском ресторане, Лидии иногда перепадал билет на концерт, а если таким образом билет получить не удавалось, а исполняли что-то, что ей очень хотелось послушать, она наскребала гроши из своего недельного жалованья и покупала билет на стоячее место. То была единственная роскошь, которую она себе позволяла, а концерт был ее единственным отдыхом. Любила она все больше русскую музыку. Слушая ее, чувствовала, что проникает в душу страны, которую никогда не видела, но по которой обречена была вечно тосковать. Она только и знала о России, что со слов отца и матери, из разговоров Евгении с Алексеем, когда они вспоминали прошлое, да из прочитанных книг. Именно когда она слушала музыку Римского-Корсакова и Глазунова, колоритные и надрывающие душу сочинения Стравинского, полученные ею впечатления обретали форму и содержание. Эти безудержные мелодии, эти спотыкающиеся ритмы, в которых было что-то столь чуждое Европе, уводили ее от самой себя от убогого существования, наполняли такой страстной любовью, что по щекам катились счастливые слезы облегчения. Но все, что представлялось, она воочию не видела, оттого все она получала из вторых рук или это было плодом ее лихорадочного воображения, а потому все виделось ей странно искаженным; Кремль с золотыми, в звездах, куполами, и Красная площадь, и Китай-город были для нее словно из сказки; чудилось, будто князь Андрей и очаровательная Наташа и сегодня ходят по хлопотливым московским улицам, Дмитрий Карамазов после безумной ночи у цыган встречает на Москворецком мосту милого Алешу, купец Рогожин проносится в санях с Настасьей Филипповной, и, точно опавшие листья под ветром, гонит по жизни покорных обстоятельствам грустных героев чеховских рассказов; Летний сад и Невский проспект – эти названия для нее по-прежнему звучали как магические заклинания; все едет в своей карете Анна Каренина, элегантный Вронский в новом мундире взбегает по лестнице в домах знати на Фонтанке, а незаконнорожденный Раскольников бредет по Литейному. В буре чувств и тоске, вызванными этой музыкой, в глубине ее сознания всплывает Тургенев, и она видит просторные обветшалые усадьбы, где среди благоуханья всю ночь напролет ведутся разговоры; в бледный рассветный час, в безветрии, когда ничто не шелохнется, стреляют на болоте диких уток; потом всплывает Горький – и ей видятся нищие деревни, где отчаянно пьют, и зверски любят, и убивают; и стремит свои воды Волга, и высятся уступы Кавказа, и чарует ослепительный Крым. Исполненная тоски, исполненная сожаления о навсегда ушедшей жизни, истосковавшаяся по дому, которого у нее никогда не было, всем чужая во враждебном мире, Лидия в эти минуты ощущала себя неотделимой от этой огромной загадочной страны. Хотя она говорила по-русски запинаясь, она была русская и любила свою родную землю; в такие минуты она ощущала, что именно там ее корни, и понимала, почему отец, несмотря на предостережения, даже на грозящую смерть, не мог туда не вернуться.
Случилось так, что на одном из концертов, где исполнялась только русская музыка, Лидия стояла рядом с молодым человеком, который, как она заметила, порой с любопытством на нее посматривал. А в какую-то минуту она сама поглядела на него и поразилась, как страстно он, видимо, захвачен тем, что слушает; руки стиснуты, рот приоткрыт, словно ему не хватает дыхания. Им владел исступленный восторг. У него были приятные черты, и казалось, он человек воспитанный. Лидия лишь мельком глянула на него и опять вернулась к музыке и к пробужденным ею мечтам. Слушая музыку, она тоже позабыла обо всем на свете и едва ли заметила, что негромко всхлипнула. И вдруг с испугом почувствовала, что небольшая мягкая рука слегка пожала ей руку. Она мигом вырвала руку. Эта музыкальная пьеса оказалась последней перед антрактом, и когда она кончилась, молодой человек повернулся к Лидии. У него были чудесные серые глаза под густыми бровями и необыкновенно ласковые.
– Вы плачете, мадемуазель.
Лидии сперва подумалось, что, может быть, он русский, но выговор у него оказался истинно французский. Она поняла, что он пожал ей руку из безотчетного сочувствия, и была тронута.
– Не оттого, что несчастлива,– чуть улыбнувшись, отвечала она.
Он улыбнулся в ответ, улыбка была чарующая.
– Знаю. Эта русская музыка, она невероятно волнует и при этом надрывает душу.
– Но ведь вы француз. Что она может для вас значить?
– Да, я француз. Не знаю, что она для меня значит. Но только эту музыку я и хочу слушать. В ней сила и страсть, кровь и гибель. У меня от нее каждый нерв трепещет.– Он посмеялся над собой.– Иной раз я ее слушаю и чувствую, все я могу сделать, что только в силах человеческих.
Лидия не отозвалась. Удивительно, какие разные чувства вызывает в разных людях одна и та же музыка. Музыка, которую они только что слушали, говорила ей о трагедии человеческой доли, о бесплодности борьбы с судьбой, о радости и покое смирения и покорности.
– На следующей неделе вы идете на концерт? – спросил он потом.-Там тоже будет сплошь русская музыка.
– Вряд ли.
– Почему же?
Он был очень молод, должно быть, не старше ее, и простодушен, что не позволило Лидии ответить слишком холодно на вопрос, который нескромно было задавать незнакомому человеку. Что-то в его манере убеждало ее, что с его стороны это не попытка завязать знакомство. Она улыбнулась.
– Я не миллионерша. Среди русских они, знаете ли, сейчас редки.
– Я знаю кое-кого из тех, кто устраивает эти концерты. У меня контрамарка на двоих. Если вы пожелаете встретиться со мной у входа в следующее воскресенье, вы тоже сможете пройти.
– Боюсь, для меня это невозможно.
– Вам кажется, вас это скомпрометирует? – улыбнулся он. – Толпа вполне заменит дуэнью.е
– Я работаю в швейной мастерской. Меня скомпрометировать трудно. Но я не могу себе позволить оказаться в долгу у совершенно незнакомого человека.
– Вы, конечно, очень хорошо воспитаны, мадемуазель, но к чему такие предрассудки.
Лидии не захотелось спорить.
– Хорошо, там видно будет. Во всяком случае, спасибо за предложение.
Они разговаривали о том о сем, пока дирижер снова не поднял палочку. По окончании концерта молодой человек повернулся к Лидии, чтобы попрощаться.
– Итак, до следующего воскресенья? – сказал он.
– Там видно будет. Не ждите меня.
Они потеряли друг друга в толпе, стремящейся к выходам. На неделе Лидия несколько раз вспоминала красивого молодого человека с большими серыми глазами. Вспоминала с удовольствием. Она дожила до своих лет не без того, чтобы порой противиться ухаживаньям мужчин. Оба – и Алексей и его сын, наемный танцор, пытались к ней приставать, но она без труда их отвадила.
Звонкая пощечина дала понять слезливому пьянице, что он тут ничего не добьется, а мальчишку она поставила на место разумным сочетанием насмешки и беспощадных слов. Довольно часто мужчины пытались заигрывать с ней на улице, но она всегда была слишком усталая и нередко слишком голодная, так что их заигрывания ее не соблазняли; с невеселой усмешкой она думала, что, предложи они ей сытный обед, это соблазнило бы ее куда скорей, чем любящее сердце. Женское чутье подсказывало ей, что ее концертный знакомый на них непохож. Как всякий юнец, он, конечно, не упустит случая позабавиться с девчонкой, но не ради этого пригласил он ее на воскресный концерт. Идти она не собиралась, но ее тронуло, что он ее позвал. Что-то в нем было очень милое, что-то простодушное, искреннее. Она чувствовала, ему можно доверять. Она посмотрела на программу. Давали Патетическую симфонию, которую она не очень-то жаловала, на ее вкус Чайковский был слишком европеец, но в программе и «Весна священная», и Струнный квартет Бородина. Лидия сомневалась, можно ли принять за чистую монету слова этого молодого человека. Вполне возможно, что он пригласил ее под влиянием минуты, а спустя полчаса и думать про это забыл. Настало воскресенье, и она не прочь была пойти посмотреть; послушать концерт очень хотелось, а в кармане ни гроша сверх того, что необходимо на неделю на метро и обед – все остальное пришлось отдать Евгении, чтоб было чем кормить семью; если того молодого человека там не окажется, не беда, а если он там и у него вправду контрамарка на двоих, что ж, его это не введет в расход, и она не будет у него в долгу. В конце концов она поддалась внезапному порыву и оказалась у зала Плейель, и вот он стоит там, где сказал, и ждет ее. Глаза его радостно блеснули, и он горячо пожал ей руку, словно они были старыми друзьями.
– Я так рад, что вы пришли,-сказал он.– Я жду уже двадцать минут. Очень боялся вас пропустить.
Она покраснела и улыбнулась. Они вошли в зал, и оказалось, что билеты у него в пятый ряд.
– Это вам дали такие места? – удивилась Лидия.
– Нет, я их купил. Я подумал, что на удобных местах слушать музыку будет так славно.
– Вот безумие! Я вполне привыкла стоять.
Но его щедрость польстила Лидии, и когда он вскоре взял ее за руку, она руки не отняла. Ему, наверно, приятно держать ее руку, а ей от этого никакого вреда, и ведь она его должница. В антракте он сказал ей свое имя, Робер Берже, а она ему – свое. Он прибавил, что живет с матерью в Нейи и служит маклером в конторе. Разговаривал он как человек грамотный, с мальчишеским воодушевлением, которое смешило Лидию, и была в нем живость, которая хочешь не хочешь показалась привлекательной. Его сияющие глаза, поминутно меняющееся выражение лица выдавали пылкую натуру. Сидеть с ним рядом было все равно что сидеть у костра – его юность источала жар. После концерта они пошли вместе по Елисейским полям, а потом он спросил, не хочет ли она выпить чаю. Отказа он бы не принял. Лидии впервые выпала роскошь сидеть в шикарном кафе среди хорошо одетых людей; аппетитный запах пирожных, пьянящий аромат женских духов, тепло, удобные стулья, шумный разговор – все это ударило ей в голову. Они просидели там час. Лидия рассказала ему о себе, о том, кем был ее отец и что с ним случилось, как она теперь живет и чем зарабатывает на жизнь; он слушал так же заинтересованно, как говорил. Серые глаза лучились ласковым сочувствием. Когда ей пришло время уходить, он спросил, не пойдет ли она как-нибудь с ним в кино. Лидия покачала головой.
– Почему нет?
– Вы богатый молодой человек, а я…
– да нет, не богатый я. Ничего похожего. У моей матери совсем немного денег, сверх ее пенсии, а у меня только то немногое, что я получаю в конторе.
– Тогда нечего распивать чаи в дорогих кафе. Так или иначе я бедная работница. Благодарю вас за всю вашу доброту, но я не дура. Вы были милы со мной, и я думаю, с моей стороны было бы нехорошо и дальше пользоваться вашей добротой, ведь мне нечем вам отплатить.
– Но мне ничего не нужно. Вы мне нравитесь. Мне нравится быть с вами. В то воскресенье, когда вы плакали, у вас такой был трогательный вид, у меня сердце разрывалось. Вы одиноки на свете, и я… я тоже по-своему одинок. Я надеялся, мы станем друзьями.
Лидия холодновато, оценивающе посмотрела на него. Они одних лет, но, по сути, она много старше; на его лице написано такое чистосердечие, она не сомневалась, он верит в то, что говорит, но ей хватало мудрости понять, что он болтает вздор.
– Позвольте быть с вами совершенно откровенной,– сказала она.– Я знаю, я не бог весть какая красавица, но все же я молода, и есть немало людей, которые находят меня хорошенькой, те, кому нравится русский тип; было бы слишком, если бы я поверила, что вы ищете моего общества только ради удовольствия беседовать со мной. Я еще не ложилась в постель с мужчиной. Думаю, было бы не очень честно с моей стороны позволить вам тратить на меня время и деньги при том, что ложиться с вами в постель я не собираюсь.
– Что и говорить, откровенно сказано,– улыбнулся он, да какой обаятельной улыбкой.– Но, видите ли, я это понимал. Не зря я всю жизнь прожил в Париже, чему-то и научился. Я мигом чую, готова девушка поразвлечься или не готова. Я сразу понял, что вы девушка добропорядочная. На концерте я взял вас за руку только потому, что вы чувствовали музыку так же глубоко, как я, и прикосновение вашей руки… как бы лучше это объяснить… я ощущал, как ваше волнение передается мне и делает мое восприятие богаче, полней. Так или иначе в моем чувстве вовсе не было и намека на плотское желание.
– И однако, мы ощущали музыку очень по-разному – задумчиво сказала Лидия.– В какой-то миг я взглянула на ваше лицо и испугалась. Оно было безжалостное, свирепое. Будто вовсе и не человеческое лицо, но маска торжествующего зла. Мне стало страшно.