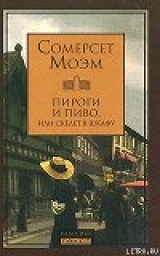
Текст книги "Пироги и пиво, или Скелет в шкафу"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Наверное, то, что дядин помощник так снисходительно отзывался о человеке, который уже давно признан одним из величайших поздневикторианских романистов, теперь может вызвать улыбку; но именно так о Дриффилде обычно говорили в Блэкстебле. Как-то нас пригласила к чаю миссис Гринкорт, у которой гостила ее двоюродная сестра, жена преподавателя из Оксфорда, слывшая весьма образованной особой. Эта миссис Энкомб была маленького роста, с живым морщинистым лицом; она поразила нас тем, что коротко стригла свои седые волосы и носила черную шерстяную юбку, едва доходившую до верхнего края туфель с квадратными носами. Это была первая Современная Женщина, появившаяся в Блэкстебле. Мы были потрясены и сразу же заняли оборонительные позиции, потому что она выглядела умной, а мы от этого робели. (Потом все мы издевались над ней, и дядя говорил тете: «Нет, дорогая, я рад, что ты не так умна, по крайней мере, от этого я избавлен»; а когда тетя была в игривом настроении, она надевала поверх своих туфель дядины шлепанцы, согревавшиеся у огня, и говорила: «Смотрите – современная женщина». И потом мы все говорили: «Какая смешная эта миссис Гринкорт: никогда не знаешь, что она еще придумает. А все-таки она – не совсем то…» Мы никак не могли простить ей того, что ее отец был хозяином фарфоровой фабрики, а дед – рабочим.)
Но всем нам было очень интересно слушать, как миссис Энкомб рассказывает о людях, которых она знала. Дядя учился в Оксфорде, но оказалось, что все, о ком он спрашивал, уже умерли. Миссис Энкомб была знакома с миссис Хэмфри Уорд и восхищалась «Робертом Элсмиром». Дядя считал его скандальной книгой и был удивлен, когда узнал, что мистер Гладстон, по крайней мере называвший себя христианином, сказал о ней несколько хороших слов. Дядя даже поспорил с миссис Энкомб. Он сказал, что, по его мнению, эта книга внесет в умы смуту и внушит людям такие мысли, которых им лучше бы не иметь. Миссис Энкомб отвечала, что он так не думал бы, если бы знал миссис Хэмфри Уорд. Это весьма достойная женщина, племянница мистера Мэтью Арнольда, и, что бы вы ни думали о самой книге (а она, миссис Энкомб, готова признать, что кое-что в ней лучше было бы убрать), совершенно очевидно, что она написала ее из наилучших побуждений. Миссис Энкомб знала и мисс Браутон. Она из очень хорошей семьи, и странно, что она пишет такие книги.
– Я не вижу в них ничего плохого, – сказала миссис Хэйфорт, жена доктора. – Мне они нравятся, особенно «Красна, как розочка».
– А вы хотели бы, чтобы их прочли ваши девочки? – спросила миссис Энкомб.
– Пока еще нет, вероятно, – ответила миссис Хэйфорт, – но, когда они выйдут замуж, я ничего не буду иметь против.
– Тогда вам, может быть, интересно будет узнать, – сказала миссис Энкомб, – что, когда на прошлую пасху я была во Флоренции, меня познакомили с Уйда.
– Это совсем другое дело, – возразила миссис Хэйфорт. – Я не представляю, чтобы хоть одна леди могла читать книги Уйда.
– Я прочла одну из любопытства, – сказала миссис Энкомб. – Должна сказать, что такого скорее можно было ждать от француза, чем от порядочной англичанки.
– Но, насколько я понимаю, она на самом деле – не англичанка. Я слышала, что ее настоящее имя – мадемуазель де ля Раме.
Тут-то мистер Гэллоуэй и завел речь об Эдуарде Дриффилде.
– Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель, – вставил он.
– Мы не очень им гордимся, – сказал майор. – Это сын управляющего старой мисс Вулф, а женился он на буфетчице.
– А хорошо ли он пишет? – спросила миссис Энкомб.
– Сразу видно, что он – не джентльмен, – ответил дядин помощник, – но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет.
– Он приятель нашего Уилли, – сказал дядя.
Все посмотрели на меня, и я очень смутился.
– Прошлым летом они вместе катались на велосипеде, и, когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффилда, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь.
– Я сам пробежал одну его книгу, – признался доктор. – Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась: по-моему, слишком груба.
– Я говорил ему об этом, – сказал мистер Гэллоуэй, – он ответил, что матросы с угольщиков, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльмены, и говорят совсем иначе.
– Так зачем о таких писать? – возразил дядя.
– Вот именно, – отозвалась миссис Хэйфорт. – Все мы знаем, что на свете есть грубые, и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать.
– Я не защищаю его, – сказал мистер Гэллоуэй, – я просто рассказываю вам, как он сам это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса.
– Диккенс – совсем другое дело, – заявил дядя. – Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против «Пиквикского клуба».
– По-моему, это дело вкуса, – сказала тетя. – Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода и Уилли не может больше кататься с мистером Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться.
Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились.
9
Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилдов рядом с конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал Лорда Джорджа и часто – мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им; по-моему, мы оба были очень довольны, что водим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кемп, встретившись с дядей на улице, может между прочим заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю:
– А как насчет Лорда Джорджа?
– Ну, это я уладил.
Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден и изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении, и мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить его на место. Он был неизменно добродушен, весел, даже шумлив; он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами; мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивал блэкстеблских знаменитостей, и, когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен, и его манера одеваться всегда меня шокировала (я никогда не бывал на ипподроме в Ньюмаркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе ньюмаркетского тренера), и за столом он держался ужасно, но мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать «Розовый журнал». Я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне.
Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая и там пил чай во второй раз. Потом Тед Дриффилд пел комические песни, аккомпанируя себе иногда на банджо, а иногда на пианино. Он мог часами петь, улыбаясь и глядя в ноты своими немного близорукими глазами, и любил, когда мы подхватывали припев. Потом мы играли в вист. Я обучился этой игре еще в детстве: дядя, тетя и я коротали дома за картами долгие зимние вечера. Дядя всегда садился с болваном и, хотя никаких денежных ставок, конечно, не было, но когда мы с тетей проигрывали, я залезал под стол и плакал. Тед Дриффилд говорил, что ничего в картах не понимает, и когда мы садились играть, устраивался у камина и с карандашом в руке читал какую-нибудь книгу, присланную ему из Лондона на рецензию. Играть вчетвером мне до тех пор не приходилось, и игрок я был, конечно, плохой, зато миссис Дриффилд оказалась прирожденной картежницей. Обычно она двигалась спокойно и неторопливо, но, когда дело касалось карт, действовала быстро, всегда была начеку и всех нас обыгрывала. Говорила она тоже, как правило, немного и медленно, но когда после каждой сдачи добродушно принималась растолковывать мне мои ошибки, что получалось у нее понятно и доступно, то становилась даже разговорчивой. Лорд Джордж подшучивал над ней, как и над всеми остальными. Она улыбалась его шуткам – смеялась она редко – и иногда удачно отшучивалась. Они вели себя не как любовники, а как старые приятели, и я бы совсем забыл, что о них говорили и что я видел сам, если бы время от времени она не смотрела на него так, что я приходил в замешательство. Ее взгляд спокойно останавливался на нем, как будто он был не человек, а стул или стол, и в глазах ее появлялась озорная, детская улыбка. Я заметил, что Лорд Джордж в таких случаях весь как будто надувался и начинал беспокойно ворочаться на стуле. Я посматривал на дядиного помощника, боясь, как бы он чего-нибудь не заметил, но он или был поглощен картами, или разжигал трубку.
Час-другой, который я проводил каждый день в этой душной, тесной, прокуренной комнате, проносились как одно мгновение. По мере того, как каникулы близились к концу, я начал приходить в отчаяние от мысли, что мне предстоит еще три месяца томиться в школе.
– Не знаю, что мы без вас будем делать, – говорила миссис Дриффилд. – Придется играть с болваном.
Я был рад, что мой отъезд испортит им игру. Мне не хотелось, делая уроки, думать о том, что они сидят в этой маленькой комнате и развлекаются, как будто меня нет на свете.
– Сколько времени у вас продолжаются пасхальные каникулы? – спросил мистер Гэллоуэй.
– Около трех недель.
– То-то весело мы проведем время, – сказала миссис Дриффилд. – Погода, наверное, будет хорошая. По утрам мы будем кататься, а после чая играть в вист. Вы стали играть гораздо лучше. Вот поиграем три-четыре раза в неделю во время ваших каникул, и можете смело садиться с кем угодно.
10
Но вот наконец занятия кончились. В прекрасном настроении я опять сошел с поезда в Блэкстебле. Я немного подрос, заказал себе в Теркенбери новый костюм – синий шерстяной, очень шикарный, и купил новый галстук. Я собирался идти к Дриффилдам сразу же, как только попью чаю, и надеялся, что посыльный вовремя принесет костюм и я смогу его надеть. В нем я выглядел совсем взрослым. Я уже начал каждый вечер мазать себе вазелином верхнюю губу, чтобы быстрее росли усы. Проходя по городу, я с надеждой заглянул в переулок, где жили Дриффилды. Мне хотелось забежать к ним, чтобы поздороваться, но я знал, что мистер Дриффилд по утрам пишет, а миссис Дриффилд «не в форме». У меня было что им порассказать. Я выиграл забег на сто ярдов и занял второе место по барьерному бегу. Осенью я собирался претендовать на приз по истории и для этого предполагал на каникулах подзаняться. Хотя дул восточный ветер, небо было голубое, и в воздухе пахло весной. Хай-стриг играла свежими красками, как будто промытая ветром, а четкие очертания домов были похожи на рисунок пером Сэмюела Скотта – спокойный, наивный и уютный. Мне так кажется сейчас, когда я вспоминаю тот день; тогда же это была для меня просто Хай-стриг в Блэкстебле. Проходя мимо железнодорожного моста, я заметил два или три строящихся дома. «Вот это да, – подумал я, – Лорд Джордж и в самом деле развернулся».
В поле за городом резвились белые ягнята. Вязы только начинали зеленеть. Я вошел в боковую дверь. Дядя сидел в своем кресле у огня и читал «Таймс». Я позвал тетю, она прибежала вниз, раскрасневшаяся от возбуждения, и обняла меня своими старыми худыми руками. При этом она сказала все, что полагалось: и «Как ты вырос!», и «Боже мой, у тебя скоро будут усы!».
Я поцеловал дядю в лысую макушку и встал спиной к камину, широко расставив ноги, чувствуя себя очень взрослым и важным. Потом я поднялся наверх поздороваться с Эмили, а потом – на кухню, к Мэри-Энн, и в сад – повидать садовника.
Когда я, голодный, уселся обедать и дядя резал мясо, я спросил тетю:
– Ну, что происходило в Блэкстебле, пока меня не было?
– Ничего особенного. Миссис Гринкорт уезжала на шесть недель в Ментону, но несколько дней назад вернулась. У майора был приступ подагры.
– А твои друзья Дриффилды сбежали, – добавил дядя.
– Что? – воскликнул я.
– Сбежали. Однажды ночью забрали свои вещи и смылись в Лондон. Остались должны всем и каждому. Ни за квартиру не заплатили, ни за мебель. Мяснику Харрису задолжали чуть ли не тридцать фунтов.
– Ужасно, – сказал я.
– Это бы еще ничего, – вставила тетя, – но они как будто даже не заплатили горничной, которая у них работала три месяца.
– Надеюсь, впредь, – сказал дядя, – ты станешь умнее и не будешь якшаться с людьми, которых мы с тетей считаем неподходящими для тебя знакомыми.
– Остается только пожалеть тех торговцев, которых они обманули, – сказала тетя.
– Так им и надо, – возразил дядя. – Нечего было предоставлять кредит таким людям! По-моему, всякий мог видеть, что это просто авантюристы.
– Я всегда удивлялась, зачем вообще они сюда приехали.
– Просто хотели пустить пыль в глаза. И наверное, думали, что раз здесь люди их знают, то им будет легче получать все в кредит.
Мне это показалось не очень логичным, но я был слишком подавлен, чтобы спорить.
При первой же возможности я расспросил Мэри-Энн, что она знает об этом деле. К моему удивлению, она отнеслась к этому вовсе не так, как дядя и тетя.
– Здорово они всех надули, – хихикнула она. – Швырялись деньгами направо и налево, и все думали, что у них кошелек битком набит. Грудинку у мясника брали самую лучшую, а уж если на жаркое, то только вырезку. И спаржу, и виноград, и я не знаю что. У них были счета в каждой лавке по всему городу. Не знаю, как это можно быть такими дураками.
Но она явно имела в виду не Дриффилдов, а торговцев.
– А как же им удалось удрать, чтобы никто не знал? – спросил я.
– Вот этого никто и не может понять. Говорят, им Лорд Джордж помог. Скажи-ка, как же они могли бы дотащить вещи на станцию, если бы он не подвез их в своей тележке?
– А он что говорит?
– Говорит, что ничего не знает. Тут такое творилось, когда до всех дошло, что Дриффилды улизнули! Просто смех. Лорд Джордж говорит, он не подозревал, что у них ничего нет, и прикидывается, будто тоже удивлен, как и все. Но я-то ни слову его не верю. Все мы знаем, что у него было с Рози до того, как она вышла замуж, да, между нами, я и не верю, что на этом все кончилось. Говорят, кто-то видел, как они прошлым летом прогуливались за городом, да и у них он бывал каждый божий день.
– А как все это стало известно?
– А вот как. У них там работала одна девушка, и они сказали ей, что она может идти к матери ночевать, но чтобы вернулась не позже восьми утра. Ну, пришла она и не может попасть в дом. Стучала, звонила – никто не отвечает. Она пошла к соседям и спросила там, что ей делать, и соседка говорит, что лучше всего пойти в полицию.» Пришел сержант, он тоже звонил и стучал, и никакого ответа. Тогда он спросил ее, заплатили ли они ей, а она сказала – нет, за целых три месяца, и тогда он сказал: «Можешь мне поверить, они смылись, вот что». И когда вошли в дом, то увидели, что они взяли всю одежду, и все книги – говорят, у Теда Дриффилда их было ужасно много, – и все до последнего, что у них там было.
– И с тех пор никто о них ничего не слышал?
– Да в общем нет, только когда их не было уже с неделю, эта девушка получила письмо из Лондона, и, когда его распечатала, там не было никакого письма и ничего, а только почтовый перевод на те деньги, что она заработала. И если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку.
Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мэри-Энн. Я был весьма респектабельным юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса, считая их такими же незыблемыми, как законы природы, и хотя огромные долги, о которых я читал в книгах, казались мне романтичными, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, – я не мог не счесть неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал, когда в моем присутствии говорили о Дриффилдах, а как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил: «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком»; и когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?», я отвечал: «Да, пожалуй, потомственной аристократией от них не пахло».
Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен.
– Конечно, я не думал, что они богаты, – говорил он мне, – но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего огорчает – это обман. Я много у них бывал и, мне казалось, нравился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите, но когда я последний раз с ними виделся, миссис Дриффилд на прощанье пригласила меня приходить на» следующий день, а Дриффилд сказал: «Завтра к чаю горячие булочки». А в это время наверху у них все уже было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон.
– А что говорит об этом Лорд Джордж?
– Сказать вам правду, я последнее время не очень стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая пословица о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить.
Я относился к Лорду Джорджу примерно так же и тоже немного нервничал. Если бы ему пришло в голову рассказать кому-нибудь, что в рождественские каникулы я чуть ли не каждый день бывал у Дриффилдов, и если бы это дошло до дядиных ушей, мне грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании и неджентльменском поведении, и мне было бы нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дела так не оставит и будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже был рад, что не встречался с Лордом Джорджем. Но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит.
– Хэлло, юноша! – крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. – Снова на каникулы?
– Вы совершенно правы, – ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Увы, он только разразился хохотом.
– До чего же острый у вас язык – смотрите, не обрежьтесь, – добродушно ответил он. – Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется? Видите, что получается, когда живешь не по средствам. Я так и говорю своим ребятам: если у тебя есть фунт и ты тратишь девятнадцать с половиной шиллингов, то ты богатый человек; а если тратишь двадцать с половиной, ты нищий. По мелочи, по мелочи большие деньги собираются!
Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами.
– Говорят, вы помогли им улизнуть, – заметил я.
– Я? – Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. – Что вы! Когда мне сказали, что Дриффилды удрали, у меня так ноги и подкосились. Они мне были должны за уголь четыре фунта и семнадцать с половиной шиллингов. Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя – так он и не получил булочку к чаю.
Такого нахальства я не ожидал от Лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что мне надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощанье.
11
Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дриффилда с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову: а не потому ли, что в годы моего отрочества окружающие нас люди так мало ценили его как писателя, – не потому ли я никогда не мог увидеть в нем те потрясающие достоинства, которые со временем стала приписывать ему критика?
Его язык долго считали очень плохим, и в самом деле ощущение было такое, будто он писал тупым огрызком карандаша; в его вымученном стиле смешались архаизмы и просторечие, а его персонажи разговаривали так, как не говорит ни один живой человек. Когда он в конце жизни диктовал свои книги, его стиль, приобретя разговорную легкость, стал плавным и водянистым; и тогда критики, вернувшись к произведениям поры его расцвета, нашли, что там язык был сильным, выразительным и колоритным. Расцвет Дриффилда пришелся на ту пору, когда были в моде изящные отрывки, и некоторые описания из его книг попали во все хрестоматии английской прозы. Особенно прославились его картины моря, весны в кентских лесах и заката на Нижней Темзе. Мне следовало бы стыдиться, но, читая их, я всегда испытываю неловкость.
Во времена моей молодости его книги расходились плохо, а одна или две не были допущены в библиотеки; и все же восхищаться им считалось признаком культуры. Его считали смелым реалистом. Это была удобная дубинка для побиения филистеров. Кто-то в приступе вдохновения обнаружил, что его моряки и крестьяне – поистине шекспировские типы, а когда собирались вместе тонко понимающие натуры, их приводил в экстаз сдержанный соленый юмор его деревенских персонажей. На это Эдуард Дриффилд не скупился. Когда он вводил меня в корабельный кубрик или в трактир, у меня падало сердце: я знал, что предстоит полдюжины страниц жаргона с остроумными высказываниями о жизни, этике и бессмертии. Правда, и шекспировские комические герои всегда наводят на меня скуку, а их бесчисленное потомство и вовсе невыносимо.
Сильной стороной Дриффилда, вероятно, было изображение того круга людей, который он знал лучше всего: фермеров и батраков, лавочников и трактирщиков, шкиперов, помощников капитана, коков и матросов. Когда у него появляются персонажи более высокого общественного положения, надо полагать, даже его самым ярым почитателям становится немного не по себе. Его джентльмены так невероятно благородны, его знатные леди так безгрешны, так чисты и возвышенны – неудивительно, что выражаться они могут только очень длинно и с большим достоинством. Женщины в его книгах какие-то неживые. Но и здесь я должен добавить, что это только мое личное мнение; широкая публика и самые видные критики единодушно соглашаются, что это обаятельные примеры английской женственности – жизненные, величавые, великодушные; их часто сравнивали с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что женщины обычно страдают запором, но изображать их в литературе так, как будто они вовсе лишены заднего прохода, – по-моему, уж чрезмерная галантность. Удивительно, как это может нравиться им самим.
Критики способны заставить мир обратить внимание на очень посредственного писателя; мир может сходить с ума по писателю вовсе недостойному: но в обоих случаях это не может продолжаться долго. Сохранять же популярность столько времени, сколько это удалось Эдуарду Дриффилду, писатель может, надо думать, только если он наделен значительным талантом. Снобы презирают популярность; они даже склонны утверждать, будто это доказательство посредственности; но они забывают, что потомство делает свой выбор не среди неизвестных авторов данного периода, а среди тех, кто пользовался известностью. Может случиться, что появится некий великий шедевр, заслуживающий бессмертия, но, если он увидел свет мертворожденным, потомство о нем так ничего и не узнает. Не исключено, что потомки отправят в макулатуру все наши нынешние бестселлеры, но выбирать им придется все-таки из них. А слава Эдуарда Дриффилда, во всяком случае, не меркнет. Мне его романы кажутся скучными; на мой взгляд, они затянуты; на меня не производят впечатления мелодраматические события, которыми он пытается оживить гаснущий интерес читателя; но что у него есть – так это искренность. В его лучших книгах чувствуется биение жизни, и нет среди них такой, где бы вы не ощутили присутствия загадочной личности автора. Первое время его превозносили или ругали за реализм; критики в зависимости от своих взглядов либо хвалили его за правдивость, либо упрекали в грубости. Но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые устрашили бы его всего лишь поколение назад.
Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в «Таймс литерари сапплмент», появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатления ее высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее благоговение и благочестие, короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишеств и нежным без слащавости. Статья была сама по себе исполнена прекрасного. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота-другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. К тому же хорошо известно, что Прекрасное не очень благосклонно к робким авансам Юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что, каковы бы ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило.
Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на бога прошла (как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво), и начался культ Пана. В сотнях книг его раздвоенное копытце оставляло след на траве; поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Серрея – эти нимфы индустриального века – загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уже не могли стать прежними. Но прошла мода и на Пана, и теперь его место заняло Прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, написавших по одной добротной многообещающей повести каждая, щебечут о нем всякая на свой манер – иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд, но все еще окутанные ореолом его славы молодые люди, которые учат нас на страницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Оно уже безнадежно изношено – боже мой, как безжалостно его затрепали! Идеал можно называть по-разному, и прекрасное – лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного – всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящегося своих чувств, не что иное, как сентиментальность? Может быть, следующее поколение, которое лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет искать вдохновения не в бегстве от действительности, а в приятии ее?
Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По-моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке «Эндимиона». Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь; я не верю людям, которые говорят, что могут часами как зачарованные смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное – это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в сущности, ничего не расскажешь. Оно – как аромат розы: его можно понюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве – если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу «Положения во гроб» Тициана – картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, – это посоветовать вам пойти на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества – возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. Прекрасное – это совершенство, а совершенство (такова уж природа человека) лишь ненадолго задерживает наше внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «Qu'est ce que ca prouve?»[4]4
А что это доказывает? (фр.)
[Закрыть] – был не таким уж дураком, как обычно считают. Никто еще не смог объяснить, почему дорический храм в Пестуме более прекрасен, чем стакан холодного пива, если только не привлекать соображений, не имеющих к прекрасному никакого отношения. Прекрасное – это тупик. Это горная вершина, достигнув которой дальше идти некуда. Вот почему нас, в конце концов, больше очаровывает Эль Греко, чем Тициан, несовершенство Шекспира нам ближе, чем безупречность Расина. О прекрасном написано слишком много. Вот почему я написал немного еще. Прекрасное – это то, что удовлетворяет эстетический инстинкт. Но кому нужно полное удовлетворение? Только тупицы считают, что от добра добра не ищут. Будем откровенны: прекрасное немного скучно.
Но все, что писали критики про Эдуарда Дриффилда, было, конечно, сплошной чепухой. Не реализм, придававший жизненность его произведениям, составлял его выдающееся достоинство, не красота, которой они исполнены, не четко очерченные образы мореплавателей, не поэтические описания болот, шторма и штиля или уютных деревушек, – этим достоинством была его долговечность. Уважение к возрасту – одна из самых замечательных человеческих черт, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни в одной стране она не проявляется так заметно, как у нас. Другие нации нередко относятся к старости с платоническим почтением и любовью; у нас же это проявляется на практике. Кто, кроме англичан, способен заполнять зал Ковент-Гардена, чтобы послушать престарелую безголосую примадонну? Кто, кроме англичан, готов платить за удовольствие смотреть на таких дряхлых танцоров, что они еле передвигают ноги, да еще говорить друг другу в антракте: «Вот это да; а вы знаете, что ему уже под шестьдесят?» Но в сравнении с политическими деятелями и писателями это просто мальчишки, и мне часто кажется, что jeune-premier[5]5
герой-любовник (фр.)
[Закрыть], если он не наделен из ряда вон выходящим добродушием, должен с горечью подумывать, что ему в семьдесят лет придется закончить свою карьеру, а общественный деятель и писатель в этом возрасте только входят в самую пору. Сорокалетний политик становится к семидесяти государственным деятелем. Именно в этом возрасте, когда он слишком стар, чтобы быть клерком, или садовником, или полицейским судьей, он созревает для руководства государством. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что с самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, – а к тому времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь, они сами превращаются в стариков, и им выгодно поддерживать это заблуждение. Кроме того, каждый, кто вращался в политических кругах, не мог не заметать, что если судить по результатам, то для управления страной не требуется особых умственных способностей. Но вот почему писатели заслуживают тем большего почета, чем старше они становятся, – это давно приводит меня в недоумение. Одно время я думал, что похвалы, расточаемые им тогда, когда они уже двадцать лет как не написали ничего интересного, объясняются в основном тем, что более молодые люди, уже не боясь их конкуренции, без опаски превозносят их достоинства: хорошо известно, что хвалить человека, соперничество которого вам не грозит, – часто очень хороший способ ставить палки в колеса тому, чьей конкуренции вы опасаетесь. Но это слишком низкое мнение о человеческой природе, а я ни за что на свете не хотел бы навлечь на себя обвинения в дешевом цинизме. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что причина всеобщих рукоплесканий, скрашивающих последние годы писателя, который превысил обычную продолжительность человеческой жизни, на самом деле в том, что интеллигентные люди после тридцати лет вовсе ничего не читают. И по мере того, как они стареют, книги, прочитанные ими в молодости, окрашиваются радужными воспоминаниями того времени, и с каждым годом их автору приписываются все большие достоинства. Он, конечно, должен продолжать писать, чтобы не быть забытым публикой. Он не должен думать, что достаточно написать один-два шедевра; он должен подвести под них пьедестал из сорока – пятидесяти книг, не представляющих особого интереса. На это нужно время. Производительность писателя должна быть такой, чтобы оглушить читателя массой, если уж нельзя удержать его интерес качеством.








