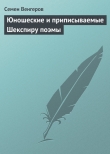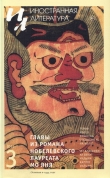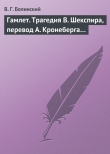Текст книги "Год Шекспира"
Автор книги: Уильям Шекспир
Соавторы: Хилари Мантел,Александр Жолковский,Хаим Плуцик,Кеннет Брана
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Год Шекспира
Хилари Мантел
Письмо Шекспиру
Перевод с английского Т. Казавчинской
Дорогой отец мой Шекспир!
На этой неделе я перевесила твой портрет туда, куда не доходят лучи солнца – начинается лето, и мне подумалось, что тебе так будет лучше. Призна́юсь, я много лет не решалась повесить тебя у себя в комнате: боялась гостей. Когда на вопрос, кто ваш любимый писатель, следует ответ: «Шекспир», это воспринимается как отговорка. Но стоит сказать, что как сочинитель ты всем обязан Шекспиру, и собеседник заключает, что у тебя выраженная мания величия.
В конце концов, решила я: пусть думают, что́ им заблагорассудится, мне что за дело? Если уж так случилось, что ты стал для меня утешителем и вдохновителем, разве не чудесно всегда иметь твое лицо перед глазами? Ты вливал в меня силы, когда я падала духом, не позволял сдаваться, когда наступала черная полоса.
Родители у меня не из образованных. Дома в детстве книг было раз два и обчелся – впрочем, как и у всех знакомых и соседей. Но когда мне исполнилось одиннадцать и мать снова вышла замуж, жизнь переменилась. Мы переехали в другой город, и она стала буквально из кожи вон лезть, чтобы выглядеть пореспектабельней. В доме, решила она, должны быть книги – «как у людей». Ну а какие книги стоят «у людей»? Ясно, как божий день: полное собрание сочинений Шекспира.
Помню летний полдень, когда мы его купили: большой, черный, тяжелый томина на дешевой, газетной, с первых дней пожелтевшей бумаге, со смазанной, словно не просохшей типографской краской. Точно такие же «кирпичи» годами томятся на полках бесчисленных магазинов страны – пылеуловители, не знающие человеческого прикосновения. Но едва я открыла книгу, как она запульсировала в руках, словно живая. Любовники, заблудившиеся в лесу летней ночью; Цезарь, погибающий в кровавой стихии мятежа; жертвы кораблекрушения, выброшенные на неведомый остров; на зубчатой стене замка принц датский беседует с призраком.
Никто меня не предупредил, что читать тебя трудно, и читать тебя было легко. В тот год я перешла в старшие классы, где тебя положено изучать по программе. Но в каникулы совершился прорыв – нет-нет, не то, чтоб я прочла всё, от корки до корки, это случилось потом, но проглотила одну за другой не меньше десятка пьес. И тогда же неугасимой любовью полюбила твои бурные, непричесанные хроники – истории, порожденные мифами, всплывшие из толщи времени. В свои одиннадцать я мигом впитала то, в чем нуждалась острее всего: историю и поэзию, очутившись в самом их средоточии. Мне необходимо было прилепиться к чему-то душой: детство стремительно таяло. И дело было не только в другом городе, но и в другой фамилии, другом отце – вернее, отчиме. Отец от нас ушел, я его никогда больше не видела. Перемены были отнюдь не к лучшему, и почти всю последующую жизнь я ощущала себя безотцовщиной.
Но в один прекрасный день, лет пятнадцать назад, мне вдруг подумалось: «Что это я! Отец у меня есть, это Шекспир». Вот тогда-то, осознав, что́ ты для меня значишь, я и повесила у себя в комнате твой портрет. И в этом году, в дни 400-летнего юбилея со дня твоей смерти, я, одна из множества твоих преданных живущих на земле дочерей, ставлю свое имя под этим письмом. Нас миллионы – и нам не требуется ответа.
Хилари Мантел.
2016
Уильям Шекспир
Венера и Адонис
Поэма. С параллельным английским текстом. Перевод с английского Виктора Куллэ
Villa miretur vulgus; mihi
flavus Apollo
Pocula Castalia plena ministret
aqua.
[Ovid., I. Am., XV, 35–36]
To the Right honourable Henry Wriothesley, Earl of Southampton, and Baron of Tichfield.
Right honourable,
I know not how I shall offend in dedicating my unpolished lines to your Lordship, nor how the world will censure me for choosing so strong a prop to support so weak a burtden; only if your Honour seem but pleased I account myself highly praised, and vow to take advantage of all idle hours, till I have honoured you with some graver labour. But if the first heir of my invention prove deformed I shall be sorry it had so noble a godfather, and never after ear so barren a land, for fear it yield me still so bad a harvest. I leave it to your honourable survey, and your Honour to your heart’s content, which I wish may always answer your own wish, and the world’s hopeful expectation.
Your Honour’s in all duty,
William Shakespeare
Venus and Adonis
Even as the sun with purple-coloured face
Had ta’en his last leave of the weeping morn,
Rose-cheeked Adonis hied him to the chase.
Hunting he loved, but love he laughed to scorn.
Sick-thoughted Venus makes amain unto him,
And like a bold-faced suitor ’gins to woo him.
ʼThrice fairer than my self’, thus she began,
ʼThe field’s chief flower, sweet above compare,
Stain to all nymphs, more lovely than a man,
More white and red than doves or roses are:
Nature that made thee with herself at strife,
Saith that the world hath ending with thy life.
ʼVouchsafe, thou wonder, to alight thy steed,
And rein his proud head to the saddle-bow.
If thou wilt deign this favour, for thy meed
A thousand honey secrets shalt thou know:
Here come and sit, where never serpent hisses,
And being set, I’ll smother thee with kisses,
ʼAnd yet not cloy thy lips with loathed satiety,
But rather famish them amid their plenty,
Making them red, and pale, with fresh variety:
Ten kisses short as one, one long as twenty.
A summer’s day will seem an hour but short,
Being wasted in such time-beguiling sport.’
With this she seizeth on his sweating palm,
The precedent of pith and livelihood,
And, trembling in her passion, calls it balm,
Earth’s sovereign salve, to do a goddess good.
Being so enraged, desire doth lend her force
Courageously to pluck him from his horse.
Over one arm the lusty courser’s rein,
Under her other was the tender boy,
Who blushed and pouted in a dull disdain,
With leaden appetite, unapt to toy;
She red, and hot, as coals of glowing fire,
He red for shame, but frosty in desire.
The studded bridle on a ragged bough,
Nimbly she fastens (O how quick is love!);
The steed is stallèd up, and even now,
To tie the rider she begins to prove.
Backward she pushed him, as she would be thrust,
And governed him in strength though not in lust.
So soon was she along, as he was down,
Each leaning on their elbows and their hips.
Now doth she stroke his cheek, now doth he frown,
And ’gins to chide, but soon she stops his lips,
And kissing speaks, with lustful language broken:
ʼIf thou wilt chide, thy lips shall never open.’
He burns with bashful shame, she with her tears
Doth quench the maiden burning of his cheeks;
Then with her windy sighs, and golden hairs,
To fan, and blow them dry again she seeks.
He saith she is immodest, blames her miss;
What follows more, she murders with a kiss.
Even as an empty eagle sharp by fast,
Tires with her beak on feathers, flesh, and bone,
Shaking her wings, devouring all in haste,
Till either gorge be stuffed, or prey be gone:
Even so she kissed his brow, his cheek, his chin,
And where she ends, she doth anew begin.
Forced to content, but never to obey,
Panting he lies, and breatheth in her face;
She feedeth on the steam, as on a prey,
And calls it heavenly moisture, air of grace,
Wishing her cheeks were gardens full of flowers,
So they were dewd with such distilling showers.
Look how a bird lies tangled in a net,
So fasten’d in her arms Adonis lies.
Pure shame and awed resistance made him fret,
Which bred more beauty in his angry eyes:
Rain, added to a river that is rank,
Perforce will force it overflow the bank.
Still she entreats, and prettily entreats,
For to a pretty ear she tunes her tale.
Still is he sullen, still he lours and frets,
ʼTwixt crimson shame, and anger ashy-pale,
Being red she loves him best, and being white,
Her best is bettered with a more delight.
Look how he can, she cannot choose but love;
And by her fair immortal hand she swears,
From his soft bosom never to remove,
Till he take truce with her contending tears,
Which long have rained, making her cheeks all wet,
And one sweet kiss shall pay this countless debt.
Upon this promise did he raise his chin,
Like a dive-dapper peering through a wave,
Who being looked on, ducks as quickly in:
So offers he to give what she did crave,
But when her lips were ready for his pay,
He winks, and turns his lips another way.
Never did passenger in summer’s heat
More thirst for drink, than she for this good turn.
Her help she sees, but help she cannot get;
She bathes in water, yet her fire must burn:
ʼO! pity’, gan she cry, ʼflint-hearted boy,
ʼTis but a kiss I beg; why art thou coy?
ʼI have been wooed as I entreat thee now,
Even by the stern and direful god of war,
Whose sinewy neck in battle ne’er did bow,
Who conquers where he comes in every jar,
Yet hath he been my captive, and my slave,
And begged for that which thou unasked shalt have.
ʼOver my altars hath he hung his lance,
His battered shield, his uncontrollèd crest,
And for my sake hath learned to sport, and dance,
To toy, to wanton, dally, smile, and jest,
Scorning his churlish drum and ensign red,
Making my arms his field, his tent my bed.
ʼThus he that over-ruled, I over-swayed,
Leading him prisoner in a red-rose chain.
Strong-tempered steel his stronger strength obeyed;
Yet was he servile to my coy disdain.
O be not proud, nor brag not of thy might,
For mastering her that foiled the God of fight.
ʼTouch but my lips with those fair lips of thine
(Though mine be not so fair, yet are they red),
The kiss shall be thine own as well as mine.
What seest thou in the ground? Hold up thy head,
Look in mine eye-balls, there thy beauty lies:
Then why not lips on lips, since eyes in eyes?
ʼArt thou ashamed to kiss? Then wink again,
And I will wink, so shall the day seem night.
Love keeps his revels where there are but twain;
Be bold to play; our sport is not in sight:
These blue-veined violets whereon we lean
Never can blab, nor know not what we mean.
ʼThe tender spring upon thy tempting lip
Shows thee unripe; yet mayst thou well be tasted.
Make use of time, let not advantage slip:
Beauty within itself should not be wasted,
Fair flowers that are not gathered in their prime
Rot, and consume themselves in little time.
ʼWere I hard-favoured, foul, or wrinkled old,
Ill-nurtured, crookèd, churlish, harsh in voice,
O’er-worn, despisèd, rheumatic, and cold,
Thick-sighted, barren, lean, and lacking juice;
Then mightst thou pause, for then I were not for thee,
But having no defects, why dost abhor me?
ʼThou canst not see one winkle in my brow,
Mine eyes are grey, and bright, and quick in turning.
My beauty as the spring doth yearly grow,
My flesh is soft, and plump, my marrow burning.
My smooth moist hand, were it with thy hand felt,
Would in thy palm dissolve, or seem to melt.
ʼBid me discourse, I will enchant thine ear,
Or like a fairy trip upon the green,
Or like a nymph, with long dishevelled hair,
Dance on the sands, and yet no footing seen.
Love is a spirit all compact of fire,
Not gross to sink, but light, and will aspire.
ʼWitness this primrose bank whereon I lie:
These forceless flowers like sturdy trees support me;
Two strengthless doves will draw me through the sky,
From morn till night, even where I list to sport me.
Is love so light, sweet boy, and may it be
That thou shouldst think it heavy unto thee?
ʼIs thine own heart to shine own face affected?
Can thy right hand seize love upon thy left?
Then woo thyself, be of thyself rejected:
Steal thine own freedom, and complain on theft.
Narcissus so himself himself forsook,
And died to kiss his shadow in the brook.
ʼTorches are made to light, jewels to wear,
Dainties to taste, fresh beauty for the use,
Herbs for their smell, and sappy plants to bear.
Things growing to themselves are growth’s abuse;
Seeds spring from seeds, and beauty breedeth beauty:
Thou wast begot: to get it is thy duty.
ʼUpon the earth’s increase why shouldst thou feed,
Unless the earth with thy increase be fed?
By law of nature thou art bound to breed,
That thine may live, when thou thyself art dead:
And so in spite of death thou dost survive,
In that thy likeness still is left alive.’
By this the love-sick Queen began to sweat,
For where they lay the shadow had forsook them,
And Titan, tirèd in the midday heat,
With burning eye did hotly overlook them,
Wishing Adonis had his team to guide,
So he were like him, and by Venus’ side.
And now Adonis with a lazy spright,
And with a heavy, dark, disliking eye,
His louring brows o’erwhelming his fair sight,
Like misty vapours when they blot the sky,
Souring his cheeks, cries, ʼFie, no more of love:
The sun doth burn my face, I must remove.’
ʼAy me’, quoth Venus, ʼYoung, and so unkind,
What bare excuses mak’st thou to be gone?
I’ll sigh celestial breath, whose gentle wind,
Shall cool the heat of this descending sun:
I’ll make a shadow for thee of my hairs;
If they burn too, I’ll quench them with my tears.
ʼThe sun that shines from heaven, shines but warm,
And, lo, I lie between that sun and thee:
The heat I have from thence doth little harm.
Thine eye darts forth the fire that burneth me,
And were I not immortal, life were done,
Between this heavenly and earthly sun.
ʼArt thou obdurate, flinty, hard as steel?
Nay more than flint, for stone at rain relenteth:
Art thou a woman’s son and canst not feel
What ’tis to love, how want of love tormenteth?
O had thy mother borne so hard a mind,
She had not brought forth thee, but died unkind.
ʼWhat am I that thou shouldst contemn me this?
Or what great danger dwells upon my suit?
What were thy lips the worse for one poor kiss?
Speak, fair, but speak fair words, or else be mute.
Give me one kiss, I’ll give it thee again,
And one for interest if thou wilt have twain.
ʼFie, lifeless picture, cold, and senseless stone,
Well-painted idol, image dull, and dead,
Statue contenting but the eye alone,
Thing like a man, but of no woman bred:
Thou art no man, though of a man’s complexion,
For men will kiss even by their own direction.’
This said, impatience chokes her pleading tongue,
And swelling passion doth provoke a pause.
Red cheeks, and fiery eyes blaze forth her wrong:
Being judge in love, she cannot right her cause.
And now she weeps, and now she fain would speak,
And now her sobs do her intendments break.
Sometimes she shakes her head, and then his hand;
Now gazeth she on him, now on the ground;
Sometimes her arms infold him like a band:
She would, he will not in her arms be bound.
And when from thence he struggles to be gone,
She locks her lily fingers one in one.
ʼFondling’, she saith, ʼSince I have hemmed thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I’ll be a park, and thou shalt be my deer:
Feed where thou wilt, on mountain, or in dale;
Graze on my lips, and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.
ʼWithin this limit is relief enough,
Sweet bottom grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest, and from rain:
Then be my deer, since I am such a park.
No dog shall rouse thee, though a thousand bark.’
At this Adonis smiles as in disdain,
That in each cheek appears a pretty dimple;
Love made those hollows, if himself were slain,
He might be buried in a tomb so simple,
Foreknowing well, if there he came to lie,
Why there love lived, and there he could not die.
These lovely caves, these round enchanting pits,
Opened their mouths to swallow Venus’ liking:
Being mad before, how doth she now for wits?
Struck dead at first, what needs a second striking?
Poor Queen of love, in thine own law forlorn,
To love a cheek that smiles at thee in scorn.
Now which way shall she turn? What shall she say?
Her words are done, her woes the more increasing;
The time is spent, her object will away,
And from her twining arms doth urge releasing.
ʼPity’, she cries; ʼSome favour, some remorse.’
Away he springs, and hasteth to his horse.
But lo, from forth a copse that neighbours by
A breeding jennet, lusty, young, and proud
Adonis’ tramping courier doth espy,
And forth she rushes, snorts, and neighs aloud.
The strong-necked steed being tied unto a tree
Breaketh his rein, and to her straight goes he.
Imperiously he leaps, he neighs, he bounds,
And now his woven girths he breaks asunder.
The bearing earth with his hard hoof he wounds,
Whose hollow womb resounds like heaven’s thunder.
The iron bit he crusheth ’tween his teeth,
Controlling what he was controlled with.
His ears up-pricked; his braided hanging mane
Upon his compassed crest now stand on end.
His nostrils drink the air, and forth again,
As from a furnace, vapours doth he send.
His eye which scornfully glisters like fire
Shows his hot courage and his high desire.
Sometime he trots, as if he told the steps,
With gentle majesty, and modest pride;
Anon he rears upright, curvets and leaps,
As who should say ʼLo, thus my strength is tried.
And this I do to captivate the eye
Of the fair breeder that is standing by.’
What recketh he his rider’s angry stir,
His flatt’ring ʼHolla’, or his ʼStand, I say!’
What cares he now for curb or pricking spur,
For rich caparisons or trapping gay?
He sees his love, and nothing else he sees,
Nor nothing else with his proud sight agrees.
Look when a painter would surpass the life
In limning out a well-proportioned steed,
His art with nature’s workmanship at strife,
As if the dead the living should exceed:
So did this horse excel a common one
In shape, in courage, colour, pace and bone.
Round-hoofed, short-jointed, fetlocks shag and long,
Broad breast, full eye, small head, and nostril wide,
High crest, short ears, straight legs and passing strong,
Thin mane, thick tail, broad buttock, tender hide.
Look what a horse should have he did not lack,
Save a proud rider on so proud a back.
Sometimes he scuds far off, and there he stares;
Anon he starts at stirring of a feather;
To bid the wind a base he now prepares,
And whe’r he run or fly they know not whether:
For through his mane and tail the high wind sings,
Fanning the hairs, who wave like feather’d wings.
He looks upon his love, and neighs unto her.
She answers him as if she knew his mind.
Being proud, as females are, to see him woo her,
She puts on outward strangeness, seems unkind,
Spurns at his love, and scorns the heat he feels,
Beating his kind embracements with her heels.
Then, like a melancholy malcontent,
He vails his tail, that, like a falling plume
Cool shadow to his melting buttock lent.
He stamps, and bites the poor flies in his fume.
His love, perceiving how he is enraged,
Grew kinder, and his fury was assuaged.
His testy master goeth about to take him
When, lo, the unbacked breeder, full of fear,
Jealous of catching, swiftly doth forsake him;
With her the horse, and left Adonis there.
As they were mad unto the wood they hie them,
Outstripping crows that strive to overfly them.
All swol’n with chafing, down Adonis sits,
Banning his boist’rous and unruly beast.
1592–1593
Венера и Адонис
Высокочтимому Генри Ризли, графу Саутгемптону, барону Тичфилду
Высокочтимый, мне не дано знать, не оскорбит ли Вашу Светлость посвящение столь корявых строк, ни того, подвергнусь ли осуждению света за то, что прибег к столь мощной опоре для такой неубедительной ноши; разве что, если угодил Вашей Чести, сочту это высочайшей оценкой, и дам обет лишиться всего свободного времени до тех пор, пока не почту Вас более весомым трудом. Но если этот первенец моей фантазии уродлив, я буду сожалеть, что избрал для него столь благородного покровителя, и не стану более засевать тощую почву, опасаясь, что она принесет дурной урожай. Отдаю это на Ваш досточтимый суд, и желаю Вашей Чести исполнения всех упований: как Ваших собственных, так и уповающего на Вас света.
Всегда к услугам Вашей милости,
Уильям Шекспир
Как солнце пурпур свой стремит в зенит,
с зарею хнычущей простившись всласть —
Адонис юный зверя бить спешит.
Одно из двух: охота или страсть.
Венера льнет к нему, утратив стыд,
надеясь, что мальчишку обольстит.
«Ты, чья краса моей красе укор
трехкратный! Ты, что сладостью своей
не только смертным – нимфам нос утер —
румяней роз, белее голубей!
Творений краше у Природы нет!
Умрешь – померкнет мир тебе вослед!
Молю: ну спешься, юный сердцеед.
Пусть гордый конь в сторонке отдохнет.
Яви мне эту милость – и в ответ
укромным тайнам потеряешь счет.
Присядь со мной – здесь змеи не шипят —
и выпей поцелуя сладкий яд.
Ты не пресытишь уст – столь многолик
мой голод. Каждый поцелуй – секрет:
вот – десять кратких, как единый миг,
и бесконечный, длительный – вослед.
Так летний день для нас среди забав
промчится как единый миг, стремглав».
Возлюбленного за руку берет.
Готова ему кожу облизать,
и терпкий, смертный, юношеский пот
богине – как целительный бальзам.
Неистова в желании своем,
с коня стянула юношу силком.
В одной руке поводья жеребца,
другой – настойчиво к себе влечет
набрякшего смущением юнца,
скривившего недоуме́нно рот.
Она вся раскраснелась, жарко льнет.
Он красен от стыда, но сам – как лед.
На сук уздечку – конь не удерет! —
проворно крепит. Сколь любовь сильна!
Теперь пришел наезднику черед —
его повергла на́ спину она
(мечтая в тайне, чтоб наоборот).
Не страстью, так хоть силою возьмет!
Она упала следом. Так и льнет.
Коленями и бедрами зажат,
он лишь мычит – впилась губами в рот.
Целуясь, невозможно возражать.
Страсть намекает быстрым язычком:
«Бранишься? Поцелуй губам – замком».
Чтоб охладить в мальчишке жар стыда,
она лукаво льет потоки слез —
потом их осушает без труда
дыханьем легким, золотом волос.
Бесстыдством он проказницу корит —
но тотчас поцелуем рот закрыт.
Так, как порой неистово, взахлеб
голодные орлицы клювом рвут
плоть, перья, кости жертвы – чтобы зоб
успеть забить за несколько минут —
лоб, щеки, шею ищет жадный рот.
Переведет дыханье – вновь начнет.
Не в силах вырваться, юнец сердит.
Их лица взмокли – но не страсти пот,
а пар дыхания щеку влажнит.
Она его самозабвенно пьет.
Ей кажется, что вся она – цветник,
а он дождем небесным к ней приник.
Глянь! Словно птенчик, угодивший в сеть,
Адонис бьется – столь ему претят
ее объятья, что крепки, как смерть.
От гнева он прекраснее стократ.
Пусть ливень реку делает полней —
опасен берегам сезон дождей.
Надеясь пробудить в нем аппетит,
на ушко шепчет сотни сладких слов.
А привереда губы воротит —
то бел как мел, то от стыда пунцов.
Румянцем пышущий он лаком ей,
а побледнел – любовь еще сильней.
У любящих нет выбора. И вот
бессмертная дает юнцу обет,
что обретет свободу, коль вернет
хотя б единый поцелуй в ответ:
пускай от долгих слез щека влажна,
лобзание оплатит долг сполна.
Он задирает голову – хитер,
как щеголь, что сквозь локонов покров
глазеет – но, ответный встретив взор,
потупится. Он уступить готов.
Уста раскрыты. Жар ее объял —
а он, зажмурясь, увильнул, нахал.
Как путнику, что жаждой изможден —
глоток насущный – так бедняжке был
тот поцелуй, что дать страшился он.
Водой охолонули – пуще пыл.
«Жестокосердный, смилуйся, малыш! —
ведь я молю о поцелуе лишь!
О том молю, о чем молил меня
жестоковыйный Бог войны – герой,
что без сражений не провел ни дня.
Натешившись кровавою игрой,
о том, чем ты сегодня пренебрег,
как раб молил победоносный бог.
Он мой алтарь оружием своим
украсил, шлем склонил, отбросил щит.
Учился играм, танцам пантомим —
дурачащийся увалень смешит.
Забыл муштру, смирил свой грубый нрав,
не поле брани – ложе ласк избрав.
Так победитель побежденным стал.
На цепь из алых роз посажен – он,
пред чьим напором уступала сталь —
надменностью лукавою сражен.
Тебе же та – что выиграла бой
с владыкой битв – готова стать рабой.
Касаньем губ богиню удостой!
(Мои не столь прекрасны – все ж красней
иных.) Ведь поцелуй ни твой, ни мой —
наш общий. Взгляда отводить не смей!
Глазам моим ты безраздельно люб —
так что ж мешает единенью губ?
Смущен? Давай зажмуримся, чтоб днем
настала ночь – и одолеешь стыд.
Любовью наслаждаются вдвоем:
осмелься же, ведь нас никто не зрит.
Что до фиалок, ставших ложем нам —
то сплетничать не свойственно цветам.
Нежнейший пух над верхнею губой
свидетельствует, сколь невинен ты.
Спеши любить, пока ты молодой —
недолог век у смертной красоты.
Коли не срежешь вовремя бутон —
либо сгниет, либо зачахнет он.
Будь я стара, морщиниста, дурна —
шершава кожа, волос не упруг,
жирна или костлява, лишена
изящества – понятен твой испуг.
Ответствуй, равнодушный истукан,
ужель во мне ты отыскал изъян?
Глянь! На челе морщины ни одной
и серых глаз подвижна глубина.
Я молодею каждою весной.
Плоть горяча, округла и нежна.
Коснусь тебя – ладонь моя влажней.
Страшусь, расплавится в руке твоей.
Пленю твой слух речами, а забав
захочешь – я станцую без труда,
подобно феям, не касаясь трав,
иль нимфам – не оставив ни следа.
Любовь как пламя – тяжести в ней нет.
Стремится к свету и приносит свет.
Свидетелями – первоцветы: глянь,
как возлежу, ни лепестка не смяв,
иль – голуби, что в утреннюю рань
меня проносят по небу стремглав.
Любовь легка, мой милый, и вольна —
что ж для тебя обузою она?
Иль к собственной красе ты в плен попал,
о правой грезит левая рука?
Что ж, умоляй ответить идеал
взаимностью, отвергни свысока.
Так сгинул некогда Нарцисс – весь день
в ручье целуя собственную тень.
Огням – светить, алмазам – украшать,
а свежей юности – вкушать утех.
Пусть сад приносит новый урожай!
Жить лишь собой – в глазах природы грех.
Ты был зачат – зачни же в свой черед.
Не возрождаясь, красота умрет.
Как смеешь ты вкушать плоды земли,
коль даже семя бросить не готов?
Закон природы внятен: жизнь продли —
и сам продлишься меж ее плодов.
Смерть посрамив, краса твоя опять
в твоих потомках сможет воссиять».
Вспотела. Солнце уж взошло в зенит,
небесный жар усилился стократ.
Титан, что взором огненным следит
за парочкой – похоже, сам бы рад
Адонису доверить удила —
лишь бы Венера с ним была мила.
Адонис потянулся и повел
плечом. Его очей прекрасных взгляд
из-под бровей насупленных тяжел.
Он мрачной меланхолией объят.
«Опять ты про любовь! А мне жара
лицо сжигает. Уходить пора».
«Увы! – Венера молвит, – Нестерпим!
Пустые отговорки нам к чему?
Я нежным дуновением одним
от солнца исходящий жар уйму.
Укрою тенью от своих волос,
а вспыхнут – их потушит ливень слез.
Пусть солнце озаряет небосклон
и мир полуденный лишен теней —
глянь! – мною ты от солнца заслонен.
Твой взгляд мне кожу жжет куда сильней.
Бессмертна я – а то б испепелил
жар от небесных и земных светил.
Жесток, как сталь, и тверже, чем скала —
ведь камень может подточить вода, —
Ты женщиной рожден – что ж немила
любовь? Не ведал жажды никогда?
Будь столь жестокосердна твоя мать,
она тебя бы не смогла зачать.
За что ты так пренебрегаешь мной?
Ухаживанья слишком горячи?
Ужель так страшен поцелуй простой?
Ответь, любимый! Лучше – промолчи
и поцелуй даруй скорее! Ну!
Я тотчас же с процентами верну!
Тьфу! Даже мертвым изваяньям дан
пусть минимальный – но запас тепла.
Не человек – бесчувственный чурбан.
Как женщина такого родила?
Ты не мужчина – хоть, как он, упрям.
Мужчина женщину целует сам».
Досадой скованный, язык умолк.
Лишь щеки, раскрасневшись, выдают
обиду. Как так = взять не может в толк:
судья в Любви – и проиграла суд?
Вновь что-то силится сказать она,
но из-за всхлипываний речь темна.
Уставясь в землю, помертвев лицом,
то глянет на него, то вновь грустит.
То крепко обовьется рук кольцом,
хоть знает, что ему объятья – стыд.
Он вырваться пытался – но замок
лилейных пальцев одолеть не смог.
«Возлюбленный, – твердит, – тебе не лень
слоновой кости сокрушать забор?
Я – пастбище твое. Ты – мой олень.
Кормись, где хочешь, меж ложбин и гор.
Холмы прискучат – опускайся вниз:
там для тебя укромный парадиз.
В моих угодьях тысячи услад:
низины нежной прелестью цветут,
холмам вздымающимся будешь рад,
в тенистых зарослях найдешь приют.
Пасись, где вздумается. Песий лай
тебя не потревожит невзначай».
Адонис хмыкает – на коже щек
прелестных ямочек возник провал.
Их Купидон – проказливый божок —
как тайную могилу отрывал.
Лукавец твердо знает наперед:
в обители Любви он не умрет.
Вид этих нежных впадинок опять
Венеру бедную бросает в жар.
Как можно более безумной стать?
Что для убитого второй удар?
Улыбкою презрения сама
Царица страсти сведена с ума!
Бедняжке больше не хватает слов.
Желанье пуще прежнего зажглось.
Что делать, коль предмет любви суров
и ласка в нем лишь умножает злость?
«Помилосердствуй!» – голосит навзрыд.
Юнец вскочил, и к жеребцу спешит.
Но чу! Из ближней рощи в этот миг
кобыла выскочила и – коня
узрев – по полю напрямик
помчалась, громким ржаньем дразня.
Конь крепкошеий, лишь заслышав зов,
поводья оборвал – и был таков.
Стрелой несется к суженой жених.
Рвет в клочья упряжь, скачет напролом.
Копыта землю ранят, эхо их
в ней отдается, как небесный гром.
Мундштук железный разгрызает он,
сминая то, чем был порабощен.
По ветру грива! Вызволясь из пут,
он мчится к ней, призывным ржаньем горд!
Раздувшиеся ноздри воздух пьют
и пышут жаром, как кузнечный горн.
Глаза пылают яростным огнем:
желание и мощь играют в нем.
То перейдет на шаг, то вновь в галоп,
то дыбом встанет, то отдаст поклон.
Прыжки, курбеты – и все это, чтоб
сказать любимой: «Глянь, как я силен!
Как я стараюсь, проявляя прыть,
прелестной кобылицы взор прельстить!»
Хозяйский крик сердитый: «Стой, дурак!»
Но, коли к цели мчишь во весь опор —
что сбруя? позолоченный чепрак?
мундштук? поводья иль уколы шпор?
Он зрит возлюбленной повадку, стать —
на прочий мир влюбленному плевать.
Как живописцу выпадет порой,
изображеньем мертвым на холсте
вступая в спор с природою самой,
жизнь превзойти в пьянящей полноте —
так конь любого превзойти готов
отвагой, мастью, скоростью подков.
Округлые копыта, крепкий круп,
грудь широка, а холка высока,
хвост густ, холена грива, белозуб,
лоснящиеся гладкие бока —
столь горделив, что всадника подстать
красавцу ой как нелегко сыскать.
Умчится вдаль – вернется вновь назад.
Он прихотливо, как перо, летит,
и в скачке бросить ветру вызов рад —
гордясь неутомимостью копыт.
От ветра грива вздыбилась волной
и кажется, что крылья за спиной.
Он ржет призывно – ржет в ответ она.
Как женщине, ей, несомненно, льстит
такой напор. Но, внешне холодна,
поддерживает неприступный вид.
Как будто впрямь проказнице не мил —
она копытом охлаждает пыл.
Разочарован, хвост повесил он,
что прежде развевался как плюмаж.
Как мошкарой назойливой взбешен —
он бьет копытом, он впадает в раж.
Но тут она смягчается – узрев,
что заигралась. И стихает гнев.
Хозяин вновь поймать его спешит.
Кобылу, незнакомую с седлом,
вид упряжи в руках его страшит —
поспешно прочь метнулась напролом.
Он – следом. И умчались оба вон,
аж обгоняя на лету ворон.
Адонис, не сумевший изловить
коня, присел – взбешен, рассеян и угрюм.