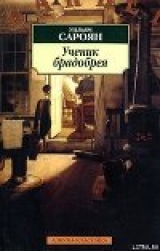
Текст книги "Несостоявшаяся пьеса"
Автор книги: Уильям Сароян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Уильям Сароян
Несостоявшаяся пьеса
Во время Великой депрессии поиск работы – однодневной, недельной, а тем более постоянной – стал моим будничным занятием, но работа была только по субботам, в овощных и фруктовых рядах на рынке «Кристал Палас» в Сан-Франциско. И я целыми днями слонялся по биржам труда, по конторам вероятных нанимателей, по местам, где, мне казалось, может перепасть какая-нибудь работа. Или – заглядывал в публичную библиотеку, картинную галерею, в универмаги, салуны и казино на Третьей стрит. То были бесконечно долгие месяцы моей юности и неудач. Именно тогда пришли мне в голову мои лучшие театральные замыслы и лучшие мои пьесы предстали предо мной внезапно, во плоти и крови, живые, забавные и чертовски хорошо задуманные.
Мне было двадцать с небольшим, и никто не признавал во мне писателя, которого должно допустить к литераторскому труду. На досуге я мог сочинять сколько заблагорассудится. Остальное время уходило на работу и заработки или же на поиски того и другого. Даже если мне не везло, как и всем остальным в те времена, я все равно продолжал поиски, зная наперед, что это бессмысленно.
Наверное, создавшееся положение и явилось виновником драматургических идей, пришедших мне в голову или, скорее, в мои усталые ноги и кости, в погоне за несуществующим – тем, чего нет: работой, кабинетом, письменным столом, утонченным умственным трудом – короче, за своим истинным местом в этом мире, а не за чем-то умозрительным, вроде приюта для несостоявшегося писателя, которого не печатают.
В какую бы контору я ни приходил, она превращалась в театральную декорацию. С кем бы ни встречался, с кем бы ни разговорился, тот становился героем пьесы. Ну и сам я, конечно, тоже неизменно был персонажем – не наживший литературного капитала писатель в поисках престижного места. Вообще-то я никогда не верил, что смогу найти такое место, неважно, престижное или нет. Так что я, скорее, исполнял в пьесе роль охотника за работой. Я во многое не верил, в том числе и в экономическую систему со всем ее нелепым и лицемерным реквизитом показухи, отговорок и надувательства. Короче, вся пьеса была жалким лепетом, искусства там не было и в помине. Возможность подработать по субботам на рынке «Fior d'Italia» помогала поддерживать мое существование как в качестве молодого зверя – обитателя национальных джунглей, так и в качестве писателя, который пока не проявил себя таковым, но еще проявит. На эту работу я, как и остальные, одевался во все старое. От меня требовалось задействовать лишь малую толику своего интеллекта, ровно столько, чтобы хватило мыть и подрезать сельдерей с пяти утра, а с восьми утра и до одиннадцати вечера продавать фрукты-овощи. Здесь я только и делал, что свободно погружался в свои раздумья, хотя «раздумья» не совсем то, что я хотел выразить, но и «мечты» не вполне подходят. Пожалуй, и того, и другого понемногу.
Так или иначе, работа по субботам давала мне и духовную пищу, и средства пропитания. За восемнадцать часов платили пять долларов. Иногда хозяин овощного ряда приплачивал нам премиальные в размере одного доллара плюс большой бумажный пакет со снедью, если оставались излишки. Работенку он нам задавал такую, что не продохнуть, но мы и сами были не прочь повкалывать от души. У каждого прилавка был свой фольклор, свои комики и трагики, шуты и фигляры, и вообще, назло отчаянию, царившему в те времена, на работе нам дышалось свободно и легко, мы были счастливы в работе.
На рынке было семь, не то восемь овощных рядов, и конкуренция, разумеется, была напряженная. И если работники за прилавком, а их по субботам было человек десять – одиннадцать, стояли мрачноватые и заспанные, то хозяин обходил остальные ряды, наблюдая за другими продавцами, и возвращался к своему прилавку с новой тактикой.
– Отставить похоронное настроение, – приказывал он. – Кончай панихиду! Играем свадьбу. Ну-ка, шевелись, ребята, больше жизни, поддайте шуточек, смеху!
Владельцами рядов главным образом были итальянцы, евреи, армяне и сирийцы, ну и, конечно, нанимали они ребят из своих. Но это вовсе не означало, что итальянец брал; к себе только итальянцев. Он нанимал всех, учил их произносить пару слов по-итальянски и объяснял правила поведения за его прилавком. Я не встречал там других непризнанных писателей, но и сам об этом не распространялся. Я соблюдал правила игры да знай себе сбагривал направо и налево помидоры с картошкой.
Весь рынок «Кристал Палас» был театром, по сцене которого сновали взад-вперед зрители. Здесь разыгрывалась пьеса о еде, вкушении пищи, о приобретении чего-либо за монеты, о выживании, о выдержке. В пьесе не было звезд. Звездами были все, каждый в свое время, а потом они уходили домой с кошелками картошки. Весь рынок был огромным базаром, и незачем прикидываться, будто сюда приходили ради чего-то другого, кроме как поторговаться и сэкономить немного денег. Но в то же время сюда приходили ради спектакля, представления, игры, потехи, гомона, шума-гама – ради свадьбы. Дайте людям картошки, и они будут готовы хоть каждый день – под венец. Улыбнитесь им, и они выстоят и вынесут все. Сыпьте направо-налево шутками и остротами, и они выкинут из головы сочинение прощальных писем и записок.
Хозяевам овощных рядов и в голову не приходило, что они выступают в роли импресарио. Они считали себя бизнесменами, кем, в сущности, и являлись. А по мне, так они каждую субботу становились постановщиками грандиозной пьесы, в которой злодей по прозвищу «Голод и отчаяние» побивался и изгонялся, а герой – «Смех и надежда» – восстанавливался в законных правах.
Персонажи были потрясающими, особенно самые бедные и самые богатые. Вот маленькая хрупкая мамаша, у нее всего 60 центов, чтобы купить еды на выходные. Во взгляде, в голосе, в движениях у нее отчаяние и тревога – как бы суметь накупить всего побольше и получше. А вот наблюдать за женщиной ее же возраста, которую сопровождает шофер в униформе, владелицей огромного состояния, домов и поместий, еще любопытнее. Как она старается держаться с достоинством дамы посреди этого балагана: закрывая глаза на обезьянничанье, кривляние и передразнивание остряков, делая вид, что не слышит нарочито громких высказываний околачивающихся поблизости грузчиков. Нередко такая дама безо всякого вызова с их стороны, лишь от собственного смущения, могла отпрянуть от проходящего мимо грузчика из опасения, что тот ее может задеть, а он тут же оборачивался и довольно ухмылялся ей вслед.
Всякий, кому посчастливилось получить субботнюю работу в «Кристал Паласе», или тот, кто готов был вкалывать за пять долларов серебром, стремился ухватиться за эту работу, и я в том числе. По правде говоря, я бы остался работать, даже если бы хозяин понизил мне жалование до четырех или, может, трех долларов. И раз уж на то пошло, я, наверное, не отказался бы поработать и за один доллар. Потому что все вокруг, каждый час работы был театром в чистом виде, а я был увлечен театром.
А это, по сути, то же, что увлекаться реальной действительностью.
Как мне казалось, когда я встречался с людьми и сбывал им помидоры, меня посещали грандиозные замыслы о том, другом, о художественном театре, о театре драмы с реальными подмостками. В настоящей пьесе у меня было бы не семь-восемь прилавков, а один, или даже угол прилавка. Вместо тысячных толп, снующих целый день взад-вперед, у меня осталось бы пять-шесть человек, которые, так сказать, служили бы представителями всех остальных.
Но и это еще не все. В следующее мгновение раздумий или мечтаний, а может, мечтательных раздумий то же качество жизни и юмора переносилось с рынка в другую атмосферу, где людей занимает не еда и выживание, а что-то иное. Театральные замыслы менялись, и так целый день. Я так и не удосужился их записать. Я был уверен, что ничего не забуду, ну и, конечно, забыл. Все до единого. Пьесы, которые я мог бы написать, так и не были написаны, и, скорее всего, уже не напишутся. Но я там присутствовал, я видел все, что там творилось, и чувствовал, что можно схватить этот вечно текучий сырой материал и вылепить из него осмысленную, цельную, захватывающую драму.
С годами, однако, обрывки этих замыслов возвращаются ко мне: мимолетное воспоминание о ком-то, чьи-то черты, вопросительные интонации или неожиданное проявление смелости – как-то раз перед закрытием рынка мне повстречалась дородная негритянка с добродушным ангельским личиком, она копалась в мусорном баке с овощными отбросами. Я подошел, чтобы преподнести ей в подарок громадный кочан капусты.
– Не надо, сынок, Господь тебя благослови, – сказала она, – мне бы найти немного шпинату.
Тогда, разумеется, я мог бы предложить ей целый мешок шпинату за так, но не предложил, потому что это было бы уже совсем не то. Я развел руками и разразился хохотом, а она в ответ мило улыбалась.
И так каждую субботу.
Всю оставшуюся неделю я ходил в своем ладном костюме, который стоил пятнадцать долларов, и искал работу, но все места уже были захвачены, и делать мне было нечего.
Театр присутствовал, конечно, повсюду, пьеса разыгрывалась на каждом шагу, но я тогда был еще неоперившийся писатель, вот пьеса и ускользнула от меня.
1956








