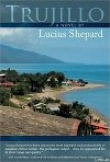Текст книги "Дым"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Фолкнер Уильям
Дым
Уильям Фолкнер
Дым
Ансельм Холленд приехал в Джефферсон много лет назад. Откуда он прибыл – никто не знал. Но в те дни он был человек молодой, должно быть незаурядный, во всяком случае видный собой, потому что года через три он женился на единственной дочери владельца двух тысяч акров самой лучшей земли в наших краях и переселился в дом к своему тестю, где его жена через два года родила ему сыновей-близнецов, а несколько лет спустя тесть умер, оставив Холленда хозяином всей фермы, записанной на его жену. Но и до смерти тестя мы, джефферсонцы, уже наслушались его разговоров – что-то чересчур громко он говорил: "Моя земля, мое поле"; и те, чьи отцы и деды родились тут, посматривали на него косо, считая его человеком бессовестным и (судя по рассказам его белых и черных арендаторов, да и всех, кто имел с ним дело) жестоким. Но из жалости к его жене и уважения к тестю мы относились к нему вежливо, хотя и недолюбливали его. А когда и жена умерла, оставив ему двух малышей-близнецов, мы решили, что во всем виноват он, что жизнь ее была отравлена грубостью этого безродного чужака. Когда сыновья выросли и (сначала один, потом другой) совсем ушли из дому, мы даже не удивились. А когда его полгода назад вдруг нашли мертвым, запутавшимся в стремени лошади, на которой он ехал верхом, и со следами ушибов на теле оттого, что лошадь, очевидно, протащила его сквозь железную ограду (вся спина и бока лошади были в рубцах от побоев, нанесенных, как видно, в припадке бешенства), никто из нас не пожалел его, потому что незадолго до смерти он совершил поступок, который всем, кто жил в то время в нашем городе и думал по-нашему, показался чудовищным преступлением. В день, когда он умер, мы узнали, что он разрыл могилы на семейном кладбище, где были похоронены предки жены, не пощадив и той могилы, где уже тридцать лет покоилась его жена. И вот этого сумасшедшего, одержимого ненавистью старика похоронили среди могил, которые он пытался осквернить, а в положенный срок его завещание было вскрыто и подано на утверждение. Нас оно ничуть не удивило. Мы не удивились, что даже из гроба он нанес последний удар именно тем, кого он был властен обидеть или оскорбить: своим родным сыновьям.
В год смерти отца близнецам исполнилось сорок лет. Ансельм, младший, был, по слухам, любимцем матери – может быть, потому, что больше походил на своего отца. Но после смерти матери, когда мальчики были еще совсем детьми, мы слышали, что старый Анс вечно ссорится с молодым Ансом, а Вирджиниус, второй близнец, старается их помирить, за что его ругательски ругают и отец и брат. Но он иначе не мог, этот Вирджиниус. А другой брат тоже был с характером: лет шестнадцати он удрал из дому и пропадал десять лет. Вернулся он уже совершеннолетним и официально потребовал у отца, чтобы тот разделил всю землю, которая, как он узнал, была только под опекой старого Анса, и отдал ему, Ансу, младшему, его надел. Старый Анс в ярости отказался. Должно быть, и сын требовал землю с такой же яростью оба они, старый Анс и молодой Анс, стоили один другого. А потом мы узнали, что, как ни странно, Вирджиниус стал на сторону отца. Так мы по крайней мере слышали, потому что землю никто не тронул, и нам рассказывали, что после бешеной ссоры, какой даже у них никогда не бывало, – такой страшной, что слуги-негры разбежались и прятались всю ночь, – молодой Анс уехал, забрав принадлежащую ему упряжку мулов, и с этого дня до самой смерти отца, даже после того как и Вирджиниус был вынужден уйти из дому, Ансельм больше никогда не разговаривал ни с отцом, ни с братом. Однако на этот раз Ансельм уехал недалеко. Он просто поселился в горах ("оттуда ему было видно, что делают старик и Вирджиниус", – сказал кто-то, и мы все с ним согласились) и в течение пятнадцати лет жил один в двухкомнатном домишке с земляным полом, жил, как отшельник, сам себе стряпал и раза четыре в год появлялся в городе на своих двух мулах. Несколько лет назад его арестовали и судили за то, что он гнал виски. Он отказался от защиты, ни в чем не признался, был приговорен к штрафу за нарушение закона и за неуважение к суду, а когда его брат Вирджиниус предложил заплатить за него штраф, на него накатил такой же припадок бешенства, как, бывало, и у его отца. Он пытался избить Вирджиниуса тут же, в суде, сам потребовал, чтобы его отвели в тюрьму, и через восемь месяцев был освобожден за примерное поведение и вернулся в свою хижину – угрюмый, молчаливый, горбоносый человек, которого побаивались и соседи и случайные прохожие.
Второй близнец, Вирджиниус, остался дома и обрабатывал землю, о которой их отец совсем не заботился. (О старом Ансе так и говорили: откуда он и кто он – неизвестно, но ясно, что он не фермер. И мы тоже все сходились на одном: старик оттого и поссорился с молодым Ансом, что тот видеть не мог, как отец запустил землю, предназначенную матерью для него с братом.) Но Вирджиниус остался с отцом. Конечно, ему, должно быть, жилось несладко, и мы потом часто говаривали: "Вирджиниус должен был понимать, что долго так продолжаться не может". А уж после того, что произошло, мы думали: "Возможно, он и понимал". Такой уж он был человек, этот Вирджиниус. Никто не знал, что он думал тогда, и вообще никто не знал, о чем он думает. Старый Анс и молодой Анс – тут мы как в воду глядели. Может, вода была темная, но все-таки каждому было ясно, что у них на уме. Но ни один человек не знал, что думает Вирджиниус, что он делает, и только потом все узнали. Мы даже не знали, как случилось, что Вирджиниус, прожив наедине с отцом десять лет, пока молодой Анс отсутствовал, тоже в конце концов ушел. Он об этом никому не рассказывал – даже Гренби Доджу и то, наверно, ни слова не сказал. Но мы знали старого Анса и знали Вирджиниуса, и вот как мы себе представляли их ссору.
Мы видели, что старый Анс бесился целый год, после того как молодой Анс забрал мулов и ушел в горы. А потом, наверно, его прорвало, и он сказал Вирджиниусу что-нибудь такое:
– Думаешь, раз твой брат ушел, ты теперь можешь тут торчать и ждать, пока вся земля достанется тебе?
– Не нужна мне вся земля, – ответил Вирджиниус. – Мне бы только получить свой надел.
– Ага, – сказал, наверно, старый Анс, – ты тоже хочешь землю разделить. Так? И ты с ним заодно? Считаешь, что надо было ее разделить, как только вы с ним оба стали совершеннолетними?
– Мне бы взять немного да обработать получше, чем видеть, что она пропадает, – ответил Вирджиниус, как всегда рассудительно, как всегда кротко: никто ни разу не видел, чтобы Вирджиниус вышел из себя или хоть взволновался даже в тот раз, когда Ансельм хотел избить его в суде из-за штрафа.
– Ах, так! – сказал старый Анс. – А то, что я обрабатывал эту землю все годы, платил налоги, а вы с братом только деньги копили, безо всяких налогов, это как по-твоему?
– Ты знаешь, что Анс за всю жизнь не скопил ни цента, – сказал Вирджиниус, – говори о нем что угодно, но не обвиняй его в жульничестве.
– И не обвиняю, клянусь богом! У него хватило храбрости прямо потребовать то, что он считал своим, и убраться вон, когда он ничего не получил. А ты не такой. Ты тут будешь околачиваться, черт тебя дери, ждать, пока я кончусь, хоть на языке у тебя мед! Верни мне все налоги, которые я платил за твой надел с того дня, как умерла твоя мать, и бери землю!
– Нет, – сказал Вирджиниус, – не верну.
– Значит, нет? – сказал старый Анс. – Не вернешь? Правильно, зачем тебе тратить деньги ради половины земли, когда в один прекрасный день тебе она вся даром достанется, без затрат. – И тут мы себе представили, как старый Анс встал (мы представляли себе, что они до этой минуты сидели спокойно, разговаривали, как приличные люди), встал весь взлохмаченный, брови насуплены. – Убирайся из моего дома! – говорит. Но Вирджиниус даже не поднялся с места, не пошевельнулся и только смотрел на отца. Старый Анс надвинулся на него, поднял руку. – Уходи! Убирайся из моего дома, не то я тебя...
И тут Вирджиниус ушел. Он не спешил, не бежал. Он уложил свои вещи (у него их было побольше, чем у молодого Анса, кое-что скопилось) и ушел за три-четыре мили жить к своему родственнику – сыну какого-то свойственника матери. Этот родственник жил один, у него была хорошая ферма, хотя и заложенная и перезаложенная, потому что фермер он был плохой, занимался больше перепродажей скота и проповедями – с виду невысокий, рыжеватый, неприметный, такого встретишь, а через минуту уже и не помнишь его лица, да и торговать и проповедовать, наверно, умел ничуть не лучше, чем обрабатывать землю. Ушел Вирджиниус без всякой спешки, без всяких криков и ссор – не так, как его брат, хотя, как ни странно, мы ничуть не попрекали молодого Анса за то, что он бранился и требовал свое. По правде сказать, мы всегда как-то косились на Вирджиниуса, слишком уж он владел собой. Мы называли его хитрецом и не удивились, когда услышали, что он все свои сбережения потратил на то, чтобы снять задолженность с фермы родственника. Не удивило нас и то, что через год старый Анс вдруг отказался платить налоги за свою ферму, а за два дня до того, как его должны были объявить несостоятельным, шериф вдруг получил по почте неизвестно от кого сполна всю сумму налогов, причитающуюся за холлендовские владения.
– Не иначе – это Вирджиниус, – говорили мы, потому что, хотя подписи и не было, мы догадались, кто послал деньги. А до того шериф уже предупреждал старого Анса.
– Объявляйте торги и катитесь ко всем чертям, – оборвал его старый Анс. – Если они думают, что им только и остается, что сидеть и дожидаться, подлое отродье...
Шериф уведомил и молодого Анса.
– Земля не моя, – ответил тот.
И Вирджиниуса шериф предупредил. Вирджиниус приехал в город и сам просмотрел налоговые книги.
– Сейчас у меня на руках большое хозяйство, – сказал он, – но, конечно, если отец упустит ферму, я, наверно, смогу ее купить. Впрочем, не знаю. Такая хорошая ферма не застоится и дешево не пойдет.
И все. Он не возмущался, не удивлялся, не жалел, но он был себе на уме. И мы ничуть не удивились, узнав, что шериф получил деньги с анонимной запиской: "Налоги за ферму Ансельма Холленда. Расписку вручить Ансельму Холленду старшему".
– Не иначе – это Вирджиниус, – говорили мы. Потом мы весь год часто вспоминали Вирджиниуса: живет в чужом доме, работает на чужой земле и смотрит, как дом, где он родился, и земля, принадлежащая ему по праву, все идет прахом. Старик запустил ферму окончательно: из года в год обширные, тучные поля зарастали бурьяном, дичали и гибли, хотя каждый год в январе шериф получал анонимно деньги по почте и посылал расписку старому Ансу, потому что тот совсем перестал ездить в город, дом у него разваливался и никто, кроме Вирджиниуса, у него не бывал. А Вирджиниус раз пять-шесть в году подъезжал верхом к крыльцу, и старик выскакивал навстречу, осыпая его гнуснейшей бешеной бранью. Вирджиниус спокойно смотрел на отца и, убедившись, что тот жив и здоров, поговорив с оставшимися на ферме неграми, снова уезжал. Больше там никто не бывал, хотя многие издалека наблюдали, как старик разъезжает по одичавшим полям на старой белой лошади, которая его потом убила.
А прошлым летом мы услыхали, что он раскапывает могилы в кедровой роще, где покоились предки его жены до пятого колена.
Об этом рассказал один негр, после чего санитарный инспектор города пошел на кладбище и увидел белую лошадь, привязанную в роще, а старик выскочил на него из-за деревьев с ружьем наготове. Инспектор ушел, а через два дня на кладбище поехал шериф и нашел старика на земле рядом с лошадью, запутавшегося в стремени, а на крупе лошади увидал следы от ударов палкой – именно палкой, а не хлыстом, – глубокие следы, видно, он бил ее, бил, бил без конца.
И вот старика похоронили среди тех могил, над которыми он надругался. Вирджиниус со своим родственником пришел на похороны. По правде сказать, они и составляли всю похоронную процессию, потому что Анс младший вовсе не пришел. Он и в дом не пришел, хотя Вирджиниус пробыл в усадьбе, пока не запер все и не расплатился с неграми. Но и он тоже уехал к своему родственнику, и в положенный срок завещание старого Анса было предъявлено на утверждение судье Дюкинфилду. Суть завещания ни для кого не была тайной: мы все об этом знали. Составлено оно было по всей форме, и нас ничуть не удивило, что все было сказано точно и определенно: "...за исключением перечисленного в следующих двух пунктах, завещаю... все мое имущество старшему сыну моему Вирджиниусу, если будет доказано к полному удовлетворению председателя суда... что именно он, вышеупомянутый Вирджиниус, вносил налоги за мою ферму, причем единственным и неоспоримым судьей должен быть председатель суда".
Два других пункта гласили:
"Младшему моему сыну, Ансельму, завещаю... два полных комплекта упряжи для мулов с тем, чтобы вышеупомянутый Ансельм на этой упряжке съездил единожды на мою могилу. Иначе данная упряжь остается неотъемлемой частью моего имущества, перечисленного выше".
"Свойственнику моему, Гренби Доджу, завещаю один доллар наличными, дабы он приобрел себе псалтырь или несколько псалтырей в знак моей благодарности за то, что он кормил и поил сына моего Вирджиниуса с того дня, как вышеупомянутый Вирджиниус покинул мой кров".
Вот какое это было завещание. И мы слушали и ждали, что скажет или сделает молодой Анс. Но ничего мы так и не услышали и не увидели. И мы смотрели и ждали, что будет делать Вирджиниус. Но и он ничего не сделал. А может быть, мы просто не знали, что он делает, что думает, но такой уж он был, Вирджиниус. Правда, в сущности, все уже было сделано. Ему оставалось только ждать, пока судья Дюкинфилд утвердит завещание, а потом Вирджиниус мог отдать Ансу его половину – если он только собирался ее отдать. "Они с Ансом никогда не ссорились", – сказал кто-то. "А Вирджиниус никогда ни с кем не ссорился, – возражали другие. – Если исходить из этого, ему придется делить ферму со всем штатом". – "Но штраф за Анса хотел заплатить именно Вирджиниус", – возражали первые. "Да, но Вирджиниус стал на сторону отца, когда Анс собрался разделить землю", – говорили другие.
Словом, все ждали, что будет. Мы ждали, что скажет судья Дюкинфилд: вдруг оказалось, что все в его руках и что ему, как самому провидению, надо судить этого старика, который никак не хотел успокоиться, даже из гроба издевался над всеми; надо рассудить этих непримиримых братьев, которые пятнадцать лет назад словно умерли друг для друга. Но мы считали, что последний удар старого Анса не попал в цель и что, выбрав судью Дюкинфилда своим душеприказчиком, он промахнулся, ослепленный собственной яростью. Мы отлично знали, что в лице судьи Дюкинфилда старый Анс выбрал из всех нас самого мудрого, самого честного и неподкупного человека и что усиленное изучение законов не могло затемнить и поколебать его честность и неподкупность.
Самый факт, что утверждение такого простейшего документа он откладывал на необычно долгое время, был для нас лишним доказательством того, что судья Дюкинфилд был из тех людей, которые верят, что правосудие состоит наполовину из знания законов, а наполовину из выдержки и веры в себя и господа бога.
Законный срок утверждения подходил к концу, мы каждый день наблюдали за судьей Дюкинфилдом, когда он шел из своего дома через площадь в суд. Шел он неторопливо и спокойно, осанистый, седовласый – ему уже было за шестьдесят, и он давно овдовел, – держался он прямо и с достоинством, "в струночку", как говорили негры. Семнадцать лет назад он был выбран председателем суда; он обладал небольшим запасом юридических знаний и огромным запасом простого здравого смысла, и вот уже тринадцать лет подряд никто не выступал его соперником на выборах, и даже те, кого сердила его мягкая и вежливая снисходительность, голосовали за него с какой-то ребяческой доверчивостью и надеждой. И теперь мы все терпеливо наблюдали за ним, заранее зная, что его окончательное решение будет справедливым не только потому, что решать будет он, но и потому, что он никогда не позволит ни себе, ни другим людям поступать не по справедливости. И каждое утро мы смотрели, как он переходит площадь ровно в десять минут девятого и направляется в суд, куда ровно за десять минут до него проходил швейцар негр, чтобы с точностью семафора, сигнализирующего приход поезда, открыть двери в суд. Судья удалялся в свой кабинет, а негр усаживался на свое место, в старое, поломанное, чиненное проволокой кресло в коридорчике с каменным полом, отделявшим кабинет судьи от зала заседаний, и весь день дремал в этом кресле, как дремал уже семнадцать лет подряд. А в пять часов пополудни негр просыпался и заходил в кабинет и, может быть, будил судью, понявшего за свою долгую жизнь, что всякое дело обычно осложняется поспешными выводами философствующих умников, которым больше не о чем думать. Потом мы видели, как оба старика снова переходят площадь друг за другом на расстоянии пятнадцати футов и подымаются по улице к себе домой и оба смотрят вперед и держатся так прямо, что сюртуки, сшитые портным на судью, падают с их плеч ровными, как доска, складками, без всякого намека на талию или бока.
Но однажды, около пяти часов дня, вдруг через площадь к зданию суда побежали люди. Увидев это, за ними побежали другие, тяжело топая по камням мостовой, пробираясь среди грузовиков и машин и перебрасываясь отрывистыми, взволнованными словами. "Что такое?", "Что случилось?", "Судья Дюкинфилд"... – слышались голоса, и люди бежали дальше, проталкиваясь в коридор между кабинетом судьи и залом заседаний, где старый негр, в сюртуке с чужого плеча, с ужасом вздымал руки к небу. Толпа пробежала мимо него, влетела в кабинет. За столом, удобно откинувшись на спинку кресла, сидел судья Дюкинфилд. Глаза у него были открыты, пуля попала точно в переносицу, так что казалось, будто у него три глаза. Все видели, что это пуля, но ни те, кто был на площади, ни старый негр, сидевший весь день в коридоре, выстрела не слыхали.
Гэвину Стивенсу круто пришлось в этот день – ему и бронзовой шкатулке. Сначала присяжные никак не могли понять, к чему он клонит, да и все, кто был в суде в тот день – судья, оба брата, родственник, старый негр, никто ничего не понимал. Наконец староста присяжных прямо спросил его:
– Считаете ли вы, Гэвин, что между завещанием старого мистера Холленда и убийством судьи Дюкинфилда существует какая-то связь?
– Да, считаю, – сказал прокурор, – и я докажу не только это.
Все посмотрели на него – присяжные, оба брата. Только старый негр и родственник братьев на него не взглянули. За последнюю неделю негр с виду постарел лет на пятьдесят. Когда его хозяина выбрали в судьи, он тоже поступил на службу в суд, потому что всегда, на нашей памяти, служил семье Дюкинфилдов. Годами он был старше судьи, хотя еще неделю назад, до того самого дня, он выглядел на много лет моложе, – сухонький, в просторном сюртуке, скрывавшем его фигуру, он каждый день приходил за десять минут до судьи, открывал кабинет, подметал его, вытирал пыль на столе, ничего не трогая с места, все это с той умелой небрежностью, которая была плодом семнадцатилетней привычки, а потом отправлялся к своему креслу с подвязанными проволокой ножками и спал в нем весь день. Вернее, казалось, что он спал. (В кабинет можно было попасть и по узкой боковой лесенке, которая вела из зала суда, – ею обычно пользовался только председатель суда во время сессии, но и тут надо было пройти шагах в восьми от старика негра, если только не свернуть по коридору в тупичок под окошком кабинета и не вылезти в это окно.) Но до сих пор никто, ни один человек, не мог пройти мимо стула, чтобы навстречу ему сразу не поднялись морщинистые веки над коричневыми, без зрачков старческими глазами. Иногда мы заговаривали со стариком, чтобы послушать, как он с важным видом коверкает пышные и непонятные юридические термины, которые пристали к нему незаметно, как пристает хворь. И произносил он их с таким велеречивым пафосом, что многие из нас уже слушали и самого судью с дружелюбной усмешкой. Но старик совсем одряхлел, он забывал наши имена и годы, путал нас друг с другом, и случалось, что из-за этой путаницы имен и лет, пробудившись от дремоты, он докладывал о посетителях, которых давно не было в живых. Но еще никому не удавалось пройти мимо него незамеченным.
Все остальные смотрели на Стивенса – и присяжные со своих мест и два брата, сидевшие на разных концах скамьи, оба одинаково худые, горбоносые, смуглые, с одинаково скрещенными на груди руками.
– Значит, вы утверждаете, что убийца судьи Дюкинфилда здесь, в этом зале? – снова спросил староста присяжных.
Прокурор штата окинул взглядом всех, кто смотрел на него.
– Я берусь доказать не только это! – сказал он.
– Доказать? – спросил младший из близнецов, Ансельм. Он сидел один на конце скамьи, впившись в Стивенса злым, жестким, немигающим взглядом, а на другом конце пустой скамьи сидел его брат, с которым он не разговаривал пятнадцать лет.
– Да, – сказал Стивенс. Он стоял в конце зала. Он заговорил, обводя глазами весь зал, мирным полушутливым тоном рассказывая о том, что всем было давно известно, то и дело обращаясь к другому близнецу, Вирджиниусу, за подтверждением. Он рассказывал об Ансе младшем и о его отце. Говорил он спокойно, мягко. Казалось, он встает на защиту наследников, рассказывая, как Анс младший ушел из дому, рассердившись – и совершенно справедливо на отца за то, что тот губит наследие их матери (к тому времени половина ее земли по праву принадлежала Ансу младшему). Говорил Стивенс очень убедительно, правдиво, откровенно, может быть, несколько предвзято по отношению к Ансельму младшему. В этом-то и было все дело. Именно эта кажущаяся предвзятость, это кажущееся пристрастие создавали какое-то неблагоприятное впечатление, словно Анс в чем-то был виноват, хотя в чем неизвестно; виноват именно из-за своего стремления к справедливости, из-за любви к покойной матери, виноват оттого, что эти чувства были искажены злобностью его характера, унаследованной от человека, который так глубоко обидел его. Братья сидели на разных концах отполированной временем скамьи, и младший смотрел на Стивенса, еле сдерживая бешенство, а старший смотрел так же пристально, но лицо у него было непроницаемое. Стивенс рассказал, как Анс младший в сердцах ушел из дому и как через год Вирджиниус, гораздо более тихий, гораздо более скрытный человек, много раз пытавшийся примирить его с отцом, тоже был вынужден уйти. И снова Стивенс нарисовал правдоподобную и ясную картину: братьев разлучил не отец, когда он еще был жив, а те черты характера, которые каждый из них от него унаследовал, объединяла же их общая привязанность к земле, где они родились, к земле, не только принадлежавшей им по праву, но принявшей прах их матери.
– Так они жили, глядя издали, как гибнет добрая земля, а дом, где они родились, где родилась их мать, разваливается по воле сумасшедшего старика, который выгнал их из дому и, чувствуя, что никак их больше ущемить не может, пытался навеки отнять у них все и пустить имущество с торгов за неуплату налогов. Но тут кто-то обошел старика, кто-то очень дальновидный и сдержанный, сумевший скрыть свое имя, хотя, в сущности, эти дела никого не касались, раз налоги были уплачены. Словом, братьям только и оставалось ждать, пока старик умрет. Он уже был стар, да будь он и моложе, человеку спокойному, сдержанному ждать было бы не так уж трудно, даже не зная, что написано в завещании старика. Правда, человеку, вспыльчивому, несдержанному ждать было труднее, особенно если этот человек при своей вспыльчивости, случайно знал или подозревал, что сказано в завещании, и больше ему ничего не было нужно, потому что он чувствовал себя непоправимо обиженным тем человеком, который сначала отнял у него лучшие годы жизни, заставив уйти от людей, забиться в горы, жить в хижине, а теперь обездолил его и замарал его честное имя. Такому человеку ни времени, ни охоты не было чего-то дожидаться.
Оба брата не спускали с него глаз. Могло бы показаться, что их лица высечены из камня, если бы не глаза Ансельма. Стивенс говорил негромко, ни на кого особенно не глядя. Он был прокурором почти столько же лет, сколько судья Дюкинфилд занимал судейское кресло. Стивенс окончил Гарвардский университет, он был высокий, нескладный, с растрепанной седой гривой, мог спорить о теории Эйнштейна с университетскими учеными и часами сидеть на корточках у стены деревенской лавки вместе с жителями поселка, разговаривая с ними на их диалекте. Это он называл "отдыхать".
– В конце концов отец умер, как и мог ожидать каждый дальновидный человек. И завещание старика было подано на утверждение. И даже далеко в горы дошел слух о том, что там написано, о том, что заброшенная земля наконец-то попадет к своему законному владельцу. Или, вернее, владельцам, потому что Анс Холленд знал не хуже нас, что Вирджиниус возьмет только свою законную часть, будь там хоть сто завещаний, как хотел взять только половину и тогда, когда отец ему предлагал всю землю. Анс знал это, потому что и сам поступил бы так же, то есть отдал бы Вирджу его половину, будь он на месте Вирджа. Потому что они оба были не только сыновьями Ансельма Холленда, но и родными детьми Корнелии Мардис. Но даже если Анс не знал этого, он знал наверняка, что теперь земля, принадлежавшая его матери, земля, где покоится ее прах, наконец-то попадет в хорошие руки. И, может быть, в ту ночь, когда Анс узнал, что отец умер, может быть, в эту ночь, впервые с детских лет, впервые с тех дней, когда мать еще была жива и по вечерам подымалась наверх и заглядывала к нему в комнатку посмотреть, спит ли он, – может быть, впервые с тех пор Анс младший уснул спокойно. Понимаете, теперь все отошло в прошлое: и обида, и несправедливость, и потеря доброго имени, и позор тюремного заключения – все исчезло, как сон. Теперь все можно забыть, теперь все пойдет хорошо. К этому времени он уже привык жить один, жить отшельником, ему трудно было менять жизнь. Лучше было знать, что все ушло, словно дурной сон, что эта земля, земля матери, ее наследие, место ее успокоения, теперь в руках единственного человека, которому он мог доверять и доверял, хотя давно не разговаривал с ним. Вы меня понимаете?
Мы смотрели на него, сидя за тем самым столом, где все оставалось, как было в день смерти судьи Дюкинфилда, за столом, где еще лежали те вещи, над которыми поднялось дуло револьвера – последнее, что судья увидел на этом свете, – вещи, знакомые нам много лет: папки для бумаг, заплесневелая чернильница, тупое перо, к которому привык судья, и маленькая бронзовая шкатулка, служившая ему, без особой на то надобности, прессом. На разных концах деревянной скамьи неподвижно сидели оба брата и пристально смотрели на Стивенса.
– Нет, не понимаем, – сказал старшина присяжных. – К чему вы клоните? Какая связь между всем этим и убийством судьи Дюкинфилда?
– А вот какая, – сказал Стивенс. – Судья Дюкинфилд должен был утвердить завещание, но его убили. Завещание несколько необычное, но от мистера Холленда можно было всего ожидать. Впрочем, составлено оно по всей форме, и наследники вполне удовлетворены; все мы отлично знали, что половина земли отойдет к Ансу, как только он потребует. Значит, завещание правильное, и утверждение его – пустая формальность. Однако судья Дюкинфилд задержал бумагу почти на три недели, а потом погиб. Значит, тот человек, который считал, что ему надо выждать...
– Какой человек? – перебил старшина присяжных.
– Погодите, – сказал Стивенс. – Этому человеку нужно было одно выждать. Но не ожидание его смущало – он уже пятнадцать лет ждал. Не в том было дело. Дело было совсем в другом, а узнал он об этом (или вспомнил), когда оказалось, что уже поздно и что забывать ничего не следовало. А человек он был хитрый, человек он был терпеливый, дальновидный, настолько терпеливый, что спокойно ждал пятнадцать лет, настолько дальновидный, что он все обдумал, все принял в расчет, кроме одного – кроме своей памяти. А когда стало слишком поздно, он вдруг вспомнил, что существует еще один человек, которому должно быть известно то, о чем он сам забыл. И этот человек – судья Дюкинфилд. Судья тоже знал, в чем дело, а именно: та белая лошадь никак не могла убить мистера Холленда.
Он замолчал, и в зале стало совершенно тихо. Присяжные молча сидели за столом, глядя на Стивенса. Ансельм повернул свое злое, исхлестанное морщинами лицо сначала к брату, взглянул на него, потом снова уставился на Стивенса, слегка наклоняясь вперед. Вирджиниус сидел неподвижно, серьезное, сосредоточенное выражение его лица не изменилось. Между ним и стеной сидел Гренби Додж, их родственник. Он сложил руки на коленях, наклонил голову, как в церкви. Мы знали о нем только то, что он был бродячим проповедником, а иногда собирал табунок захудалых коней и мулов и где-то продавал или менял их. Он был так молчалив, так не уверен в себе и застенчив, что всякое общение с людьми было для него пыткой, и мы жалели его той смешанной с отвращением жалостью, с какой смотришь на раздавленного червяка, и боялись даже заговорить с ним, чтобы не заставлять его вымучивать из себя ответы на наши вопросы. Но мы видели, как по воскресеньям на амвонах сельских церквей его словно подменяли: он становился другим человеком, и голос у него был звучный, задушевный и уверенный, совершенно не соответствующий его внешности и характеру.
– Теперь представьте себе, как тот человек ждал, – сказал Стивенс, ждал, что выйдет и потом вдруг понял, почему ничего не вышло, почему завещание попало в руки судьи Дюкинфилда, а потом исчезло для всего мира, понял, что причиной всему была его собственная память, что он забыл то, чего забывать не следовало. Он забыл, что судья Дюкинфилд тоже знал, что мистер Холленд не стал бы никогда бить свою лошадь. Он понял, что судья Дюкинфилд знал, что тот человек, который бил лошадь палкой так, что у нее на спине остались рубцы, тот человек и убил мистера Холленда, сначала убил, а потом засунул его ногу в стремя и палкой стал бить лошадь, чтобы она понесла. Но лошадь не понесла. Тот человек знал, что она не понесет, знал это давным-давно, знал – и забыл. Забыл, что эту лошадь, когда она еще была жеребенком, страшно избили и что с тех пор при одном виде палки она ложилась на землю, о чем знал и мистер Холленд и все, кто был близок к его семье. Потому-то лошадь и легла сразу на труп мистера Холленда. Но и это бы ничего, это бы еще полбеды. Так думал тот человек по ночам, лежа в кровати и выжидая, как выжидал он пятнадцать лет. Даже тогда, когда было уже слишком поздно и он понял свою ошибку, даже тогда он не сразу вспомнил то, о чем нельзя было забывать. Но он все вспомнил, когда уже было поздно, уже после того, как нашли тело и все видели рубцы на спине лошади, говорили о них так, что скрыть это было уже поздно. Впрочем, к тому времени, как он вспомнил, рубцы уже, наверно, зажили. Но заставить людей забыть о них можно было только одним способом. Представьте себе его состояние в те минуты, его страх, его обиду, сознание непоправимой ошибки, погубившей его, отчаянное желание повернуть время вспять хоть на миг, чтобы переделать, исправить то, что уже поздно было исправить. И все потому, что он слишком поздно вспомнил, как мистер Холленд купил ту лошадь у судьи Дюкинфилда, того самого судьи, который сидел вот за этим столом и проверял правильность завещания, отдававшего в чьи-то руки две тысячи акров лучшей земли в штате. И тот человек ждал, что будет, потому что он мог только одним способом заставить забыть эти рубцы, ждал – но ничего не произошло. Да, ничего не произошло, и тот человек знал, почему. И он ждал, пока хватало сил, пока не понял, что тут на карту поставлено больше, чем какая-то земля. Что же ему оставалось делать, кроме того, что он сделал.