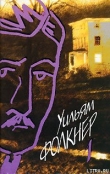Текст книги "Поселок"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Кто? – спросил один из негров.
Они стали перешептываться. Потом белки глаз снова обратились к нему.
– Я все сделал правильно, – повторил он. – Но этот сукин сын…
– Молчи, белый человек, – сказал негр. – Молчи. Не морочь нам голову.
– Все было бы правильно, – сказал он хриплым шепотом. И тут голос совсем изменил ему, и он, не выпуская решетки, другой рукой держался за горло, а негры глядели на него, сбившись в кучу, и глаза их неподвижно сверкали в меркнущем свете. А потом они все разом повернулись и побежали к лестнице, он услышал чьи-то неторопливые шаги, и почуял запах еды, и прильнул к решетке, чтобы увидеть лестничную площадку. «Неужто они хотят накормить этих черномазых раньше, чем белого человека?» – подумал он, вдыхая запах кофе и ветчины.
3Под эту зиму выдалась осень, которая долго была памятна людям, по ней отсчитывали годы и припоминали события. Засушливая летняя жара – ослепительные дни, когда даже листья на дубах пожухли и увяли, ночи, когда стройные ряды звезд словно бы в холодном, немигающем удивлении взирали на землю, задыхающуюся в пыли, – наконец спала, и три недели бабьего лета истомленная зноем земля, древняя Лилит [37]37
Лилит– согласно преданию, первая жена Адама. В европейской традиции приобретает облик прекрасной, обольстительной женщины, перед чарами которой никто не в силах устоять.
[Закрыть], царствовала, повелевала и владычествовала в эту пору мнимого небытия старой, неумирающей куртизанки. В эти голубые, сонные, пустые дни, полные тишины и запаха сжигаемых листьев и сухостоя, Рэтлиф, проходя между своим домом и городской площадью, видел в тюремном окне две маленькие грязные руки, вцепившиеся в решетку немногим выше, чем мог бы дотянуться ребенок. А позже, перед вечером, он видел, как трое посетителей – его жена и двое детей – входят в тюрьму или выходят оттуда после очередного свидания. В первый день, когда он привез ее к себе домой, она непременно хотела помогать по хозяйству, делать все, что позволит его сестра: подметать полы, мыть посуду, колоть дрова, – словом, то, что до тех пор делали его племянницы и племянники (и тем снискала их юношеское презрение), забывая, как видно, о безмолвной, негодующей добродетели его сестры; крупная, но не толстая, даже стройная, как Рэтлиф понял наконец с брезгливой и сдержанной жалостью… нет, скорее, с участием, – она почти всегда ходила босиком, простоволосая, распустив крашеные, давно уже почерневшие у корней волосы, с холодным лицом, в котором была какая-то суровая, не совсем еще увядшая красота, хотя, возможно, держаться ей помогала лишь давняя, непоколебимая уверенность в себе или же просто упрямство. Потому что арестант не только отказался выйти на поруки (если бы даже удалось найти поручителя), но даже от защитника отказался. Он стоял между двумя конвоирами, маленький, щуплый, худой как скелет, с упрямым, словно из дерева вырезанным лицом, стоял перед судьей так, словно его здесь и не было, и слушал, а может быть, и не слушал обвинительное заключение, а потом один из конвоиров тронул его за плечо, и он вернулся в тюрьму, в свою камеру. И дело это, как пьеса, где еще не все роли распределены, потому что некому взять роль вдовы, сжигающей себя вместе с покойником мужем [38]38
По древнему индийскому обычаю, соблюдавшемуся до начала XIX в., овдовевшие женщины сжигали себя на погребальном костре мужа.
[Закрыть], было отложено, перенесено с октябрьской судебной сессии на весеннюю, майскую; и раза три в неделю Рэтлиф видел, как она с детьми, одетыми в обноски его племянников и племянниц, входила в тюрьму, и представлял себе, как они вчетвером сидят в тесной камере, пропитанной вонью креозота и извечных человеческих экскрементов – пота, мочи, блевотины, извергнутых извечными человеческими муками – страхом, бессилием, надеждой. «Сидят и ждут Флема Сноупса, – думал он. – Флема Сноупса».
А потом наступила зима, морозы. Она тем временем нашла работу. Он не хуже ее знал, что дольше так тянуться не может, ведь как-никак, а это был дом его сестры, пусть даже лишь по праву большинства голосов. Так что он не только не удивился, но даже почувствовал облегчение, когда она пришла и сказала, что скоро съедет с квартиры. Но едва он услышал это, что-то в нем дрогнуло, и он понял, что жалеет детей.
– Насчет работы – это правильно, – сказал он. – Это превосходно. А вот съезжать незачем. Ведь тогда придется платить и за жилье и за харчи. А вы должны экономить. Деньги вам понадобятся.
– Да, – сказала она хрипло. – Понадобятся.
– А он что, все еще думает… – Он остановил себя. Потом сказал: – Не слыхать, Флем скоро вернется? А?
Она не ответила. Да он и не ждал ответа.
– Вы должны экономить на чем только можно, – сказал он. – Оставайтесь здесь. Платите ей доллар в неделю за детей, если так у вас будет спокойнее на душе. Едва ли малыш за семь дней съест больше, чем на пятьдесят центов. Живите пока тут.
И она осталась. Он отдал ей и детям свою комнату, а сам перебрался к старшему племяннику. Работала она на окраине, в захудалом грязном пансионе с весьма двусмысленной репутацией, именовавшемся «Отель Савой». Она уходила на рассвете, а кончала работу уже затемно, иногда поздней ночью. Она подметала комнаты, стелила постели, стряпала, а мыть посуду и растапливать плиту обязан был негр-привратник. Платили ей три доллара в неделю на хозяйских харчах.
– Только вот мозоли она себе набьет, ежели будет ночью бегать босиком по комнатам всяких там барышников, судейских да страховых агентов, что облапошивают черномазых, – сказал один городской остряк.
Но это уж была ее забота. Рэтлиф ничего об этом не знал, мало интересовался сплетнями и, к его чести, верил им еще меньше. Ее он теперь почти совсем не видел, разве только по воскресеньям, когда дети в новых пальтишках, которые он им купил, и она сама в его старом пальто, за которое она чуть не силой заставила его взять пятьдесят центов, входили в ворота или выходили оттуда. И однажды он подумал: а ведь никто из родственников – ни старый Эб, ни учитель, ни кузнец, ни новый приказчик – ни разу его не навестили. «И ежели разобраться в этом деле как следует, – подумал он, – то одного из них надо бы упрятать за решетку вместе с ним. Или рядом, в соседнюю камеру, потому что нельзя повесить одного человека дважды – если только не считать, что один Сноупс может понести наказание за другого».
В день Благодарения выпал снег, и хотя он не пролежал и двух дней, в начале декабря ударил лютый мороз, который так сковал землю, что через какую-нибудь неделю она потрескалась и покрылась пылью. Дым белел, едва выходя из трубы, бессильный даже подняться кверху, и сливался с туманной пеленой, которая целый день окутывала солнце, бледное и холодное, как сырая лепешка. «Теперь им даже и думать не приходится, что надо съездить повидать его, – сказал себе Рэтлиф. – Никому, даже Сноупсу, незачем оправдываться, ежели он не едет с Французовой Балки, за двадцать миль, из одного только человеколюбия» Теперь между решеткой и руками появилось стекло; руки не были видны, даже если специально остановиться перед тюрьмой, чтобы поглядеть на них. Но Рэтлиф теперь быстро проходил мимо, сгорбившись в своем пальто, прикрывая то одно, то другое ухо рукой в шерстяной перчатке, и дыхание белым инеем оседало на покрасневшем кончике его носа и вокруг слезящихся глаз, шел через пустую площадь, где лишь изредка попадалась навстречу почтовая коляска, – пассажиры сидели, прикрывшись полостью, поставив между собой на сиденье зажженный фонарь, а лавки, казалось, таращились на них замерзшими окнами, словно слепые старики.
Прошло Рождество, а небо по-прежнему было словно посыпано солью, и скованная земля ничуть не оттаяла, но в январе подул северо-западный ветер, и небо очистилось. Солнце разбросало по замерзшей земле длинные тени, и три дня подряд к полудню земля оттаивала кое-где на дюйм-другой, – проталины были словно лужицы масла или колесной мази; в поддень люди выползали, как говорил себе Рэтлиф, словно крысы или тараканы из своих щелей, удивленно и недоверчиво глядя на солнце и на подтаявшую землю, затвердевшую с давних, почти незапамятных времен, а теперь ставшую вдруг снова мягкой и способной сохранять следы. «Нынче ночью мороза не будет, – говорили люди друг другу. – На юго-западе собираются тучи. Быть дождю, а он смоет мороз, и все опять будет хорошо». И дождь был. Ветер подул с юго-запада. «Он снова задул с северо-запада, и тогда жди мороза. Но пусть уж лучше мороз, чем снег», – говорили они друг другу, но пошел снег с ледяной крупой, а к ночи он уже так и валил, шел не переставая два дня и таял, едва коснувшись земли, превращаясь в грязь, которая вскоре заледенела, а снег все шел, но в конце концов перестал, и наступило морозное безветрие, и даже холодная облатка солнца не вставала над закованной в ледяную броню землей; прошел январь, за ним февраль, все вокруг словно вымерло, только низко стлался нескончаемый дым, да редкие прохожие, не в силах удержаться на тротуарах, ползли в город или из города по мостовой, где не могла пройти ни одна лошадь, и нигде ни звука, только стук топоров да сиротливые свистки ежедневных поездов, и Рэтлиф словно бы видел их – черные, пустые, бесконечные, окутанные редеющим паром, они мчатся неведомо куда по белой суровой пустыне. По воскресным дням, сидя дома у камелька, он слышал, как женщина заходила после обеда за детьми, надевала на них новые пальто поверх кургузых одежек, в которых они бегали, несмотря на мороз, в воскресную школу (за этим следила его сестра) вместе с его племянником и племянницами, которые их чурались, и представлял себе, как они все четверо сидят в пальто вокруг маленькой, бесполезной печурки, которая не обогревает камеру, а только исторгает из стен, словно слезы, давний пот давних мук и горестей, таившихся здесь. А потом они возвращались. Она никогда не оставалась ужинать и раз в месяц приносила ему восемь долларов, которые ей удавалось выкраивать из двенадцати долларов месячного жалованья, и еще монеты и бумажки (однажды их набралось на целых девять долларов), и он никогда не спрашивал, откуда они. Он был ее банкиром. Знала его сестра об этом или нет – трудно сказать, скорее всего знала. Сумма все росла.
– Но придется ждать еще много недель, – сказал он как-то. Она молчала. – Может, он хоть ответит на письмо, – сказал он. – Все-таки родная кровь.
Морозы не могли держаться вечно. Девятого марта снова пошел снег и стаял, даже не заледенев. Люди опять могли ходить по городу, и как-то в субботу, войдя в ресторанчик, которым он владел на паях, он увидел Букрайта, – по обыкновению, перед ним стояла тарелка, на которой была накрошена всякая всячина вперемешку с яйцами. Они не виделись почти полгода. Но они даже не поздоровались.
– Она уже дома, – сказал Букрайт. – Приехала на прошлой неделе.
– Быстро же она переезжает, – сказал Рэтлиф. – Всего пять минут назад я видел, как она выносила ведро золы с черного хода «Отеля Савой».
– Да я не об ней, – сказал Букрайт с набитым ртом. – Я о Флемовой жене. Билл поехал в Моттстаун и привез обоих на прошлой неделе.
– Обоих?
– Да нет, не Флема. Ее и ребенка.
«Видно, он уже пронюхал об этом, – подумал Рэтлиф. – Кто-нибудь написал ему». Он сказал:
– Ребенок… Ну-ка, ну-ка. Февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август. И начало марта. Да, пожалуй он еще маловат, чтобы жевать табак.
– Он и не будет никогда жевать табак, – сказал Букрайт. – Это девочка.
Сначала он не знал, как быть, но колебался недолго. «Лучше сразу», – сказал он себе. Все равно, даже если она надеялась, сама того не подозревая. На другой день, когда она пришла за детьми, он ждал ее.
– Его жена приехала, – сказал он. На миг она словно окаменела. – Но ведь вы ничего другого и не ожидали, правда? – сказал он.
– Да, – сказала она.
И вот даже этой зиме пришел конец. Она кончилась, как и началась, дождем, не холодным ливнем, а шумливыми бурными водопадами теплых струй, смывших с земли лютый, упорный холод, а запоздавшая весна уже бежала по их сверкающим следам, и всюду пошла кутерьма, все появилось разом – почки, цветы, листья, все ожило – пестрый луг, и зеленеющий лес, и широкие поля, пробудившиеся от зимней спячки, готовые принять плуг, ведущий борозду. Школа уже закрылась на лето, когда Рэтлиф проехал мимо нее к лавке и, привязав лошадей у знакомого столба, поднялся на галерею, где сидели на корточках и на скамьях все те же семь или восемь человек, словно просидели так с тех самых пор, как он оглянулся на них в последний раз почти полгода назад.
– Ну, друзья, – сказал он, – я вижу, школа уже закрыта. Теперь ребята пойдут в поле, глядишь, вам и отдохнуть можно будет.
– Она закрыта с самого октября, – сказал Квик. – Учитель удрал.
– А. О.? Удрал?
– Его жена явилась. А он только завидел ее – и давай бог ноги.
– Кто, кто? – переспросил Рэтлиф.
– Его жена, – сказал Талл. – По крайней мере, так она сказала. Такая толстая, седая…
– Что за чушь, – сказал Рэтлиф. – Да он и не женат вовсе. Ведь он прожил здесь три года. Наверно, это была его мать.
– Да нет же, – сказал Талл. – Она была молодая. Просто у нее волосы все седые. Приехала в коляске вместе с ребенком месяцев шести.
– С ребенком? – сказал Рэтлиф. Моргая, он глядел то на одного, то на другого. – Послушайте, что все это значит? Откуда у него взялась жена, да еще с шестимесячным ребенком? Разве он не прожил здесь, у всех на глазах, целых три года? Что за чертовщина. Да когда же он успел, ведь ни разу и не уезжал надолго.
– Уоллстрит говорит, что это его жена и ребенок, – сказал Талл.
– Уоллстрит? Это еще кто такой?
– Сынишка Эка.
– Тот мальчуган лет десяти? – Теперь Рэтлиф, моргая, уставился на Талла. – Да ведь про нее в первый раз шуметь начали только два или три года назад, когда там была паника [39]39
Имеется в виду финансовая паника на Уоллстрит в мае 1893 г., когда размер золотого запаса США сократился ниже официально установленного минимума. По этому упоминанию действие «Поселка» следует датировать 1895 – 1896 гг., что, как уже отмечалось, противоречит хронологии «Города» и «Особняка» (см. преамбулу к комментариям).
[Закрыть]. Откуда же у десятилетнего мальчика такое имя – Уоллстрит?
– Не знаю, – сказал Талл.
– А ребенок, видно, и в самом деле его, – сказал Квик. – По крайности, он как глянул на эту коляску, только его и видели.
– Еще бы, – сказал Рэтлиф. – Ребенок – это такой подарочек, от которого всякий мужчина побежит, если только еще есть куда бежать.
– Видно, он знал, куда бежать, – сказал Букрайт хриплым резким голосом. – Уж этот ребеночек его бы не выпустил, если, конечно, кто-нибудь прежде повалил бы А. О., а ему дал бы ухватиться как следует. Он и то был больше папаши.
– Может, он еще ухватится, – сказал Квик.
– Да, – сказал Талл. – Она пробыла здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы купить банку сардин и галеты. А потом ей кто-то показал, куда ушел А. О., и она поехала по дороге в ту сторону. Он-то пешком ушел. Они оба ели сардины, она и малыш.
– Так, так, – сказал Рэтлиф. – Вот они, Сноупсы. Так, так. – Он умолк. Молча смотрели они, как по дороге едет коляска Варнера. Правил негр; а сзади, рядом со своей матерью, сидела миссис Флем Сноупс. Она даже не повернула свою красивую голову, когда коляска поравнялась с лавкой. Ее лицо проплыло мимо них в профиль – спокойное, беспамятное, равнодушное. Оно не было трагично, на нем была лишь печать проклятия. Коляска проехала.
– А тот вправду дожидается в тюрьме, покуда Флем Сноупс вернется и его вызволит? – спросил еще кто-то.
– Да, он все еще в тюрьме, – сказал Рэтлиф.
– Но он дожидается Флема? – сказал Квик.
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Потому что Флем не вернется, покуда того не засудят. – Но тут миссис Литтлджон, выйдя на веранду, зазвонила в колокольчик, зовя к обеду, и все встали и начали расходиться. Рэтлиф и Букрайт вместе спустились с крыльца.
– Ерунда, – сказал Букрайт. – Даже Флем Сноупс не даст повесить своего собственного двоюродного брата ради того, чтоб деньги сберечь.
– Сдается мне, Флем знает, что до этого дело не дойдет. Джек Хьюстон был убит выстрелом в грудь, а всякий подтвердит, что он никогда не расставался с револьвером, да и револьвер нашли на дороге, на том самом месте, где лошадь шарахнулась и убежала, так что неизвестно, выронил он его из рук или из кармана, когда падал. Я думаю, Флем все разнюхал. И теперь он не приедет, пока все не будет кончено Какой ему расчет приезжать, ведь жена Минка сразу в него вцепится, а люди скажут, что он хочет сгноить брата в тюрьме. Бывает такое, чего даже Сноупс не сделает. Не скажу точно, что именно, но, право же, иногда и такое бывает.
Букрайт пошел своей дорогой, а Рэтлиф отвязал лошадей, ввел их во двор гостиницы миссис Литтлджон, распряг и отнес упряжь в конюшню. Он не видел идиота с того самого сентябрьского дня, и теперь что-то словно подталкивало, подгоняло его; он повесил сбрую на гвоздь и пошел по темному вонючему проходу между пустыми стойлами, к самому крайнему стойлу, заглянул туда и увидел на полу толстые бабьи ляжки, бесформенную фигуру, неподвижную в полумраке, ублюдочное лицо, которое повернулось и взглянуло на него, и в бессмысленных глазах что-то мелькнуло, словно он смутно узнал его, но не мог вспомнить, слюнявый рот приоткрылся и издал хриплый, жалобный, едва слышный звук. На коленях, обтянутых комбинезоном, Рэтлиф увидел обшарпанную деревянную корову, игрушку, какие дарят детям на Рождество.
Подходя к кузнице, он услышал удары молота. Потом молот повис в воздухе; тупое, открытое, здоровое лицо взглянуло на него без удивления, почти не узнавая.
– Как поживаешь, Эк? – сказал Рэтлиф. – Не можешь ли сразу после обеда сбить старые подковы у моих лошадок и подковать их наново? Вечером мне нужно съездить кое-куда.
– Ладно, – сказал кузнец. – Веди, сделаю.
– Ладно, – сказал и Рэтлиф. – А скажи-ка, этот твой сынишка… Ты ведь недавно переменил ему имя, правда? – Кузнец поглядел на него, не опуская молота. На наковальне медленно остывала раскаленная докрасна поковка. – Я про Уоллстрита.
– А-а, – сказал кузнец. – Ну нет. Мы ничего не меняли. До прошлого года у него вовсе никакого имени не было. Когда померла моя первая жена, я оставил его у бабки, покуда сам устроюсь; мне об ту пору всего шестнадцать лет было. Она назвала мальчишку в честь деда, но настоящего имени у него все-таки не было. А в прошлом году я пристроился и послал за ним, вот тогда и подумал, что, может, ему лучше дать имя. А. О. вычитал в газете про панику на Уолл-стрите. Ну он и порешил, что ежели назвать его «Уоллстрит-Паника», он, может, разбогатеет, как те люди, что эту панику устроили.
– Вот как, – сказал Рэтлиф. – Шестнадцать лет. Значит, одного ребенка тебе мало было, чтобы устроить свою жизнь? Сколько же их потребовалось?
– У меня их трое.
– Значит, еще двое, кроме Уоллстрита. И что же…
– Еще трое, кроме Уолла, – сказал кузнец.
– Вот как, – сказал Рэтлиф.
Кузнец немного помедлил. Потом снова занес молот. Но не ударил, а постоял, глядя на остывшее железо на наковальне, потом положил молот и пошел к горну.
– Значит, тебе пришлось уплатить все двадцать долларов сполна, – сказал Рэтлиф. Кузнец обернулся. – Ну, прошлым летом, за эту корову.
– Да. И еще двадцать центов за игрушку.
– Так это ты купил ее?
– Да. Меня жалость взяла. Я и решил, – может, он еще войдет когда в разум, так, по крайности, ему будет над чем поразмыслить.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
Глава первая
1День уже клонился к закату, когда люди, сидевшие на галерее лавки, увидели, что с юга по дороге приближается фургон, запряженный мулами, а за ним длинная вереница каких-то странных, по-видимому, живых фигур, – в косых лучах заходящего солнца они походили на пестрые, причудливые лоскутья, оторванные от каких-то огромных плакатов, – быть может, цирковых афиш, – привязанные позади фургона, они двигались каждая самостоятельно и всем скопом, словно хвост воздушного змея.
– Это что за чертовщина? – сказал кто-то.
– Цирк едет, – сказал Квик.
Все зашевелились, вставая, чтобы взглянуть на фургон. Теперь уже было видно, что позади него привязаны лошади. На козлах сидели двое.
– Мать честная, – сказал первый по фамилии Фримен. – Да ведь это Флем Сноупс.
Все были уже на ногах, когда фургон остановился, Сноупс слез на землю и подошел к крыльцу. Он словно уехал только нынешним утром. На нем была все та же суконная кепка, крошечный галстук бабочкой, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся на крыльцо.
– Здорово, Флем, – сказал Квик. Тот на ходу скользнул по всем, сидевшим на галерее, небрежным взглядом, никого не замечая. – Что это ты, цирк завел?
– Здравствуйте, джентльмены! – сказал он.
Все расступились, и он прошел в лавку. Тогда все спустились с крыльца и подошли к фургону, позади которого, настороженно сбившись в кучу, стояли лошадки, маленькие, почти как кролики, разноцветные, как попугаи, прикрученные одна к другой и к фургону кусками колючей проволоки. С узкими крупами, покрытыми ситцевыми попонами, с изящными ногами и розовыми мордами, они злобно и нетерпеливо косили разноцветными глазами, жались друг к другу, настороженно неподвижные, дикие, как олени, опасные, как гремучие змеи, кроткие, как голуби. Люди стояли на почтительном расстоянии. Раздвинув их плечом, подошел Джоди Варнер.
– Эй, док, поаккуратней, – сказал голос откуда-то сзади.
Но было уже поздно. Крайняя лошадь с быстротою молнии взвилась на дыбы и дважды взбрыкнула передними копытами, проворнее боксера, норовя садануть Варнера в лицо и сильно рванув проволоку, отчего словно волна прошла по табуну, – лошади били копытами и становились на дыбы.
– Тпру-у, балуй, кургузые твари, дьяволы бешеные! – сказал тот же голос, принадлежавший спутнику Флема.
Он был не здешний. Из-под светлой широкополой шляпы торчали густые, черные как смоль усы. Когда он спрыгнул на землю и, повернувшись спиной, встал между ними и лошадьми, все увидели, что из заднего кармана его узких, в обтяжку, бумазейных штанов торчит перламутровая рукоятка внушительного револьвера и цветная коробочка, в каких продают печенье.
– Держитесь от них подальше, ребята, – сказал он. – Они малость норовисты, на них давно никто не ездил.
– А как это давно? – спросил Квик.
Незнакомец взглянул на Квика. Лицо у него было широкое, обветренное и холодное, глаза тоже холодные и бесцветные. Его плоский живот был туго, как втулка, вбит в узкие штаны.
– Сдается мне, скорее они сами на пароме через Миссисипи ехали, – сказал Варнер. Незнакомец взглянул на него. – Моя фамилия Варнер, – сказал Джоди.
– А моя – Хиппс, – сказал незнакомец. – Зовите меня просто Бэк. – Через всю его левую щеку, от уха до подбородка, тянулся свежий кровавый рубец, залепленный чем-то черным, вроде колесной мази. Все поглядели на рубец. А потом увидели, что незнакомец вынул из кармана коробочку, вытряхнул оттуда на ладонь имбирное печенье и сунул его в рот, под усы.
– Видать, ты с Флемом не поладил? – сказал Квик.
Незнакомец перестал жевать. Когда он смотрел на кого-нибудь в упор, его глаза становились похожи на два осколка кремня, вывернутые плугом из земли.
– Это почему же?
– А вон у тебя что с ухом, – сказал Квик.
– Ах, ты об этом! – Незнакомец коснулся своего уха. – Нет, это я сам виноват. Зазевался как-то вечером, когда ставил их в загон. Задумался и позабыл, что проволока-то длинная. – Он снова принялся жевать. Все глядели на его ухо. – Со всяким бывает, кто неосторожен с лошадью. Смажешь колесной мазью, на другой день все как рукой снимет. Сейчас они горячатся, застоялись без дела. Но через день-другой вы их не узнаете. – Он положил в рот еще одно печенье и стал жевать. – Не верите, что они будут как шелковые? – Никто не ответил. Все смотрели на лошадей угрюмо и с недоверием. Джоди повернулся и пошел назад к лавке. – Лошадки добрые, послушные, – сказал незнакомец. – Вот поглядите. – Он сунул коробку с печеньем в карман и пошел к лошадям, протянув руку. Ближняя стояла, приподняв одну ногу. Казалось, она спала. Синий, как небо, глаз задернуло веко; голова была плоская, как гладильная доска. Не открывая глаз, лошадь вскинула голову и оскалила желтые зубы. Казалось, на миг она и человек слились в одном яростном усилии. Потом оба замерли, высокие каблуки незнакомца глубоко ушли в землю, одна рука, стиснувшая ноздри лошади, была неловко вывернута, а лошадь дышала хрипло, шумно, с натужными стонами. – Видали? – сказал незнакомец, с трудом переводя дух, жилы у него на шее и на висках вздулись и побелели. – Видали? Нужно только не давать им спуску, повыбить из них дурь. Ну-ка, ну-ка, осади!
Люди подались назад. Он изловчился и отскочил. В тот же миг другая лошадь саданула его копытом по спине, разодрав жилет во всю длину, совсем как фокусник одним Ударом рассекает подброшенный в воздух платок.
– Ничего себе, – сказал Квик. – А ежели на человеке жилетки нет, тогда как?
Тут сквозь толпу снова протолкался Джоди Варнер. Следом за ним шел кузнец.
– Ну вот что, Бэк, – сказал он. – Пожалуй, лучше отвести их в загон. Вот Эк тебе пособит.
Незнакомец, у которого свисали с плеч лохмотья, залез вместе с кузнецом на козлы.
– Но-о, страстотерпцы, живые мощи! – крикнул он. Фургон тронулся, лошадки, привязанные к нему, пестрой вереницей поплелись вслед, а за ними, на почтительном расстоянии, гуськом потянулись люди, прямо по дороге, а потом в проулок, мимо дома миссис Литтлджон, к воротам загона. Эк слез и отворил ворота. Фургон въехал во двор, но едва лошади увидели загородку, как они попятились, натягивая проволоку, и все разом взвились ни дыбы, норовя повернуть обратно, так что фургон откатился назад на несколько футов, пока техасец, отчаянно ругаясь, не ухитрился заворотить мулов и таким образом затормозить фургон. Люди, шедшие сзади, отпрянули. – Слушай, Эк, – сказал техасец. – Полезай -ка сюда да подержи вожжи.
Кузнец залез обратно на козлы и взял вожжи. А потом они увидели, как техасец с ременным кнутом в руке спрыгнул на землю, зашел сзади и загнал лошадей в ворота – кнут размеренно гулял по разноцветным спинам, щелкая оглушительно, как выстрелы. Зрители почти бегом перешли двор миссис Литтлджон и поднялись на веранду, одна сторона которой примыкала к загону.
– Интересно, как это он ухитрился связать их? – сказал Фримен.
– А по мне куда интереснее поглядеть, как он их станет развязывать, – сказал Квик. Техасец опять залез в фургон. И сразу же они с Эком появились у задней дверцы. Техасец ухватился за проволоку и стал подтягивать к фургону первую лошадь, а она приседала и упиралась, словно хотела удавиться на этой проволоке, заражая беспокойством остальных лошадей, пока все они не начали одна за другой приседать и пятиться, натягивая проволоку.
– Ну-ка, пособи мне, – сказал техасец. Эк тоже ухватился за проволоку. Лошади упирались, вскидывали розовые морды над водоворотом пятящихся крупов. – Тяни, тяни сильней, – сказал техасец отрывисто. – Им сюда не залезть, даже если б они и вздумали. – Фургон потихоньку откатывался назад, пока первая лошадь не уперлась лбом в заднюю дверцу. Техасец быстро обернул проволоку вокруг одной из стоек кузова. – Подержи-ка, чтоб не размоталась, – сказал он. Потом исчез и мигом появился снова со здоровенными клещами в руках. – Держи проволоку вот так, – сказал он и спрыгнул на землю. Его широкополая шляпа, развевающиеся лохмотья жилета, клещи – все исчезло в калейдоскопическом хаосе оскаленных зубов, сверкающих глаз, мелькающих в воздухе копыт, и оттуда тотчас же, одна за другой, словно куропатки, стали выпархивать лошади, каждая с ожерельем из колючей проволоки на шее. Первая бешеным галопом понеслась напрямик через загон. С разбегу она наскочила на загородку. Проволока поддалась, спружинила, и лошадь, опрокинутая, некоторое время лежала на земле, сверкая глазами и перебирая ногами в воздухе, словно все еще скакала во весь опор. Потом она встала, все так же вскачь пересекла загон, снова налетела на загородку и снова упала. Тем временем были отпущены на свободу остальные лошади. Они шарахались и носились по загону, словно ошалевшие рыбы в аквариуме. До сих пор загон казался большим, но теперь самая мысль о том, что все это яростное движение может быть сосредоточено за какой-то загородкой, представлялась нелепым фокусом, словно трюк с зеркалом. Наконец из последних клубов пыли вынырнул техасец, держа в руках клещи, жилета на нем как не бывало. Он не бежал, он просто двигался легко и осторожно, лавируя среди ситцевых попон, делая ложные броски и увертываясь, как боксер на ринге, пока не добрался до ворот, а оттуда прошел через двор на веранду. Один рукав его рубашки висел на ниточке. Он оторвал его, вытер им лицо, потом отшвырнул его, вынул коробочку и вытряхнул на ладонь печенье. Дышал он лишь чуть чаще обычного. – Здорово горячатся, – сказал он. – Ничего, через день-другой присмиреют.
Лошади все еще метались взад и вперед по загону в сгущавшихся сумерках, как ошалевшие рыбы, постепенно успокаиваясь.
– Что ты дашь человеку, который тебе малость пособит? – сказал Квик. Техасец взглянул на него бесцветными, дружелюбными, спокойными глазами, под которыми медленно двигались челюсти и густо чернели усы. – Который заберет у тебя одну? – сказал Квик.
На веранде появился голубоглазый мальчуган.
– Папа, папа! Где папа? – звал он.
– Кого ты ищешь, сынок? – сказал один.
– Это мальчик Эка, – сказал Квик. – Твой отец еще там, в фургоне. Помогает мистеру Бэку.
Мальчик в своем маленьком комбинезоне прошел через всю веранду – миниатюрная копия здешних мужчин.
– Папа, – звал он. – Папа.
Кузнец все стоял, перегнувшись через дверцу фургона, и держал в руках конец проволоки. Лошади, на миг сбившись в кучу, теперь рассыпались, шарахнулись от фургона, побежали, и казалось, будто их стало вдруг вдвое больше против прежнего; из густой пыли доносился дробный, частый, легкий стук некованых копыт.
– Мама зовет ужинать, – сказал мальчик.
Близилось полнолуние. И когда после ужина зрители снова собрались на веранде, было почти так же светло. Просто быструю резкость дня сменила зыбкая серебристая глубь, в которой, причудливо сливаясь с нею, барахтались лошади, разбегались, поодиночке или парами, зыбкие, призрачные, неугомонные, и снова сбивались в похожие на мираж табунки, откуда доносилось визгливое ржание и зловещие удары копыт.
Вместе с другими пришел и Рэтлиф. Он приехал перед самым ужином. Ввести своих лошадей в загон он не рискнул. Они стояли на конюшне у Букрайта в полумиле от лавки.
– Значит, Флем вернулся, – сказал он. – Так, так. Билл Варнер за свой счет отправил его в Техас, и, по-моему, будет только справедливо, ежели вы, друзья, оплатите ему обратную дорогу.
Из загона донеслось пронзительное, визгливое ржание. Появилась лошадь. Казалось, она не скачет, а плывет, неосязаемая, бесплотная. Но копыта ее часто и дробно стучали по утрамбованной земле.
– Он не сказал, что лошади его, – сказал Квик.
– И что они не его, тоже не сказал, – сказал Фримен.
– Понимаю, – сказал Рэтлиф. – Вот, значит, чего вы дожидаетесь: чтобы он сказал, его они или не его. А может, вы подождете, покуда кончатся торги и разделитесь – одни пойдут за Флемом, другие за этим парнем из Техаса, чтобы поглядеть, который из них станет тратить ваши денежки? Да только когда тебя уже ощипали, какая разница, кому от этого прибыток.