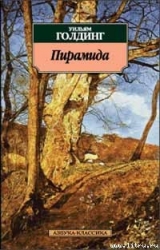
Текст книги "Пирамида"
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Олли! Бобби! Вы где?
Эви где-то металась в папоротниках. Все еще сжимая кулаки, я надсаживаясь заорал:
– Тут мы! Где еще?
Она на секунду вынырнула:
– Где он? Ты чего ему сделал? Бобби!
И снова исчезла. Голова и плечи Роберта показались из папоротников. Одна рука зажимала лицо каплющим красным платком. Другая была не видна, – наверно, все еще зажата в паху. Но и тут, сквозь окровавленный платок, он пытался пустить в ход свою элегантную небрежность.
– Еввундовое поввездение. В бойницу. Пвофу пвофенья.
И стал продираться прочь. Эви еще не появилась.
– Бобби-и! Ты где?
Она выгребла на поляну, побежала, мелькая сандалиями и носками. По ту сторону папоротников мопед буркнул и загрохотал – декрещендо – прочь. Эви застыла.
– Здрасте! Как же я-то теперь? Все ты! Ему завтра в Крануэлл. Мы бы в последний раз...
– В последний раз – что?
Она повернулась ко мне. Глаза у нее горели. Дышала она так же часто, как я. Она возмущенно хмыкнула.
– Все мальчишки – прям гады!
– Н-да, я ему немного подпортил вывеску.
– Рубашка у тебя – ну ой. Прилипла вся.
– Кадет Юэн, Безносое Чудо. Так его в цирке будут показывать.
Снова на меня пахнуло ею, сквозь едкий запах моего собственного пота. Я схватил ее за руку, притянул к себе. Зубы у меня разжались, но сердце бухало, как бешеное.
– Эви...
Лес поплыл.
– Я... хочешь, я для тебя пруд выкачаю?
Кисточки дрогнули. Вытаращился один глаз. Губы округлялись все шире, пока я к ним склонялся.
– Ты послушай!
Я потянул ее к себе; но она была сильнее Роберта и меня отпихнула. И в ужасе дернулась. Я услышал с долины звон церковных часов.
– Третий раз на неделе опаздываю!
Она бросилась в папоротники, я сунулся было за нею, но напоролся голой ногой на чертополох, заплясал и взвыл.
– Эви! Подожди!
– Дак прием уже!
Я разгреб самые очевидные колючки и пробрался сквозь них туда, откуда пришли мы с Робертом. Его брюки и пиджак по-прежнему висели на кусте, рядом валялся ботинок. Я закатал собственные брюки, впопыхах натянул носки, надел ботинки. Эви уже на пятьдесят метров ушла по дороге, когда я был готов рвануть ей вдогонку. Шла шагом, потом припускала бегом, колыхая гривой, потом снова шла. Максимум, решил я, что можно извлечь из нынешнего свидания, – это договориться о новой встрече, и я припустил побыстрей и эффектно затормозил перед нею.
– Вот правильно! Ой, не смотри!
Она подобрала юбку чуть не до пояса. На ней были белые трусики с белыми кружавчиками. Она села верхом на багажник моего велика, и багажник тяжко вздохнул.
– Ты лапка. Нет, правда! Скорей!
Всем своим весом я налег на одну педаль и кое-как столкнул велик с места. Мы завихляли по дороге.
– Я жуть как опаздываю.
Я напряг все оставшиеся силы, меня снова прошиб пот. Мы развили неплохую скорость.
– Оливер, а ведь он и пиджак оставил, не только эти... Чего миссис Юэн скажет, прям не знаю! Вот мы доедем, и, может, ты?..
– Что – я?
– Ну а кто ж ему принесет?
Я испустил нечто вроде рычанья, поднял руку, чтоб отвести волосы, вытереть слепивший глаза пот, и чуть не свалился с велосипеда.
– Осторожно!
Вдруг все облило светом, и, хоть я не отрывал глаз от текшей под переднее колесо дороги, я понял, что мы выехали из лесу и теперь на вершине холма. Я откинулся назад и положился на закон всемирного тяготения. Церковные часы прошли еще чет верть часа.
– Не чересчур гонишь-то?
Я нажал на оба тормоза. Секунду мы буксовали, потом снова понеслись. Я жал на тормоза изо всех сил, но это не помогало. Сзади раздался визг, и горб Старого моста полетел на нас со скоростью ста километров в час. Когда мы достигли его, у меня за спиной дико грохнул багажник, хлопнула шина, взвыла Эви. Велик с разгону запнулся, и тяжестью Эви меня чуть не перебросило через руль. Она слезла с багажника и минуту постояла, охлопывая себя обеими руками пониже спины.
– Ой, платье порвала. Нет. Ничего.
– Погоди минуточку.
– Нет, мне бежать надо.
– А что если нам...
– Может. Не знаю. Спасибо все равно, что подбросил.
Она метнулась через мост и скрылась. Я осмотрел свой велик. Багажник и брызговик смялись, сплющились, налипли на колесо. Шина лопнула. Я ругался и возился с изуродованными частями. Наконец мне удалось их расцепить, отодрав брызговик от рваной резины. Я пустил велик по мосту вскачь. Эви продвигалась по Главной улице тем же манером, как шла от пруда, – то и дело меняя шаг на побежку. Вдруг она припустила бегом, уже не сбавляя скорости, но было поздно. Маленькая птицевидная миссис Бабакумб, в своей серой шляпке и со своей кошелкой, уже ее засекла. Перебежала через дорогу и вцепилась ей в локоть. И они пошли по улице рядом, и миссис Бабакумб что-то бубнила у Эви над ухом. С низким злорадством я думал, что на сей раз Эви придется как следует пораскинуть мозгами, чтоб выкрутиться. Я прогремел дальше по улице и свернул к бетонной площадке гаража, чтоб поискать Генри. Но когда я его увидел, я, продолжая толкать велик, решил ретироваться, тактично описав дугу. Генри стоял в белой спецовке, руки в боки, и озирал малолитражку мисс Долиш.
– Мастер Оливер...
– А, привет, Генри. Я подумал, ты занят. Не хотел мешать.
Генри нагнулся и осмотрел мое заднее колесо. Я посмотрел – мимо него – на малолитражку, и ноги мои примерзли к бетону. Она как будто года два мокла в болоте.
– Мама родная, – сказал Генри. – Эко вы его шмякнули. Друга подвозили? Н-да. Теперь хоть выбрасывай.
Я услышал у себя за спиной легкий свист. Капитан Уилмот к нам подъезжал на своей электрической инвалидной коляске.
– Привет, Генри. Готов мой аккумулятор?
– С часок еще обождать, капитан, – сказал Генри. – Вот, посмотрите-ка. И вернулся к малолитражке.
– Погоди, – сказал капитан Уилмот. – Сперва вылезти надо. А ты не уходи, Оливер. Хочу про команду порасспросить.
И стал маневрировать в своем плетеном кресле, покрякивая и скрипя зубами.
– Примкнуть штыки!
Капитан Уилмог был инвалид войны, за что и получил соответственную пенсию, экипаж и секретарскую службу в госпитале, которая, по собственному его выражению, вознаграждалась гонораром. Снаряд, который его накрыл, в придачу наполнил его организм металлическими осколками в самых нераскапываемых местах. Злые языки из Бакалейного тупика, где он жил напротив сержанта Бабакумба, намекали, что он скрипит и трещит больше, чем его коляска. Из-за этого снаряда он оглох на одно ухо. Из него торчала вата. Он вечно пускал слюни и потел.
– Мне надо идти. Я...
– О Господи. Оставайся и не рыпайся.
Он злился. Это потому, что он вылезал из своей коляски. Когда вылезал или влезал, он всегда злился. Если вы смотрели на его лицо, пока он его не приаккуратит, вы могли иногда напороться взглядом прямо на звериную свирепость, будто его единственный двигатель – ненависть. Но он любил молодых и вообще юность, потому, может быть, что у него вырвали его собственную, прежде чем он успел ею попользоваться; юный канцелярист, в котором нуждалось отечество. Он безвозмездно обслуживал нас на миниатюрном стрельбище нашей гимназии. После бесконечных маневров усаживался рядом, когда мы лежали против мишеней, подавал советы и ободрял.
– Не дергайся, парень! У тебя мушка, как бадья в колодце, ходуном ходит. Жми – вот так!
И далее ты чувствовал, как тебе долго жмут и мнут ягодицы.
– Ну вот, что скажете, капитан?
Капитан Уилмот подковылял на двух своих палках и пристально осмотрел машину.
– По виду судя – с плотины сверзилась.
Нет, ноги мои не примерзли к бетону. Они в него провалились.
– Это у них называется – покататься, – сказал Генри. – Хулиганье. Я бы им показал – покататься.
Открыл дверцу и заглянул.
– Вот! Полюбуйтесь!
Попятился и повернулся. В руке у него был золотой крестик на цепочке.
– Ну? Чего-чего, а крестика мисс Долиш сроду не нашивала, ни в коем разе!
Капитан Уилмот наклонился к руке Генри.
– Ты уверен, Генри? Где-то я его видел...
Генри поднял крестик к самым глазам.
– Й. Хэ. Сэ [6]6
J. H. S. – Jesus Hominum Salvator – Иисус Спаситель человечества (лат.). (Прим. перев.)
[Закрыть]. И на другой стороне тоже чего-то есть. «Э. Б. Амор винсит омниа». Это еще чего?
Капитан Уилмот повернулся ко мне:
– Поди сюда, Оливер. Ты у нас грамотей.
Внутри я весь похолодел от страха, снаружи весь горел от стыда.
– По-моему, это значит – любовь побеждает все.
– Э. Б. – сказал Генри. – Эви Бабакумб!
Он поднял грустный карий взор на мое лицо и не опускал.
– То-то я говорю – где-то видел, – сказал капитан Уилмот. – Рядом живет. Ходит ко мне уроки брать, понимаете? Письма, карточки, ну всякое такое. Она его под низ надевает, вот сюда.
– Она раньше тут работала, – сказал Генри, все еще не сводя глаз с моего лица. – Пока к доктору не перешла. Тогда, значит, и потеряла.
– Вообще-то, – сказал капитан Уилмот, – она его не всегда под низом носит, когда бусы не надевает, он у нее снаружи висит, вот тут. Ну, я пошел.
И поковылял к своей коляске, больше не поминая ни команду, ни аккумулятор. Он нам улыбался, и улыбка стала зверской, когда он усаживался. Сложил обе палки, развернул коляску и засвистел прочь.
Генри все смотрел мне в лицо. Меня, поднимаясь от пяток, неудержимо захлестывала краска. Вот прилила к плечам, ударила в руки, так что они взбухли на руле. Залила мне лицо, голову, даже волосы у меня горели.
– Н-да, – сказал наконец Генри. – Эви Бабакумб.
Двое перемазанных в бензине рабочих, возившихся с мотором грузовика, уставились на нас с улыбками, только что не такими зверскими, как у капитана. Будто у него глаза на затылке, Генри к ним обернулся.
– Я вам деньги за что плачу? Чтоб вы весь день рты разиня стояли? Мне эти вентиля к полшестому нужны!
Я вякнул:
– Можешь ей сам передать. Или, хочешь, я...
Генри повернулся ко мне. Я отлепил от руля одну руку, протянул. Он раскачивал крестик, как маятник, и внимательно меня разглядывал.
– Вы ведь машину не водите, мастер Оливер?
– Нет. Нет. Не вожу.
Генри кивнул и уронил крестик в мою ладонь.
– С приветом от фирмы.
Отвернулся и опять сунул голову в машину. Ноги мои вновь обрели способность двигаться. Я повел прочь свой увечный велосипед, зажав в руке крестик. Когда я подходил к нашему флигелю, в голове стучало только: ух, пронесло.
* * *
Отведя велосипед, я прошел коридором в аптеку, где папа щурился у окна над микроскопом.
– Генри, – сказал я, небрежно раскачивая крестик. – Генри Уильямс. Мисс Бабакумб забыла эту вещицу, когда работала у него в гараже. – Я подбросил и ловко поймал крестик. – Попросил, чтоб я ей отдал, – сказал я. – Ведь она сейчас в приемной, нет? Я только зайду...
Я прошел коротеньким коридорчиком и открыл дверь. Эви сидела за конторкой, пытаясь рассмотреть правым глазом свой левый в круглом зеркальце. И увидела вместо него меня.
– Олли! Ну зачем ты...
– Здрасте. Я думал, ты обрадуешься.
Изо всех сил изображая небрежность Роберта, я бросил крестик на конторку. Эви в него вцепилась с ликующим воплем:
– Мой крестик!
Она положила зеркальце и стала прилаживать на шее цепочку. Лицо ее стало торжественным. Она нагнула голову, причитала, как-то странно поводила одной рукой вокруг своих грудей. В нашей местной взвеси англиканства, протестантства и чистого безверия я никогда не видывал ничего подобного. Она глянула на меня и вдруг рассиялась с открытым ртом, подмигивая одним глазом.
– Ну, Олли, ты даешь!
– Как это?
Она отпихнула стул, потом снова села, глянула на меня, тиская края конторки. Она меня разглядывала, будто в первый раз в жизни видит.
– Эви... когда же мы с тобой...
– Ишь шустрый какой, а?
Сомнений быть не могло. Эви Бабакумб, красотка Эви, спелая ягодка, смотрела на меня с одобрением, даже с восторгом!
Из глубин докторского дома хлынул голос:
– Мисс Бабакумб!
Она вскочила, откинула гриву, прошла в дверь кабинета. На пороге оглянулась. Хихикнула.
– Он же у тебя всю дорогу был!
* * *
Я понес оскорбление с собой в аптеку. Папа все еще склонялся над микроскопом, поддевая предметное стекло испытанными крупными пальцами. Я беспрепятственно вышел и прошел во флигель, соображая, что мне теперь делать. Если сержант Бабакумб добьется ее показаний с помощью физического воздействия или как-то еще, он может и не разделить восторга дочери по поводу моей воображаемой роли. Дело не терпело отлагательства. Надо было ее увидеть, прежде чем она пойдет домой; но я не находил предлога, чтобы пройти в приемную. Зато из окна моей комнаты вкось просматривалось все до самой Площади и видны ступеньки соседнего дома Юэнов. Как только она выйдет, я снова спущусь и пройду в наш двор. Если мама будет на кухне, можно очень просто объяснить свои передвижения («пойду на велик взглянуть»). Во дворе я наберу скорость, перемахну через забор на Бакалейную, задами пробегу мимо Юэнов, священника и еще три двора до поворота на Бакалейный тупик, а там пройду назад между двором священника и церковью. Таким образом я выйду на Площадь с другой стороны и случайно наткнусь на Эви. Итак, я занял свою позицию и затаился за ситцевой занавеской. Ждать предстояло долго, но что мне еще оставалось? И вот, когда она уже должна была с минуты на минуту явиться, я услышал тяжкий державный шаг, приближавшийся к моему окну с другого направления. Сержант Бабакумб надвигался со стороны ратуши. Он не придерживался обычного своего маршрута – мимо адвокатской конторы Уэртуисля, Уэртуисля и Уэртуисля, эркера мисс Долиш и прочее. Он направлялся курсом, который неизбежно вел его прямо к нашей калитке. Нет, не из-за своих действий в течение последних двадцати четырех часов я пришел в ужас. Но из-за своих намерений. Ибо на лице сержанта под трехцветной треуголкой отображался такой пышущий, такой родительский гнев, что у меня захватило дух. Мясистые кулаки низко раскачивались при каждом шаге, металлические подковы выбивали искры из мостовой. И тут, будто она тоже подглядывала из окна, Эви выпорхнула из двери Юэнов. Она была в белой шелковой, завязанной под подбородком и хлопающей кончиками косынке. И конечно, в чулках. Она смеялась, улыбалась, обнимала себя за плечи, выворачивала икры и чуть вихляла задом. Подпорхнула к сержанту Бабакумбу, вплоть, посылая улыбку ему в лицо, почти вертикально вверх.
– Папка! Смотри! Я его, оказывается, в женском туалете посеяла! Надо же, вот дура-то!
Он шел напролом. Она сошла у него с дороги, повернула и затрусила рядом. Она не поспевала за его размашистым шагом, то и дело припуская вскачь, и весело хохотала. Поравнявшись с ним, она нашаривала его руку, она льнула к нему боком, склоняла голову и вся тянулась вверх, овевая косынкой его плечо. Он ушагивал вперед, она снова припускала вскачь, снова нашаривала его руку. Наконец ухватила. Рука перестала раскачиваться. Не замедляя шага, сержант Бабакумб переместил пальцы от ее ладони к запястью. И теперь она уже не припускала вскачь, а ровно трусила рядом мелкой побежкой. Ей ничего другого не оставалось.
Я спустился, вышел во двор и стал кружить по нашему газону, сунув руки в карманы брюк. Между моей тягой к складным прелестям Эви и ужасом перед ее кровожадным родителем роился сонм других, менее насущных соображений. Генри мог где-нибудь проболтаться; хотя я почему-то необъяснимо и незыблемо верил в Генри. Капитан Уилмот мог проболтаться. Роберт – а теперь, когда улеглось мое бешенство, я беспокоился за него, – может быть, всерьез покалечен. Собственное мое левое ухо до сих пор горело, и правый глаз, хоть не такой жуткий, как у Эви, все-таки здорово заплыл. И немного слезился. И еще была Имоджен. Я с разгону запнулся на траве, уставясь на запоздалую пчелу, увлекшуюся колоском шпорника. Я изумленно сообразил, что часами не вспоминал про Имоджен. Она вернулась в мои мысли, вызвав привычное сжатие сердца, но на сей раз я сам не мог объяснить своих чувств. Она как-то даже подхлестывала мою погоню за Эви. Тут было отчего прийти в отчаяние. Как-то так получалось – я даже тогда понимал всю свою глупость, – что, раз она выходит замуж, я обязан тягаться с нею и с ним. Я снова принялся кружить по газону. На душе у меня было гадко.
Наутро, когда брился, я увидел, как Роберт выбежал в сад, чтоб последний раз перед Крануэллом сразиться со своей грушей. Мне стало не по себе. Наша драка была типичной дракой между мальчиком его сорта и мальчиком моего сорта из подростковой литературы. Он был стройный и собранный. Я – дюжий раззява. Одним словом, жлоб. И я победил. Причем именно так, как положено побеждать жлобу – единственным позволенным жлобу способом, – жульническим. Заехал ему коленкой по яйцам. И бесполезно было себя уговаривать, что это вышло случайно. Я же знал, что, когда он жалко согнулся надвое, я почувствовал черную злобу, гнусную радость и, конечно, намеренно съездил ему по носу кулаком. На душе у меня стало совсем уже гадко. Он там, внизу, гибко и стройно выплясывал вокруг безответной груши. А на носу был пластырь и на коленке. А я коварный, расчетливый, произношение у меня не то, и машину я водить не умею. Увидев, что он закончил свои упражнения и собрался бежать в дом, я сунул в окно недобритую физиономию и помахал бритвой.
– Привет, Роберт! Отчаливаешь. Счастливо тебе!
Роберт меня отшил. Задрал свой профиль герцога Веллингтона и понес вместе с пластырем в дом. Я не смеялся. Я был раздавлен, был изничтожен.
Нелегко оказалось, как я ни изворачивался, как ни ловчил, повстречать и нашего общего друга, юную Бабакумб. Она была на крючке. Заточена, обложена, прикована. Каждый день сержант Бабакумб доставлял ее на работу и стоял, глядя, как она исчезает за дверью, и далее шел расставлять стулья в ратуше или укладывать их спать кверху ножками. Или вынимать мелочь из автоматов общественных уборных. Или поднимать государственный флаг. Или трясти медным колокольцем, возвещая карточное состязание в Рабочем клубе или праздник на церковном дворе. Забирала ее миссис Бабакумб. Миссис Бабакумб всегда излучала приветливость и радушие, неукротимые, хоть и редко встречавшие отклик. Она была маленькая, как воробушек, чистенькая, как Эви, только уже усохшая. Она двигалась быстро, задрав подбородок, то и дело кланяясь встречным, улыбаясь, вертя головой, метя своим любезным поклоном через Главную улицу в кого-то совершенно вне ее социальной сферы. Естественно, этих ее поклонов не замечали, их даже не обсуждали. Потому что никто не мог с уверенностью сказать, то ли миссис Бабакумб спятила и сочла, что имеет на них право, то ли она заявилась из некой баснословной страны, где городской глашатай и начальник полиции дружат домами. Первое более вероятно. Вы могли, между прочим, увидеть, как она, воробушком почирикав у продовольственного прилавка, мило потом улыбалась (легонько склонив голову) леди Гамильтон-Смит, по всей видимости не подозревавшей о ее существовании. Она была, можно сказать, единственная у нас католичка, миссис Бабакумб, – если не считать Эви, – и это, принимая во внимание прочие странности, делало ее особенно неудобоваримой. Поскольку со сбродом из Бакалейного тупика она не желала якшаться, а остальные с ней сами не разговаривали, было неясно, зачем ей эти кивки и улыбки. Правда, после эпизода с крестиком на несколько дней они прекратились. Сержант Бабакумб доставлял Эви как посылку, а маленькая миссис Бабакумб ее забирала, сморщенная и мрачная.
Через неделю Эви зашла в аптеку, жалуясь на головную боль, и папа чем-то таким ее попользовал. В тот же вечер, когда миссис Бабакумб пришла к ступеням дома Юэнов, обе дамы удалились, щебеча и смеясь, как две подружки. Перемена существенная – и дальше больше. Эви спустили с крючка, с нее сняли епитимью. Еще через несколько дней около девяти Эви наблюдалась одна по ту сторону Площади. В летнем ситцевом платьице, без чулок, в белых носках и сандалиях. Она плыла, запыхавшись, вывернув губы, околдовывая улыбкой вечерний воздух, блистая гривой, ярко сияя теперь уж обоими глазами, переступая ножками ниже колен. Все возвратилось на круги своя. И таинственно, как светляк, она излучала сияние и соблазн, почти зримые, как лучи света. Когда она поравнялась с эркером мисс Долиш против нашего флигеля, шажки замедлились, как бы сошли на нет. И мне вовсе не почудилось, что с такого расстояния я углядел сумасшедшую дрожь черных кисточек и блеск стрельнувшего в мою сторону глаза. Как по команде хозяина, я бросился вниз и шмыгнул за дверь.
Эви проплыла мимо ратуши по Главной улице. Народу почти не было, только девица в кассе кино и полицейский. Соблюдая табу, я следовал за нею на расстоянии пятидесяти метров. Это было нелегко, потому что она, обладая, по-видимому, меньшей социальной чуткостью, плелась черепашьим шагом. Мне пришлось изучать витрины шорника, табачника и менее убедительные обольщения галантереи для сохранения должной дистанции. Она дошла до Старого моста и остановилась. В борьбе между зовом приличий и зовом соблазна победа была предрешена. К тому же и солнце село, близилась ночь, под аркой моста уже хозяйничала темнота. Над мостом густели сумерки. Эви расположилась наверху, налегши грудью на каменный парапет. Она устремила взор в ту сторону, где спряталось солнце. Я к ней поднялся. Мы удивились при виде друг друга.
– Как твой глаз, Эви?
– Порядок. Полный порядок. А у тебя?
О собственных ранах я и забыл. Я нажал пальцем на правое глазное яблоко.
– Вроде ничего.
– Бобби не пишет?
Я сперва просто опешил.
– Нет. С чего бы?
Эви некоторое время молчала. Откинула голову назад и искоса мне улыбнулась.
– У тебя навалом свободного времени, да, Олли?
– Ну, в школу ходить не надо.
Трудно было оторвать от нее взгляд, потому что она не только излучала свой собственный свет, от нее шел запах лугов и того хорошенького чего-то в кружавчиках, и девичий смех октавой выше мужского. Тем не менее мне удалось отвести глаза, и тут же по всей Главной улице задрожали, выдираясь из тьмы, фонари. Мы не были невидимками.
– Пройдемся?
– Куда это?
– На гору можно.
– Папка мне не велит в лес ходить. Когда темно.
Пара брюк, глубоко зарывшихся в грязь, мелькнула в моем мозгу и потом устроилась на ветке сушиться.
– Но ведь...
Это было невозможно, непереносимо. Она была сама уверенность, вежливость, спокойствие. Осадок заката мерцал в одном глазу, газовые фонари в другом. Я сделал шаг, второй, потом остановился, оглянулся.
– Ладно, Эви, пошли, можно ведь и по берегу.
Она тряхнула головой, грива взметнулась, опала.
– Не-а. Папка не велит.
Я сообразил сразу, долго не пришлось додумываться. Эта дорога вела через поля к Хоттону, где были конюшни. Сержанту Бабакумбу виделись, наверно, конюхи, похотливо затаившиеся под каждым кустом; и он, очень возможно, не ошибался.
– Ну тогда... Давай в другую сторону, к Пилликоку.
Эви сомкнула рот, снова тряхнула головой, улыбнулась таинственно.
– Но почему?
Никакого ответа; только взгляд, улыбка, качание головой. И при каждом встряхивании волос этот ароматный посул. Я в смятении гадал, какова на сей раз причина географического ограничения. Заметнее прочего в той стороне была модная закрытая школа, очень и очень сама по себе, хоть всего ничего от нас. Может, сержант Бабакумб и насчет нее имел свои соображения? «Гляди, дочка, всыплю тебе, если с кем из этих фраеров накрою, знаю я их, козлов, как облупленных!» Так или иначе, местность вокруг нас сомкнулась. На юге – эротические леса, на западе – эти конюшни, на востоке – этот колледж, а на севере – лысая неподступность откоса. И так мы стояли, парочкой, открытые взглядам, на гребне Старого моста.
Словно осчастливленная этим запретом, Эви замурлыкала, покачивая в такт головой:
– Тир-лир-лям-па-пам! Тир-лир-лям-па-пам!
Кровь мне кинулась в голову. Я что-то буркнул, сам не знаю что. Захотелось схватить дубинку, топор. Эви смотрела на меня с удивлением.
– Тебе они чего – не нравятся?
– Кто?
– Ну эти, по радио? Савойские сиротки. Я их всю дорогу слушаю.
Я уже весь трясся от злости.
– Ненавижу! Ненавижу! Пошлость, дешевка...
Мы оба молчали, пока ярость моя не улеглась, оставя по себе мелкую дрожь. Когда Эви наконец заговорила, голос был холодный, надменный.
– Ах, ну, значит, я извиняюсь!
Было ясно, что меня повело не туда. Но пока я раздумывал, что делать дальше, Эви осияла меня улыбкой.
– Вот ты вчера играл, Олли, ой, мне так понравилось. Ну, на пианино.
– Шопен. Этюд до минор, опус двадцать пятый, номер двенадцатый.
– У тебя и громко получается!
– Ну, не знаю...
Я призадумался. Когда я разучивал пассажи «Аппассионаты» шестнадцатыми или октавы в левой руке из ля-бемоль-мажорного полонеза, папа, если он оставил дверь аптеки открытой, иногда тихонько ее прикрывал. Папа сам был очень музыкален и не мог себе позволить рассеиваться, когда работа требовала от него особенной сосредоточенности.
– Я и не знал, что ты проходила мимо нашего дома, Эви!
– Я в приемной сидела, чудик!
Я немного удивился. Как-никак дверь приемной, коридор, дверь в аптеку, еще коридор и еще дверь отделяли приемную от наших желтеющих клавиш. Очевидно, у меня и правда выходило громко.
– Это я так. Для себя.
– Я с утреннего приема шла – ты играл. В вечер иду – опять играешь! Видно, жуть как музыку любишь. Долго играешь, Олли?
– Люблю. Целый день.
– Хорошо-то как! И для меня поиграешь, да? Доктору Юэну тоже нравится.
– Правда?
– Вчера пришел в приемную, как миссис Минайвер ушла, и говорит, что опять он играет.
– Больше ничего не сказал?
– Вроде ничего. Только хорошо, говорит, что ты скоро в Оксфорд уедешь.
Я был глубоко тронут. Я и не знал, что доктор Юэн тоже музыкален. Я разучивал этот этюд Шопена, потому что его разбитые аккорды, нотный шквал в точности выражали и содержали собственную мою страсть к Имоджен, безнадежную, сушащую рот; но технические трудности были ужасны и меня изводили. Я объяснил:
– Там есть нота – соль чистое – мне надо на лету в него попасть вот этим пальцем, видишь...
Я поднес правый указательный палец к ее лицу, и она ухватила его обеими руками, дернула.
– Ой! Не надо! Больно же!
Эви громко хохотала, дергала и дергала мой палец. Лед вдруг тронулся, низвергнулся водопадом. С криками, хихиканьем мы боролись в газовом мерцании сумерек. Странным, непонятным для меня образом из дичи я превратился в ловца. Эви вырывалась.
– Нет, нет, Олли! Не надо...
Она была притиснута к моей груди. И уже не боролась.
– Пусти. Увидят.
Я схватил ее за руку и поволок с моста вниз, туда, где наполовину выступал в воду пирс. Скрылись газовые фонари. Она уже не смеялась, меня снова затрясло. Свет исходил теперь только от Эви, три сливы чернели совсем рядом, но их уже не занавешивали мокрые волосы и дождевые струи, и был настойчив этот сводящий с ума ее запах. Я вжимался в нее, все во мне напряглось, все горело. Я наполучал вдоволь поцелуев. Больше даже, чем мне бы надо. Кроме них я не получил ничего.
Ударили церковные часы. Из девушки, чьих сил едва хватало, чтобы защититься от атаки, если та не подкреплена нежной и кроткой мольбой, Эви разом преобразилась в силачку, рожденную рубить дрова и таскать уголь. У меня еще кружилась голова, я был не готов к такому обороту и, отброшенный обеими ее руками, отлетел на берег.
– Вот! И мамка говорила...
Она вскарабкалась на дорогу. Я вскарабкался за ней, разбрасывая комья грязи. Я догнал ее на мосту.
– Эви... Давай сюда придем завтра вечером. Или, может, пойдем погуляем и вообще, да?
Она продолжала свое продвижение в газовом свете.
– Что я – запрещу тебе меня встречать? Мы живем в свободной стране.
– Значит, завтра.
– Дело хозяйское.
Она двигалась по Главной улице. Слегка оправясь, я вспомнил о ближних, о том, что мы входим в сферу их тонких влияний. Ближе к середине улицы, над лавкой – снимал комнату, что ли – жил один мой учитель. У ратуши начиналась область, просматриваемая моими родителями. За ратушей была наша Площадь, где они, вполне возможно, высматривали меня из окна. Я сбавил шаг. Скорость Эви замедлилась. Положение тупиковое. Мне остался единственный способ не быть застуканным в ее обществе.
– Ладно, – сказал я и остановился. – Ладно. До завтра.
Эви глянула через плечо.
– А ты не домой?
– Кто? Я? Я вот погулять хотел.
Эви улыбнулась своей косвенной улыбкой.
– Ну, тогда пока.
Я живо пошел к мосту, наверх, потом пригнулся, оглянулся под удобным углом. Платьице и носочки взошли по улице и скрылись между ратушей и эркером мисс Долиш. Я пошел домой обходным путем и вошел на Площадь с северо-запада. Но в нашем флигеле было темно, родители легли. Я решил немного поиграть перед сном и вернулся к своему этюду. Он теперь содержал не только Имоджен, но и Эви – любовный крах по всем статьям.
Мама сунула голову в дверь, нежно мне улыбнулась:
– Олли, детка. Ужа-асно поздно.
* * *
На другой день правый указательный палец у меня болел, как зашибленный. Хочешь не хочешь, пришлось до завтра отложить музыку и пойти гулять. Я гулял долго, пообедал бутербродами и вернулся к вечеру. Времени до моей охоты на Эви оставалось немного, и я его употребил на то, чтобы выставить в самом выгодном свете свои скромные исходные данные. Я не мог соответствовать профилю Роберта, лишним семи сантиметрам роста и мопеду. Но я мог удалить всякий намек на щетину с уже выбритых утром щек и посоперничать с ароматом Эви посредством брильянтина. Я не пытался себя обманывать относительно своей внешности, но я слышал, что девушкам на нашу внешность плевать. Мне очень хотелось бы на это надеяться, потому что, осмотрев в зеркале свое лицо, я пришел к печальному выводу, что оно не из тех, в какие лично я бы влюбился. В нем абсолютно не было тонкости. Я попробовал победно улыбнуться и в результате перекосился от омерзения.
– Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм, здрасте, мэм.
Я сам себе показал язык,
– Ето йя-а-а!
Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным – одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви – девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстраняла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и дубинка бы помогла. Но, с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разночтений. Эви была доступна.
– Ето йя-а-а!
Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, наученный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне моста, когда я к ней поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вместе со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее, мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою трость.






