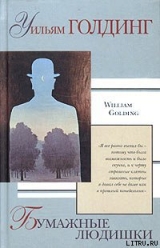
Текст книги "Бумажные людишки"
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Глава XIII
Этот отрезок никак не вяжется. Я просто не помню, что происходило после нашей второй встречи в Вайсвальде. Струна натянулась слишком уж плотно. Я вспоминаю только отдельные сцены, словно части фильма с большущими промежутками между ними. Одна такая сцена в Цюрихе, где я нашел адвоката, хотя не помню как. Это оказалась женщина, и когда она ознакомилась с содержанием соглашения, то уставилась на меня так, словно хочет меня купить, а не оказать мне услугу. Она была маленькая, вся в морщинах, из тех, в ком поразительное уродство сочетается с поразительной женственностью. То есть она не была jolie laide37. Тогда речь бы пошла о сексуальных похождениях, чего у нас и близко не было. Она была каким-то образом защищена – тем, что добивалась успеха без таких малопривлекательных качеств, как потребность отомстить, опередить других, обороняться от людей или быть к ним безразличной. Помню, я подумал, как это замечательно, что я больше не вынашиваю планов красиво написать очередную книгу Уилфрида Баркли, потому что она твердо стояла на земле и была бесполезна для романиста – он не в состоянии описывать таких людей, а сами они не дают себе труда описывать себя, существуя скорее в молчании, чем в речи. Не помню, как она сумела доказать мне, что документ вообще не нужен и следует просто приостановить это дело, потому что я вовсе не собирался встречаться с Риком, пока туго натянутая струна хоть чуть-чуть не ослабнет. При расставании я остро ей завидовал. То, что я мог предоставить, этой женщине вовсе не требовалось!
Другой обрывок, другой клип, связанный с Цюрихом, – это кладбище. На одном камне была выбита только дата рождения и ничего более. Позднее я вспомнил: это как раз была дата моего рождения.
Никакого сомнения быть не могло. Я сидел в одном из отделанных пластиком отелей, каких полно в больших городах, и перед моим мысленным взором предстал этот камень, дату на котором я читал цифра за цифрой. Для остального еще имелось много места. Итак, я опять выбрался в прокатной машине на трассу. Пришлось заехать очень высоко, чтобы пересечь горы, и это было – полагаю – потому, что за мной неотступно следовал катафалк. Чтобы оторваться от него, пришлось свернуть на проселочную дорогу, из тех, которыми пользуются только лесники. Тут в памяти провал, потому что я помню, что очутился на итальянской стороне Альп выше верхнего края леса. Одному Богу известно, где я побывал. Тут я остановился, потому что обнаружил, что земля движется. Собственно, это была не земля, а жидкая грязь. Дорога была покрыта гравием, по обе стороны зияли ужасные пропасти, а под колесами то и дело выступали крупные камни, от которых прокатной машине не делалось лучше. Вот я и сидел за рулем и смотрел, как из грязи торчат старые корни и обломки стволов либо веток и как все это ползет. Потом я увидел ползущим вниз огромный вал грязи; выглядело так, будто кожа лопается и заменяется новой, а торчащие палки и все прочее корчатся от боли или взывают о помощи, которой все не было, ништяк. Я не сообразил, что это сель, грязевая лавина. Он обогнул мою машину, но завалил дорогу так, что и танк не прошел бы. Пришлось выбраться наружу, ползти и карабкаться.
Я нашел итальянских рабочих, которые ремонтировали дорогу внизу, и когда я объяснил, что машина осталась там, наверху, они долго смеялись. Очень долго смеялись надо мной.
Тут пленка отматывается назад, в громадный мотель, и я постоянно вижу один и тот же сон. Наверное, я оставался там многие недели, ведь оно такое безличное. Это место то есть. Бетонное сооружение торчало из бетонной пустыни. Мне снилось, что я нахожусь в Марракеше, где сроду не был, и убегаю от Рика, который гонится за мной на катафалке. Единственный выход для меня – уйти в Сахару, где нет дорог. Остальную часть сна я проводил в песках. С каждым разом вводный сюжет сна укорачивался, ужимался, становился просто подразумеваемым, пока сон не стал начинаться сразу с пустыни. Она была повсюду, и оттого я испытывал неудовольствие. Похоже, я всегда был голым, потому что никакая одежда перед моим мысленным взором не предстает. Здесь было какое-то принуждение. Не обычное, неописуемое, невесть откуда берущееся, бесцельное принуждение, как в кошмарах. Нет, оно было логично, поскольку вытекало из неопровержимого факта. Знаете извивающиеся дощатые настилы на пляжах, позволяющие пройти к морю, не поджарив пятки на раскаленном песке? Так вот, здесь никаких настилов не было, был лишь песок – очень горячий, ох какой горячий, словно в печи. Над этой пустыней не было неба, а если и было, я его не замечал, потому что все мое внимание было поглощено песками. Видите логику принуждения? Господи, как мне приходилось двигаться, плясать, бегать, прыгать вверх-вниз! В воздухе, если им было то, что находилось над песком, я чувствовал себя лучше, поэтому максимум, что я мог сделать, – это постоянно задирать то одну, то другую ногу, ибо даже во сне я не осмеливался пренебречь законом тяготения. Однако, напрягая во сне весь свой мощный интеллект, я додумался до компромисса, который, имей я достаточно времени, мог бы даже стать решением проблемы. Я нагнулся и выкопал вокруг пылающей ноги ямку в песке. Мне казалось логичным, что в конечном счете я прокопаю дыру такую глубокую и черную, что окажусь на противоположном конце земного шара, но в любом случае это не будет раскаленный песок. Сделав достаточно ямок, я имел бы куда ставить ноги и не обжигаться; но на этом месте я просыпался. Иногда, роясь в песке, я замечал, что пишу на непонятном языке или рисую картинки, и тем самым я бы обеспечил место для обеих ног и проснулся бы. Но хуже всего мне приходилось, когда я глотал много пилюль, ибо тогда мне ничего не снилось, ради чего я это и проделывал, зато после пробуждения те же видения преследовали меня наяву, например, в баре или на шоссе, где, как бы я ни старался, я уже не мог выкопать руками ямку, а только привлек бы к себе излишнее внимание. Приходилось убегать. Но видения меня не оставляли.
Телепатия существует. Должна существовать, иначе не объяснишь, почему следующий отрывок относится к месту, где мы с Лиз проводили медовый месяц за год до свадьбы. После развода я избегал этого места. Я не сентиментален, и в любом случае что толку возвращаться к месту, где все это началось? Но почему-то я там очутился. Меня не сразу, но признали – система бронирования мест в общем и целом работает, – и по какому-то волшебству кто-то всунул золотую кредитную карточку в мой паспорт – единственное, что я имел при себе, кроме прокатной машины. Итак, я оказался в отеле, а затем прошел в роскошное заведение напротив и приказал переправлять поступавшие мешки корреспонденции туда. Я не хотел рисковать.
Забыл сказать, что этот клип относится к Риму – нет, не к церковному Риму, а к Риму гостиничному. Вы выходите на Пьяцца Как-там-ее с фонтаном, поднимаетесь по лестнице и наверху видите отель. Церковь там тоже есть, но витражи в ней паршивые, а отель гораздо, гораздо интереснее. Там очень тонко чувствующие люди. Они приняли мою прокатную машину и дали номер, какой я хотел – с балконом, потому что когда вас наедине с собой преследуют нежелательные мысли, всегда можно осматривать окрестности и возмущаться, как нынче модно, памятником Виктору-Эммануилу, хотя он гораздо лучше всей прочей пухлой римской архитектуры – как видите, я начисто лишен вкуса. В любом случае пустыня по-прежнему не давала мне наслаждаться видами. И вот произошла удивительная вещь, того же порядка, что с отцом Пио, – здесь сразу вспоминается Уилфрид Баркли, банковский клерк. Дело в том, что даже когда я был бодр и трезв, ступни у меня начинали болеть, и кисти рук тоже. Это заставляло меня во сне менять руки, которыми я писал или рисовал, но все равно болели обе. Поэтому я проводил много времени в ванной, наполнив ванну холодной водой и держа в ней ноги, а руки попеременно подставляя под холодную струю. До некоторой степени это помогало. Короче говоря, должен обратить ваше внимание на то, что Уилф вляпался в очередной фарс, к коим имел такую склонность, – у него появились стигматы, как у святого Франциска, только наоборот, потому что, будучи редкостной сволочью, по выражению моего лучшего друга, он получил их в наказание за грехи, а не как награду за благочестие.
Я тут пытаюсь шутить, чего не следовало бы делать, но можете мне поверить, ничего смешного здесь не было. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Помню один вечер… нет. Это уже отдельный клип.
Однажды вечером, когда боль была терпимой и я мог видеть небо, я сидел на балконе и пытался обдумать происходящее. Утром я обнаружил, что брожу по Риму, потому что хотел посмотреть в «Кто есть кто в Америке» сведения о Холидее. Наконец я снова очутился у подножия лестницы. Она кишела прогуливающими уроки школьниками, торговцами наркотиками, хиппи, проститутками, панками, гомиками, лесбиянками и студентами, как обычно, и все они держали гитары, отвратительно играли на них, пытались продавать вырезанные из жести и разбросанные повсюду сувениры в виде цепочек, колец на палец или в нос или сережек, лестница была усеяна искусственными цветами и так далее. Протолкаться через эту толпу стоило немалого труда, но никто ко мне не приставал и не пытался всучить разный мусор – видимо, я не производил впечатления платежеспособного. Но, присматриваясь к ним, я понял, какой у меня должен быть ужасный вид, поэтому я поднялся на свой балкон, обхватил голову руками и попытался думать. Я решил перечитать дневник, чтобы разобраться что к чему. Тут я, конечно, вспомнил, что дневника-то нет; передо мной предстал кадр (клип), как я сижу здесь, а в Швейцарии и Италии я вел записи в телефонных книгах, на обоях, на стеклах машин или на туалетной бумаге, а потом отправлялся дальше без всякой цели. А еще я вспомнил, как утром смотрел «Кто есть кто в Америке», – как же я сразу не понял зловещего предзнаменования? Ведь страница, на которой полагалось быть Холидею, оказалась пустой – голой, голой, голой, просто листом белой бумаги! Тут я вскочил на ноги, как бы они ни болели, и уставился на ту церковь с дерьмовыми витражами – Господи, он там и стоял, на крыше. Да, стоял, и я стремглав бросился в комнату, сел на кровать, весь пылающий, и принялся дрожать мелкой дрожью. Я понял, что спать нельзя – если я усну, он спустится с церковного шпиля и заберет меня. И конечно, снотворное и выпивка исключены – то и другое сделает меня беспомощным, и я не смогу сопротивляться, если он все же явится за мной. Это последнее соображение вообще спутало все на свете. Не знаю, сколько времени я так сидел и дрожал. Какая-то женщина зашла убрать постель, но я на ней сидел и она не была разобрана, поэтому горничная ушла; потом явился мужчина, но он был из отеля, а не с церковного шпиля, поэтому я не испугался и игнорировал его. На войне у меня был нарыв, ужасное последствие раны, и он нарывал и нарывал, пока не настало время – примерно полчаса – когда биение сердца так сильно прижимало гной к коже, что я от боли потерял сознание. Помню, я не мог поверить, что боль способна еще усилиться, но так было. Но напряжение нарастало, оно давило и давило. Думаю, я все же уснул или впал в состояние, которое нельзя назвать бодрствованием, или же просто сошел с ума.
Можете назвать это бредом.
Я стоял на крыше церкви, там, где раньше был Холидей. И смотрел на лестницу внизу. Все было залито солнцем – не тяжелым римским светом, а всепроникающим сиянием. Раньше я этого не замечал, но сейчас, глядя сверху, обнаружил, что лестница повторяет симметричный изгиб музыкального инструмента – гитары, скрипки, виолончели. Но эту гармоничную форму украшали и разбивали люди, цветы и сияние бриллиантов, разбросанных повсюду на ступеньках. Все люди были молоды и похожи на цветы. Оказалось, он все-таки стоит рядом со мной на крыше; мы вместе спустились и оказались среди молодежи, и бриллиантов, и охапок цветов, изливавших потоки света. Затем началась музыка. Они протягивали руки и двигались, и это движение было музыкой. Они не были ни мужчинами, ни женщинами, а тем и другим сразу, и это не имело ни малейшего значения. Важна была сама музыка. Мужское и женское начало для меня не имеет значения, сказал он, беря меня за руку и отводя в сторону. Узкие ступени вели вниз, к круглой двери. Мы вошли. За ней оказалось, по-моему, темное, недвижное море, поскольку я мог говорить только метафорами. Пение я не могу описать словами.
Проснувшись, я не пел, а плакал; правильнее будет сказать – рыдал, и очень долго. Верите или нет, после пробуждения я был пьянее, чем когда уснул, а слезы текли так обильно, что я осмотрел кровать, решив, что описался, но этого не было. Подушка была вся в слезах, точно так, как пишут в женских романах. Как бы там ни было, нарыв прорвал, боль и напряжение исчезли, потому что я теперь знал, куда мне нужно, вернее, знал направление, к которому следует стать лицом и больше не бежать. Я мог спокойно идти, и последний отрезок путешествия сложится сам собой. В дверь постучала женщина, принесла кофе с круассанами и бутылку вина. Когда она вошла, я смеялся, что удивило ее, но я не мог объяснить, чему смеюсь. Она бы все равно не поверила. Но невыносимая боль в руках и ногах действительно исчезла. То есть они еще болели, но, словно после мази, боль утихала. Не думаю, что существует научное объяснение, хотя, если вы ученый, может, вы и сумеете что-то придумать, но я не занимаюсь абстракциями вроде религии или науки, я описываю жизнь, как она есть, как говорят немцы, Istigkeit – естие, если можно так сказать. Описываю, что такое быть человеком, хотя, цитирую, простой человек, а с хитринкой, конец цитаты. Кроме того, боль в руках и ногах была какой-то странной, будто я ушиб целых четыре локтя.
Этот день я провел в халате и пижаме, затребовав то и другое, когда обнаружил, что в моем багаже ничего нет. Следующие несколько дней в отеле ушли на портных и им подобных. Я также начал разбирать мешки с почтой, и первое письмо, которое я вскрыл, оказалось от Лиз. Излагаю его содержание. Смысл сводился к тому, что Валет Бауэрс смылся. У меня вся злость давно прошла, думаю, и у тебя тоже. Почему бы тебе не вернуться? Прочтя это, я немедленно отправил телеграмму «да, но несколько дней буду приводить себя в порядок». Я сидел на краю ванны, ноги в воде, руки под краном, а портной сидел на унитазе, и мы беседовали о жизни и сопутствующих предметах. Прошло еще немало дней, пока я полностью примирился с жизнью. Не будешь ее принимать как есть – она тебя быстро свалит с ног. Вот я и проводил дни в беседах с портными, сапожниками, рубашечниками, шляпниками и ювелирами – людьми самых доброжелательных профессий. Я потребовал амбарную книгу для дневника, но когда попробовал заполнять ее той ясной прозой, какую читатели находят в моих книгах, в руке начиналась ужасная боль, и пришлось отказаться от этих попыток. Вот тогда все наконец начало сходиться. Я понял, что нетерпимость не одолела меня и что остается книга, которую я или кто-то другой должен написать – не дневник, а нечто более существенное.
Как все это время говорил гипнотизер, я идеально поддаюсь внушению. Я увидел, как внушение изменило мои книги, особенно «Хищных птиц» и «Лошадей весной». Я много плакал и устыдился, что эти книги не вполне приспособлены к юдоли слез. Я, конечно, еще пил, потому что считал мгновенное расставание с бутылкой чересчур опасным, но теперь более или менее строго придерживался нормы – бутылка в день, не больше.
Настало время, когда я начал подумывать о моем песике. Нехорошо будет сразу привести его в дом, пока я не выясню, как на это посмотрят Лиз и Эмми. Лучше встречусь с ним в самом роскошном из моих клубов – «Ахинеуме». Я подумал, что о Рике стоит поговорить с Лиз. Я уже представлял, как мы сидим по разные стороны кухонного стола, за которым у нас бывали такие прекрасные беседы и такие яростные ссоры.
Странное было это время в отеле! Я сидел на балконе, глядя на этот город цвета коровьего навоза, ровесник вечности, и пытаясь понять, почему мой бред был больше, чем бредом, и больше, чем явью. Потом обдумывал новую книгу, выстраивая сюжет из мешанины фактов. Учитывая, кому она предназначалась, я мечтал, как перестанут болеть мои несчастные ноги и руки, когда я закончу писать. Потом я возвращался в ванную с бутылкой на подносе. А там сидел на крышке унитаза сапожник со стаканом в руке и рассказывал удивительные истории о своих клиентах, а я откладывал эту информацию в ящички памяти, совершенно забывая, что она мне не потребуется. То и дело я возвращался в мыслях к собственному бреду. Я немного продвинулся и пытался объяснять его в категориях, скажем, научных, психиатрических, религиозных и в категориях естия (последнее от рубашечника), совершенно взаимоисключающих – так по крайней мере мне казалось. Больше всего я размышлял о естии. Почему такой упор на естие? – спросите вы. Вы что, приперты к стенке? – спросите вы. Разве – цитирую – реальности – конец цитаты – вам мало? Так вот, ответ лежит в глубинах языка. Вовсе не философское понятие реальности, а – цитирую – естие – конец цитаты – именно то слово из темных слоев лексики, которое обозначает недобровольное сознание. Я сам его придумал, потому что бред постиг не философа, а меня. Религия, наука, психиатрия, философия – все они охватываются этим словом!
Eh voila! Non, voici38.
Глава XIV
Наконец я полностью подготовился, но еще не садился в самолет. Дело не в недостатке подвижности. Я мог передвигаться, хотя и по-старчески. То есть действительно как старец, а не просто человек под семьдесят. Дело было в страхе. Я хотел – цитирую – «домой» – конец цитаты – ох, как я хотел домой! Но боялся Англии и весны. Боялся, что начну плакать, как девчонка, и что это войдет в привычку. Это было слабостью, и я решил напоследок избавиться от мешков с почтой, что заняло бы несколько дней. Но после ознакомления с парочкой первых попавшихся писем мне показалось, что это слишком много. Поэтому остальную почту сожгли в мусорной печи под моим наблюдением, и я почувствовал огромное облегчение. Кого бы я ни спросил из персонала отеля, считают ли они, что полный разрыв с выпивкой способен помочь мне, все отвечали, что да, поможет. Не знаю, что они имели в виду под помощью, видимо, просто полагали, что это будет хорошо. Но если уж на то пошло, все считают, что не пить хорошо, кроме тех, кто не может бросить и придумывает всякие объяснения для этого. В моем случае я как раз могу бросить, если сильно захочу, хотя бывают рецидивы через разные промежутки времени, срывы, так что великий замысел завязать раз и навсегда не осуществляется на сто процентов. Но замысел-то хорош, и я его придерживаюсь с переменным успехом уже больше четверти века.
Однако – на этот раз! Да, я совершенно не пил, и жизнь сделалась пресной. Я стал трезв и счастлив, а счастье оказалось спустя некоторое время такой скукой, но нельзя жаловаться, сидя на одном хлебе – надо есть его, рассчитывая, что потом и масло появится. У меня ведь столько времени! Оно тянулось до самой ночи, и день становился все длиннее и длиннее, потому что я часами не мог заснуть, а потом просыпался рано. Сны больше не снились.
Ничего не могу сказать о возвращении, кроме того, что, приземлившись в Хитроу, я побоялся сразу ехать домой и решил для начала посетить свои клубы. В «Атенеум» я зашел и тут же выскочил. Он мне чем-то напомнил ту церковь на острове, хотя, конечно, в клубе множество окон. Прямо оттуда я направился в «Ахинеум», где оказалось совсем неплохо. Ясное дело, первым, на кого я там натолкнулся, был Джонни. Он выглядел очень интеллигентно с нашлепкой на лысине. Он закричал:
– Уилф! Вот воистину свет в окошке!
– Ха и так далее. Господи, ты выглядишь миллионером.
– А ты как? Можно?
Он пощупал лацкан моего пиджака.
– О Боже. Можно в обморок упасть. Сколько?
– Не знаю. Пусти, Джонни. Барменша смотрит.
– Да, я выпью, Уилф. Да, знаю, по уставу мы не должны угощать друг друга. Два кампари, пожалуйста.
– Имбирное пиво с лимоном, пожалуйста.
– Уилф! С тобой все в порядке?
– Просто временное воздержание. Джонни, что стало с тобой? Неужели тот твой дядя помер?
– Уилф, ты в жизни не поверишь. Я фигура общенационального значения!
– Ври побольше.
– Да, да, да! По морде получишь!
– Что же на сей раз?
– Ладно. Помнишь моего приятеля, который работает на Тетушку?
– Которую?
– Ту, которая самая главная, Хамли!
– Ха.
– Ну ладно. Я думал, мы расстались навсегда, но он, видимо, объездил полмира…
– Та же школа.
– Может, это помогло. Как я уже говорил, меня пробовали на том, на сем, в основном не шибко проходном, а потом мне просто повезло – я попал в викторину! Угодил в десятку, дорогуша! Как только британский народ почувствовал ностальгию по нам, добрым старым джентльменам, я тут как тут, в полной боевой – клянусь, я куда популярнее тебя, и никогда не поверишь, сколько мне предлагали за рекламу шерри в передаче! Но тут нужна особая ловкость.
– Как называется передача?
Впервые я видел, как Джонни запнулся. Он даже слегка покраснел, но не отвел взгляда и хихикнул:
– «Замочная скважина».
Я тоже засмеялся, и некоторое время мы не могли остановиться. Барменша задумчиво смотрела на нас, будто гадала, насколько сальным был анекдот. Наконец я оттолкнул его и вытер слезы.
– Неудивительно, что ты будто сошел с рекламы собачьего корма. Это ты-то, Джонни. Ты, который считал, что сказать «плохо» вместо «худо» – величайший из смертных грехов!
– Как говаривал Уилфрид Баркли, денежки – вещь хорошая, конец цитаты.
– Как «Пылающая Сапфо»?
– Полный провал.
– Не может быть!
Джонни склонился к моему уху.
– Обещай, что никому не скажешь.
– Конечно, не скажу.
– Эту сучку распродали дешевле себестоимости еще до выхода тиража. О, в нечестивой спешке столь проворны…
– Да, вот уж не повезло.
– Кстати, о собаках…
– При чем тут собаки?
– Собачий корм!
– Ах да.
– Ты себе нашел?
– Возьми меня с собой, Джонни.
– Да, так о чем мы говорили в последний раз, когда встречались в том абсолютно палеолитическом отеле?
– Напомни.
– Я говорил, что ты должен завести себе близкое существо, для начала собаку.
– Ага.
– Так ты нашел? Ты ведь явно изменился. Мне любопытно. Давай, Уилф!
– Ага.
– Не играй в тайны и не прячься за бородой!
– Гав-гав.
– Уилфрид Баркли гуляет с пуделем!
– Да. Нашел.
Джонни приблизился ко мне, исполненный любопытства. Новость же, и какая!
– Ну и?..
– Я ее убил.
Джонни отхлебнул кампари и задумался. Он выглянул в окно, за которым цветник светился нарциссами и чем-то фиолетовым – фиалками скорее всего, душистыми фиалками. Он патетически взглянул на меня:
– Это плохо. Это очень, очень, очень плохо.
Где-то кто-то ударил в гонг, призывая к обеду.
– Ладно, – сказал я, – пойду к своей миске. Гав-гав.
Джонни не ответил.
Я машинально уселся на место, которое вроде бы считалось моим. Оно пустовало – место под статуей Психеи, где я когда-то сидел со своим литагентом, потом с издателем, а один раз с Валетом Бауэрсом. Психея никуда не делась. Она у нас была единственным ценным objet39 – ранневикторианского периода, из белого мрамора на малахитовом постаменте, действительно неплохая вещь. Ей, конечно, положено смотреть на Амура и держать лампу так, чтобы видеть его лицо, но мне всегда казалось, что она уставилась в меню или карту вин и пытается сообразить, что к чему заказывать. Я подумал, что именно здесь следует встретиться с Риком. На сей раз Психея, похоже, нашептывала мне в ухо, что графинчик фирменного кларета мне не повредит, и мне пришлось выдержать борьбу с ней. Однако добродетель восторжествовала.
Брать машину напрокат настолько вошло в привычку, что я это сделал совершенно не думая. Затем я позвонил домой и попал на Эмми, которая отвечала точно так же, как в тот раз, когда я забыл ее день рождения. Нет, с Лиз говорить нельзя. Она лежит, и ее не нужно беспокоить.
Ладно, подумал я, нельзя ждать возвращения бывшего мужа и не испытывать при этом некоторой тревоги. А сам-то я на что только не пускался, чтобы оттянуть встречу с ней! Будь мужчиной, сынок!
Итак, я катил по новой трассе, совершенно не узнавая ландшафта. Насколько я мог видеть дальше бетонного покрытия, Англия не порождала ничего, кроме нарциссов, они были повсюду. Какой веселой и понятливой собакой я был, гав-гав, едва касаясь руля на отличной английской дороге. Ноги у меня больше не болели, и я думал, что так и должно быть – я ведь еду домой!
Эмми встретила меня в дверях. С тех пор как я ее видел, она сделалась еще некрасивее и угрюмее. Я поцеловал ее в холодную щеку и заметил, что она плакала.
– Где она?
– В длинной комнате.
Она впустила меня с видом уверенности в никчемности и неудаче затеваемого дела.
Длинная комната когда-то была образована соединением двух соседних в одну. Лиз стояла в самом дальнем и темном углу, куда, видимо, забежала, услышав шум подъезжающей машины. Лицо она закрывала руками! Я подошел ближе, и она резко бросила:
– Нет!
Я опешил.
– Я только хотел показать тебе новый костюм. Сент-Джон Джон чуть не упал в обморок.
– Ты такой же, каким был. Незыблемый. Так нечестно.
– А что ты хотела получить назад, черт побери? Корзину для бумаг?
– Получить назад. Ладно. Смотри.
Она опустила руки и сделала шаг вперед. Та Лиз ушла. Не будь привычного резкого тона, я бы не узнал ее. Передо мной стояла исхудавшая старая карга. Некогда прекрасные волосы свисали безжизненными лохмами. Она столько хмурилась, что даже теперь, когда надобность в этом миновала, лоб ее был изборожден глубокими морщинами. Щеки так впали, будто она унесла с собой тени из темного угла. Но страшнее всего были глаза – потемневшие и запавшие настолько, что ее голова напоминала голый череп, зловеще разрисованный помадой. Она прикрыла рукой впадину правой щеки, будто закрываясь от самого худшего, и я заметил, что даже теперь лак для ногтей она подбирала в тон ярко-алой помаде.
– Ради Бога, Уилф, ты-то чего ожидал? Мэри-Лу, что ли?
– Он тогда клеился к тебе.
– Думаю, в том-то и ужас. Он настолько принимал тебя всерьез. Мне пришлось смеяться.
– Да. Да. Надо полагать.
– Ты знал, ах да, ты не знал – он и Хэмф, они оба приставали к Эмми. Хэмф – потому что он такой, а Рик из-за тебя. Господи, ни за что не поверила бы, что в жизни возможно такое. Я попыталась выставить Хэмфа, а он ушел не дальше гостевой комнаты. Знал, что напал на золотую жилу. Комната свободна, если тебе нужно.
– Он действительно ушел?
– Смылся. Ты бы никогда не поверил. – Она показала на свое тело, сложив руки лодочкой. – Смылся, когда это вышло наружу. Бросил все, даже свое знаменитое ружье и охотничьи книги. Когда придет твой черед, Уилф, не проси врачей сказать правду. Они именно это делают.
– Я не знал.
– Ты совсем не постарел. Так же пил, волочился за бабами, жил на всю катушку…
– Только пил. И то…
– Брось. Конечно, начнешь снова. Дело в том, что мне кто-то нужен. Вот оно что, и я не могу больше держать Эмми на привязи. Ты знаешь? Ладно. Не знаешь.
– Не совсем.
– Тогда мне и пришла эта замечательная идея. Я вцепилась в Томаса и выдавила из него твой адрес до востребования. Я решила вернуть Уилфа домой, если это в принципе возможно. Он понятия не имеет, как заботиться о других, но чересчур слаб, чтобы сбежать. Это шантаж, если хочешь.
– С этого места мы можем двигаться только назад. Более или менее. Скорее менее.
– Именно так.
Мы замолчали. Слышно было только пение птиц в саду да тихое ржание в дальнем конце конюшни. Элизабет заговорила своим естественным, для посторонних, тоном, нормальным до абсурда:
– Почему бы тебе не сесть?
– Да. Конечно. Если можно.
И вот мы сидим, опустив ноги на теплый пол, по разные стороны пустого камина.
– Извини, Уилф, я не хотела, чтобы это было… Не знаю, что я хотела.
– Когда тебе станет лучше…
– Как ты говоришь, ха и так далее. Уилфрид Баркли, великий специалист.
– Должно же быть что-то…
– В гостевой комнате есть все, что тебе нужно. И ванная там. Я пользуюсь задней ванной, все мои вещи там. Миссис Уилсон будет готовить. Или можешь обедать где-нибудь. Во всех пабах теперь кормят прилично. Я готовить не могу.
– Надо тебя подкормить.
– Я не ем.
– Ты должна.
– Ты что, ничего не знаешь? Ничего не видел?
– Война…
– Господи, какая несправедливость… Ты пьянствовал, бегал по бабам, врал, хвастался, выставлял себя… я тащила тебя пьяного в кровать, укладывала, укрывала… и получила рак, будто это я пропила всю свою жизнь!
Тут нечего было сказать. В комнату вползли сумеречные тени. На меня смотрел расплывающийся бурый череп с черными глазницами.
– Ты всегда хорошо молчал, правда, Уилф?
– Просто ты не давала мне возможности раскрыть рот.
– Замечательно! Восстанавливает мою уверенность в том, что ты мерзавец. Ладно. Скоро некому будет тебя перебивать. Ты доволен?
Я ничего не говорил, ничего не делал. Как часто бывает, сказать правду было невозможно: я действительно был доволен – с того дня, когда прекратился бред. И этого ничто не могло изменить, даже несчастье Лиз. Сказать правду было стыдно, и слишком уж было поздно учиться сопереживать или искать другую собаку.
Молчание слишком затянулось. Я нарушил его:
– Я остаюсь, вот и все.
– Ты, наверно, ударился в религию. Навещать болящих. Не можешь не навестить, как же иначе? А то что скажут биографы? Умирающая женщина, которая родила тебе ребенка. Тебе надо покрутиться при этом, Уилф, и проникнуться. Кусок жизни. Писателю без этого не обойтись.
– Ладно.
– Роберт Фаркуарсон из «Биде ньюс» знает. И Рик Таккер тоже.
– Гав-гав.
– Именно это он произносил в последний свой приезд. Я решила, это какой-то модный прикол, но я в последнее время не очень au fait40, даже телевизор не смотрю.
Она потянулась за сигаретой в пачке на столике, закурила и тут же зашлась кашлем. Лиз выбросила сигарету в камин, но, перестав кашлять, сразу же схватила другую.
– Ты по-прежнему не куришь, Уилф? Вот мужчины! Даже Хэмф боялся этой, этой…
– Болезни. Хворости.
– …этого рака.
– Послушай, Лиззи, я попробую объяснить. Все это свалилось мне как снег на голову. Но я хочу помочь. Я не привык помогать.
– Еще бы! Господи! Ты что, посвящен в Таинство? Тебя загипнотизировали? Так вернись в прежнее состояние.
– Ты копила все это. Валяй. Избавься от всей этой мерзости. Когда выговоришься, я попробую сказать…
– …и у тебя получится. Что в тебе хорошо, Уилфрид Баркли, так это то, что, когда ты открываешь рот, выходит нечто не шибко умное, не шибко глубокое, зато безупречное по стилю…





