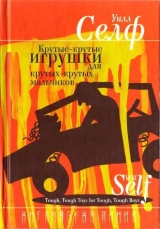
Текст книги "Европейская история"
Автор книги: Уилл Селф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Уилл Селф
Европейская история
– Wir-wir, – пропищал Хампи, запустив маленькие пальчики в спагетти с сыром, приготовленные Мириам. Вслед за этим он поднял ручки к лицу и задумчиво уставился на липкую червеобразную массу. И торжественно воскликнул: – Mr müssen expandieren!
– Да, солнышко, точь-в-точь червячки, – ответила малышу мать.
Хампи поджал губки и поднял на нее ярко-синие глазенки. Мириам постаралась выдержать его взгляд и изобразить на лице искреннюю любовь и нежность. С пальчиков малыша падали ошметки сыра, но его это нисколько не беспокоило. Немного помолчав, он воскликнул:
– Masse!
– Да, милый, гадкая масса, – отвечала Мириам, с досадой отмечая нотки раздражения в своем голосе. Она стала собирать нашлепки сыра с подносика, что стоял на высоком детском стульчике, обратно в тарелку, чтобы придать блюду более-менее аппетитный вид.
Теперь Хампи разглядывал другую забавную штуку – поильник с чаем. И снова крикнул:
– Masse!
– Опусти ручки, Хампи. Опусти ручки в тарелку! Мириам чувствовала, еще чуть-чуть, и она не выдержит.
Глазки малыша расширились, что обычно предшествовало бурным рыданиям. Однако он не заплакал: он швырнул спагетти на только что вымытый пол, после чего воскликнул:
– Massenfertigung!
Снова он нес невразумительную чепуху.
Мириам разрыдалась. А Хампи стал облизывать свои пальчики с совершенно довольным видом.
Через час, когда Дэниэл пришел с работы, молчаливая борьба между матерью и сыном шла полным ходом. Хампи старался превратить процесс укладывания в пытку, изо всех сил отбиваясь и изворачиваясь. Одежду с него приходилось не снимать, а стаскивать насильно – одну вещь за другой; пока Мириам несла его наверх, в ванную, он без устали сопротивлялся. А оказавшись-таки в ванне, начал так плескаться в воде, что Мириам мигом стала мокрой насквозь, до самого лифчика. В результате оба покинули ванную распаренные и полуголые.
Но Дэниэл ничего этого не замечал. Он видел лишь своего прекрасного синеглазого сыночка с ангельскими темными локонами, обрамляющими прелестное круглое личико. Опустив сумку на пол рядом с диваном в гостиной, он тут же подхватил Хампи на руки.
– Ну, как мы себя вели, пока папочка был в офисе…
– У тебя нет никакого офиса! – взорвалась Мириам, как и Хампи, завернутая в махровое полотенце – от безвыходности, а отнюдь не из стремления к комфорту.
– Дорогая, дорогая… Ну что с тобой? – Держа в объятьях смеющегося сынишку, запустившего пальчики в его шевелюру, Дэниэл направился к жене.
– Darlehen, hartes Darlehen, – забормотал мальчик, явно пытаясь копировать отца.
– Видел бы ты, какую свистопляску он мне сегодня устроил, не стал бы так сюсюкать с этим чертенком. – Мириам увернулась от поцелуя мужа. Она боялась, что, стоит ей размякнуть, она окончательно потеряет контроль над собой и снова разревется.
Дэниэл вздохнул.
– Просто у него такой возраст. Все дети проходят через трудную стадию в два – два с половиной года, и Хампи не исключение…
– Я не спорю. Но ведь не все дети такие агрессивные! Клянусь, Дэниэл, ты представления не имеешь, каково мне с ним. Я пытаюсь дарить ему всю любовь, на которую способна, – а он словно швыряет мне ее в лицо, да еще с этим дурацким курлыканьем! – И тут худенькие плечики Мириам затряслись от тщетно сдерживаемых рыданий.
Дэниэл привлек жену к себе, погладил по волосам. Казалось, даже Хампи разволновался, видя эту сцену.
– Mutter! – воскликнул он с тревогой. – Mutter! – и завозился на руках у отца, словно желая присоединиться к семейному объятью.
– Вот видишь, – сказал Дэниэл, – Хампи очень любит свою мамочку. Знаешь что, открой-ка бутылочку того славного «Шабли», а я пойду уложу нашего непоседу.
Мириам взяла себя в руки.
– Да, пожалуй, ты прав. Иди уложи его.
Она послала сынишке воздушный поцелуй. Дэниэл с Хампи пошли наверх. Последнее, что донеслось до Мириам, когда они миновали лестничную площадку, это очередная порция бессмысленного набора звуков: «Mutter – Mutter – Muttergesellschaft!» Или что-то в этом роде. Мириам так хотелось поверить, что таким образом малыш выражает к ней свою любовь. Очень хотелось, но не верилось.
Тем временем Дэниэл положил Хампи в кроватку, приговаривая:
– Ну-ка, кто тут очень-очень хочет спать?
Хампи быстро взглянул на него, глазки ясные-ясные, ни следа усталости. И с энтузиазмом воскликнул:
– Wende! – И снова: – Wende! Wende! Wende! – после чего, прижав коленки к груди, с силой вскинул ноги в воздух.
– Да, так и есть, – отвечал Дэниэл, укрывая одеялом неугомонного малыша. – Завтра утром к нам придет Венди, она будет присматривать за тобой, потому что мамочке завтра надо на работу, правильно?
Он наклонился, чтобы поцеловать сына, словно в первый раз умиляясь тому, какие сильные чувства пробуждает в нем это существо, плоть от плоти его.
– Спокойной ночи, сынок.
Дэниэл включил ночник, потом карусельку с прыгающими кроликами и погасил верхний свет. Спускаясь по лестнице, он слышал, как Хампи продолжает весело приговаривать: «Wende-Wende!»
Однако тем вечером в выскобленной до блеска овальной столовой соснового дерева супругов Грин настроение царило довольно мрачное. Мириам Грин успокоилась, но глаза у нее были на мокром месте.
– Наверное, я слишком стара для этого, – вздохнула она, неловко бухнув дымящуюся кастрюлю на стол, так что немного соуса с луком и фасолью выплеснулось на стол. – Только подумать, Дэниэл, я сегодня чуть его не ударила!
– Ты не должна казнить себя, Мириам. Конечно, с малышами непросто – и матери, как правило, приходится тяжелее всех. Знаешь, как только этот проект закончится, у меня станет посвободнее со временем…
– Дэниэл, господи, дело совсем не в этом.
И действительно, Мириам не в чем было упрекнуть мужа. Он уделял ребенку намного больше внимания, чем многие другие отцы, особенно для предпринимателя, который пытается заниматься ландшафтно-дизайнерским бизнесом сейчас, в период экономического спада. Да и самой Мириам не пришлось бросать работу, в отличие от большинства молодых мамаш, которые после рождения ребенка из-за изменения социального статуса сначала ощущают себя в изоляции, а вскоре вообще впадают в депрессию. Она же после рождения Хамфри настояла на продолжении своей журналистской карьеры, хотя и с изменением графика работы – теперь она два с половиной дня проводила дома. Венди, их няня, занимавшаяся малышом в остальные дни, была просто находкой: образованная и сноровистая, она прямо-таки обожала Хампи – и он отвечал ей взаимностью.
Нет, когда Мириам сетовала на то, что «слишком стара», Дэниэл прекрасно понимал, что за этим стоит. Тревога сопровождала ее на протяжении всей беременности. Первый триместр прошел под знаком токсикоза, второй сопровождался повышенной сексуальностью, в третьем же на нее словно снизошла благодать. Но в целом на протяжении всей беременности Мириам не оставляло беспокойство. Она с возмущением отвергла амниоцентез,[1] предложенный ее врачом, хотя понимала, что женщина в 41 год вряд ли может считать генетику своей союзницей.
«Я не намерена испытывать судьбу», – объяснила она Дэниэлу; он же считал побудительной причиной, впрочем, держа эту мысль при себе, такого решения убеждение Мириам, что она и так уже слишком долго искушала судьбу и что ее согласие, в метафизическом смысле, стало бы последней каплей. Дэниэл с пониманием относился к переживаниям жены, и хотя вскользь они касались этой темы, но никто из них не решился высказать вслух ужасное предположение, что с ребенком, которого носит Мириам, возможно, не все в порядке.
Однако сами роды стали для супругов огромной радостью – и откровением. Первые пять часов схваток они оставались дома, помня рассказы знакомых о том, что сразу же мчаться в роддом не имеет никакого смысла. В итоге по приезде в больницу шейка матки у Мириам была раскрыта на восемь сантиметров. Слишком поздно для эпидуральной анестезии и даже для обезболивающего. Хамфри родился ровно через пятьдесят одну минуту, в течение которых бедная Мириам тужилась и ревела белугой, сидя на корточках на подстилке, напоминающей, по мнению Дэниэла, мат из школьного спортзала.
Он смотрел на взмокшее бесформенное тело жены, на ее измученное, перекошенное от боли лицо… А в следующий миг ему всучили вопящее лилово-красное существо. Хамфри был идеальным младенцем. Он набрал десять из десяти баллов по шкале апгар. В чертах его лица не было ничего азиатского – типичное личико младенца белой расы. Дэниэл крепко держал сына и бормотал путаные молитвы в честь некоего божества, которое так чудно все устроило.
Уютный дом викторианской эпохи, где обитали Грины, был заранее и под завязку набит приспособлеииями, которых хватило бы для воспитания по меньшей мере шести младенцев. На стене в комнате будущего наследника знакомый художник нарисовал целые джунгли, населенные самыми разнообразными живыми организмами. Кроватку они купили в «Хилз», коляску – в «Силвер Кросс».[2] У них было как минимум три стерилизатора для бутылочек от «Милтон».[3]
Дэниэлу казалось, что в последние недели беременности Мириам стала особенно нервной, и, когда они с Хампи вернулись домой, он старался разглядеть в ее поведении признаки послеродовой депрессии – но таковых не было. Малыш рос не по дням, а по часам, прибавляя в весе словно боксер-невеличка, готовящийся к поединку не на жизнь, а на смерть. Порой родители, как им казалось, уж слишком над ним тряслись, но в целом оба были довольны, что так долго откладывали рождение ребенка, полагая, что их опыт и зрелый возраст – гарантия спокойного нрава малыша. Он почти не плакал, разве что во время колик. И первые два зуба у него прорезались без осложнений. В общем, как восклицал Дэниэл, подкидывая гогочущего Хампи в воздух, это был «настоящий мужичок».
Родители с восторгом наблюдали каждую стадию развития сына. Дэниэл отщелкивал пленку за пленкой немного размытых снимков синеглазого ангелочка, которые Мириам наклеивала в красивый альбом, обводя каждый узорчатой рамкой. Вот Хампи впервые пополз назад, вот – вперед, вот первые неуверенные шаги, первое самостоятельное «по-большому» – все было зафиксировано. Но вдруг, когда Хампи исполнилось два, что-то в его идеальном развитии пошло не так.
Хампи с самого начала очень выразительно агукал и смеялся. Младенцем всегда всем улыбался и еще охотнее «подавал голос». Но в том возрасте, когда, согласно кипам тематической литературы, проштудированной родителями, он вот-вот должен был начать формировать слова и, главное, правильно их выговаривать, малыш переменился. Он по-прежнему любил болтать, но ожидаемые «папа» и «мама» никак ему не давались; с каждым днем он все увереннее произносил бессмысленные гортанные звуки.
Друзья пары говорили, мол, ничего страшного. Они считали, что это обычная милая детская болтовня, но Мириам и Дэниэл не на шутку встревожились. Мириам поехала с сыном к семейному врачу, а по ее направлению – к специалисту. Может, у Хампи в нёбе какое-то скрытое несращение? Нет, речевой аппарат и гортань ребенка функционируют нормально, вынесла вердикт врач, подвергнув мальчика осторожному, но тщательному осмотру. По ее мнению, миссис Грин напрасно так волнуется. Дети развиваются очень по-разному; если она и может что-то предположить – а это не ее сфера, она ведь не детский психолог, – то скорее, что такое своеобразное восприятие Хампи родного языка свидетельствует о его необычайно высоком интеллектуальном развитии.
Однако отношения между матерью и сыном неуклонно ухудшались. Мириам жаловалась мужу, что чувствует, как сын отдаляется от нее. Ей становилось все труднее справляться со вспышками детского гнева. Она часто спрашивала Дэниэла: «Может, дело во мне? Может, я неправильно с ним обращаюсь?» И тому приходилось снова и снова убеждать ее, что это просто «такой возраст».
Порой, толкая коляску с Хампи по Квадранту[4] по пути к магазинам на Фортис-Грин-роуд, Мириам ненадолго задерживалась и окидывала взглядом широко раскинувшиеся жилые кварталы северного Лондона. Сейчас, когда она переживала охлаждение к собственному ребенку, родной город тоже стал казаться ей чужим и незнакомым. И вновь полузабытые страхи, связанные с ее возрастом и, возможно, вызванными этим странностями в развитии Хампи, закопошились в дальних уголках подсознания Мириам.
Профессор Мартин Цвайерих, заместитель директора Департамента по изучению венчурных капиталов в «Дойче банке», стоял у окна в своем кабинете на двадцатом этаже головного здания банка, глядя на изрезанную силуэтами высотных зданий Франкфурта линию горизонта. Со всех сторон высились, стремясь достать до неба, другие бетонные махины «Майнхэттена» – делового и финансового центра города. Кабинет профессора Цвайериха был угловым, что благодаря перспективе, открывавшейся с огромной высоты, давало ему возможность любоваться видом города в «вертикальной нарезке» из-за окружающих банк офисных зданий.
Слева профессор видел продолговатое здание университета, позади него – широко раскинувшийся пригород Бокенхайм; справа трапециевидная стальная махина «Сити-банка» рассекала на две части здание центрального вокзала, за которым начинался старинный квартал Заксенхаузен. Профессор знал, что где-то там протекал Майн, хотя он и не был виден с этой точки. А прямо перед глазами Цвайериха возносилось самое высокое офисное здание Европы – башня Выставочного центра, – почти полностью заслоняя центральную часть города, в том числе, к радости профессора, суперсовременный торговый центр Цайль, похожий на жертву бомбардировки. Как-то раз забавы ради профессор рассчитал, что, если прочертить воображаемую прямую от уровня пятнадцатого этажа здания банка, пустив ее вдоль правого крыла башни, то она достигнет земли через две тысячи пятьдесят семь метров точно в центре дома Гёте на Хиршграбштрассе, таким образом соединив невидимой нитью настоящее с прошлым, а возможно, и с будущим.
«Нам необходима экспансия!» – лозунг всепобеждающего коммерческого духа крутился в мозгу профессора, не давая покоя внутреннему уху. И с чего вдруг Кляйсту пришло в голову с таким пафосом заявлять подобную банальность! Да еще с утра пораньше. Профессор не таил зла на Кляйста из-за того, что тот обошел его по служебной лестнице. Все правильно, ведь ему было только пятьдесят пять, на шесть лет меньше, чему самому Мартину. И, хотя они служили в банке «Тройханд» равное количество лет, именно Кляйст стал локомотивом в деле расширения их деятельности, борьбы с чудовищной бюрократией, пронизавшей компанию, и поиска новых деловых интересов на Востоке.
Но переносить собрание совета директоров на 7.30 утра, чтобы в результате выступать с такими высокопарными трюизмами! Да что там – сегодня утром Кляйст имел дерзость назвать массовый маркетинг логической целью развития их департамента. «Привлечение первоначального капитала, даже в виде высокопроцентных займов, для, на первый взгляд, громоздких, избыточных проектов может сработать на массовом уровне. Нам необходимо донести информацию об услугах, предоставляемых нашим банком, до наиболее широкого сектора бизнес-сообщества. И если это означает массовый маркетинг, значит, так и будет».
Профессор Цвайерих глубоко вздохнул. Этот энергичный, среднего роста мужчина с серьезным выразительным лицом был одет, как и всегда, в безукоризненный классический костюм-тройку. Костюм был куплен его женой в английском магазине «Баррис», что на Гётештрассе. Профессору импонировал деловой стиль англичан, как и их консерватизм. Не будучи коренным франкфуртцем, иммигрант из Судетской области, возможно, он именно поэтому особенно остро ощущал бешеный ритм жизни своего теперь уже родного города. Профессор снова вздохнул, сдвинул очки на лоб, так что металлические дужки совсем потерялись в седой шевелюре; большим и указательным пальцами он помассировал веки.
Сегодня он ощущал какую-то особенную легкость, почти невесомость. Как правило, каждодневная работа профессора требовала крайней сосредоточенности, что обеспечивало ему более чем прочную связь с реальностью, не давая «оторваться от земли». Но в последние дни его железная воля дала слабину, словно подверглась коррозии. Он просто не мог надолго задержаться ни на одной мысли.
Может быть, он заболел? Их дочь, Астрид, звонила вчера из Штутгарта и сказала, что подхватила вирусную инфекцию. А ведь она провела у них выходные. Может, в этом все дело? Профессор не мог припомнить, чтобы когда-либо ощущал подобную апатию, да еще рано утром. А может быть, так сказывалось раздражение от идиотского выступления Кляйста. С каким бы удовольствием Цвайерих оказался сейчас на рынке Кляйнмарктхалле, выбирая сардельки или свиные ушки у Шрайбера; а то просто провел бы время дома, рядом с женой, подрезая розы на нижней террасе. Он мысленно представил свой дом, прекрасно вписавшийся в лесную местность, благодаря бревенчатым стенам и огромным окнам. Дом Цвайерихов находился всего в двадцати километрах от Франкфурта, а казалось – словно в другом мире.
Профессор нащупал в кармане брюк тяжеленькую связку ключей от автомобиля. Он слегка нажал кнопочку центральной блокировки «мерседеса», представляя, что вот сейчас машина очнется от спячки, мигнув задними фарами. Вот бы она сама завелась, на автопилоте сдала назад, заправилась, а потом выехала с подземной стоянки и припарковалась у выхода из банка, в ожидании, пока хозяин покинет здание, чтобы отвезти его домой…
– Ребячество, – пробормотал он вслух, – чистое ребячество.
– Простите, герр профессор, – раздался голос фрау Шеллинг, секретаря, профессор даже не заметил, как она вошла в кабинет. – Вы что-то сказали?
– Нет-нет, ничего, фрау Шеллинг. – Профессор Цвайерих взял себя в руки и отвернулся от окна. – Вы принесли документы по «Унтервайгу»?
– Да, герр профессор. Желаете просмотреть их сейчас? – Из-за обволакивающей мягкости швабского акцента профессору показалось, что он уловил в ее голосе нотки преувеличенной озабоченности.
– Нет-нет, не беспокойтесь. Надеюсь, там есть все данные о компании-учредителе…
– Простите, что перебиваю, герр профессор, но, как вы помните, у «Унтервайга» нет компании-учредителя. Они были окончательно инкорпорированы только в мае прошлого года.
– …прошлого года? Ах да, конечно, как я мог забыть. Фрау Шеллинг, мне немного нездоровится, вас не затруднит принести мне стакан воды? Прошу вас.
– Ну что вы, конечно, герр профессор.
Секретарь положила папки с документами на стол и почти выбежала из кабинета. «Надо собраться, в конце концов, какая недопустимая слабость в присутствии фрау Шеллинг!» Профессор опустился в тяжелое кожаное кресло, служившее ему вот уже пятнадцать лет, кресло, которое он перевез сюда, на новое место работы, из Мюнхена. Он устроился поудобнее, позволив себе утонуть в его мягких объятьях. Затем взял со стола псе папки, сбил их в аккуратную стопку, снова положил на стол, открыл верхнюю и начал читать:
«Унтервайг» – группа металлообрабатывающих заводов, специализирующихся в производстве базовых конструкций для оборудования детских площадок. Головной завод расположен в пригороде Потсдама, в северно-центральном районе которого находится офисное здание компании. Как и в большинстве подобных случаев, рассчитать сумму капитализации, а также капиталооборота представляется затруднительным. В мае 1992 года завод был успешно инкорпорирован, несмотря на снижение спроса на 78 процентов.
Слова расплывались перед глазами. Какого черта, подумал профессор Цвайерих. Сколько я читал подобных отчетов, сколько произвел расчетов инвестиционных возможностей, так что же необыкновенного может сулить именно этот проект? И вообще, почему мы ведем такую политику по отношению к восточным соседям? Профессор горько улыбнулся, вспомнив, что и сам находился в положении восточных немцев – да нет, еще хуже. И речи быть не могло о «торговле» с русскими по поводу пожиток, что они разрешили ему взять с собой.
Он, тринадцатилетний мальчик, уносил с собой лишь холщовую сумку, в которой лежало немного хлеба, пара носков и две книги. Одна – поэзия Гельдерлина, другая – учебник по высшей математике, с рассыпающимся переплетом, из которого выпала добрая половина страниц. Сейчас он довольно смутно помнил свой путь в ссылку. Это было слишком страшное и тяжкое, слишком мрачное и печальное воспоминание для человека его статуса. Мухи на языке мертвой женщины…
На самом ли деле поля Богемии были столь прекрасны? Во всяком случае, так ему запомнилось. Не такие бескрайние, как на Западе, манящие, окруженные со всех сторон вишнями в цвету. Конечно, так не могло быть, ведь вишни цветут всего недели две по весне, – и тем не менее этот образ навсегда остался в памяти: пышные белые соцветия, которые срывает ветер и превращает в пушистый ароматный снегопад. Нет, Цвайерих не в силах встречаться с Боклином и Шиле на Центральном вокзале; лучше перехватит где-нибудь стаканчик-другой, наконец расслабит осточертевший галстук… Рука профессора бессознательно потянулась к шее, трясущиеся пальцы затеребили узел галстука.
Возвращаясь со стаканом воды, фрау Шеллинг заметила отражение шефа в одной из стеклянных панелей перегородки. Да, он выглядит старше, намного старше своих лет. И вообще, в последние дни он как будто не может собраться. Профессор Цвайерих, образец благопристойности и работоспособности! Вдруг у него случился микроинсульт? Она слышала о таком – когда сам больной ничего не замечает, да и не может заметить: часть мозга, отвечающая за восприятие, переполняется кровью. Фрау Шеллинг не хотелось звонить жене профессора и понапрасну ее тревожить, но сидеть сложа руки еще хуже. Она молча вошла в кабинет шефа, поставила стакан у его локтя и бесшумно удалилась.
Мириам поставила поильничек у кроватки и на секунду задержалась, любуясь сыном. Конечно, банально сравнивать спящих детей с ангелочками, а в случае с Хампи это означало сильно погрешить против истины. Малыш казался ангелочком, когда бодрствовал. Во сне же он был словно дивное дитя из райского сада, словно божественное откровение. Мириам тяжко вздохнула, убрала выбившуюся прядь со лба в копну своих темных вьющихся волос. Она принесла Хампи полную чашку яблочного сока, чтобы он, проснувшись, не сразу стал ее звать. Он мог сам спокойно вылезти из кроватки, но она знала, что перво-наперво он захочет напиться соку.
Мириам тихонько вышла из детской. Ей бы еще буквально пять минут побыть наедине с собой. Надо взять себя в руки. За прошедшую ночь она совершенно измучилась. И все из-за Хампи. Нет, он не будил их с Дэниэлом – в этом смысле на Хампи нельзя было пожаловаться; но они с мужем всю ночь прикидывали, спорили и наконец решили, что все же пойдут завтра на консультацию к детскому психологу, которую организовала для них доктор Пеппард.
Дэниэл отправился на работу ни свет ни заря. На прощание, ткнувшись носом в затылок сонной Мириам, он сказал:
– Увидимся в клинике.
– Очень надеюсь, – пробурчала она в ответ.
Доктор Пеппард разделяла тревогу родителей по поводу консультации с психологом и их опасения, вдруг, несмотря на свой нежный возраст, Хампи почувствует, что оказался в каком-то страшном месте и зажмется, а может, даже впадет в панику, вдруг осознав, что он не такой, как другие дети. Но втайне куда больше доктор боялась, что супружеская пара начинает терять связь с реальностью. Доктору редко встречались такие жизнерадостные, славные детишки, как Хампи. Она очень рассчитывала на помощь Филиппа Уэстона – он виртуозно распознавал отклонения не только у маленьких детей, но и у взрослых. Если кто и мог помочь Гринам преодолеть их болезненную привязанность к сыну – а лично она, доктор Пеппард, считала ее началом крайней, маниакальной стадии, – то только Филипп Уэстон, и никто иной.
Мириам лежит ничком, лицом в подушку, одним ухом слушая радиопрограмму «Сегодня» – ведущий Джон Хамфриз как раз честил какого-то брюссельского функционера, – а другим улавливая все этапы пробуждения Хампи: сейчас он допьет сок и выдаст свой нечленораздельный призыв к мамочке.
Ждать пришлось недолго.
– Bemess-bemess-bemess! – заверещал малыш, раскачивая кроватку так, что она отчаянно заскрипела. – Bemessungsgrundlage! – наконец «выговорил» он.
– Сейчас, сейчас! – крикнула ему Мириам. – Иду, Хампи, заинька! – С этими словами Мириам еще глубже зарылась лицом в подушку. Но его лопотание все равно достигало ее ушей: «Bemess-bemess-bemessungs-grundlage!» Лучше уж быстрее подойти и угомонить его.
Примерно час спустя Мириам сидела перед туалетным столиком, устроенном в оконной нише их с Дэниэлом спальни; Хампи примостился у нее на коленях. Стояла поздняя весна, и этим чудесным утром их сад, где Дэниэл неустанно изощрялся в ландшафтном искусстве, представлял собой райские кущи в художественном беспорядке. Мириам вздохнула и притянула извивающегося сына к груди. Их жизнь могла быть такой радостной и безмятежной! А может, доктор права и они совершенно напрасно так волнуются по поводу Хампи?
– Хампи, как же я тебя люблю, любимый мой мальчик! – воскликнула Мириам и поцеловала прелестный локон у него на макушке.
Мальчик завозился в ее объятьях и потянулся к какой-то баночке на туалетном столике. Мириам взяла баночку и вложила в пухлую ладошку сына.
– Это тени «Коль», Хампи. «Коль». Ну-ка, повтори!
Хампи пристально посмотрел на удивительный сосуд. Мириам почувствовала, как сын вдруг напрягся всем телом.
– Коль, – произнес он, и тут же повторил уже с энтузиазмом: – Коль!
Мириам счастливо рассмеялась.
– Вот умница, мой Хампи!
Она поднялась со стула с Хампи на руках, ощущая его приятную тяжесть, и завальсировала с ним по комнате.
– Коль! – радостно кричал Хампи. Мать и сын кружились по комнате и хохотали. И кто знает, сколько бы это продолжалось, но неожиданно раздался звонок в дверь.
– Надо же! – Мириам остановилась. – Наверное, это почтальон. Давай-ка спустимся и посмотрим, что он принес.
Перемена в поведении Хампи была стремительной, даже пугающе стремительной.
– Поль! – взвизгнул он. – Поль-поль-поль! – Он резко выбросил ножки-ручки в стороны, угодив матери пяткой прямо в низ живота.
Бедная Мириам чуть не выронила шалуна. Редкий момент ничем не замутненного взаимопонимания остался позади, уступив место привычному раздражению.
– Хампи, ну хватит! – Мириам с трудом сдерживала разбушевавшегося мальчика. – Ну все, успокойся, – приговаривала она, но на самом деле думала, ох, меня бы кто-нибудь успокоил.
Филипп Уэстон бесшумно, на пятках, вошел в комнату ожидания Грутонской детской психологической клиники. Это был крупный, очень полный мужчина, носивший обыкновенно мешковатые вельветовые штаны, скрадывавшие чрезмерно жирные ляжки и обвисший зад. Как многие люди больших габаритов, он словно излучал спокойствие и безмятежность. Его круглое лицо украшали симпатичные ямочки, а ярко-рыжие волосы топорщились копной, дополняя образ мультяшного доктора. Профессор Уэстон был исключительно опытным специалистом и умел найти подход даже к детям с серьезными нарушениями в развитии.
Опытный глаз профессора сразу отметил совершенно мирную атмосферу в комнате. Семейство Грин спокойно ожидало его в залитой ярким солнечным светом помещении. Мириам листала журнал, рядом с ней Дэниэл занимался чисткой ногтей с помощью одного из лезвий своего складного ножа. У их ног устроился Хампи. За четверть часа, что семья провела в комнате, Хампи и Дэниэл успели соорудить из конструктора «Брио» разветвленную железнодорожную сеть, включая разводной мост и переезд. Уже самостоятельно мальчик составил поезд, вагонов из пятнадцати, и теперь весьма ловко катил его по рельсам, издавая соответствующие звуки вроде «ту-ту».
– Добрый день, я Филипп Уэстон, – поздоровался психолог. – Вы, должно быть, Мириам и Дэниэл, а это…
– Это Хампи, то есть Хамфри, – сказала Мириам, неловко вскочив и вмиг словно ощетинившись.
– Ну что вы. – Психолог жестом усадил ее обратно и сам опустился на колени рядом с мальчиком. – Привет, Хампи, как твои дела?
Малыш оторвался от своей транспортно-логистической забавы и вопросительно взглянул на дядю в странной рыжей шапке, его ярко-синие глаза бесстрашно выдержали водянистый взгляд Филиппа.
– Besser, – с расстановкой произнес малыш.
– Бессе? – озадаченно переспросил профессор.
– Besser, – повторил Хампи с торжественной солидностью. – Besserwessi! – и с таким видом, будто дал вполне ясное объяснение, вернулся к своему конструктору.
Филипп Уэстон медленно поднялся, разогнув свои мощные колени.
– Что ж, пройдемте ко мне, – обратился он к родителям мальчика и указал на дверь в кабинет. Ни Мириам, ни Дэниэл понятия не имели, чего ждать от этой консультации, но вскоре оба были очарованы доктором Филиппом Уэстоном. Его кабинет походил на яркую уютную детскую и служил как бы логическим продолжением комнаты ожидания. Пока Хампи изучал ее, доставая игрушки из пластиковых коробок и стаскивая книжки с полок, профессор беседовал с родителями. Его стиль общения казался столь непосредственным, неформальным, что никто и заподозрить не мог, что за разговором профессор изучает их поведение – однако именно это и происходило.
Мало-помалу Филипп вывел их на откровенность. Свободная, далекая от каких-либо оценок манера собеседника заставила родителей высказать вслух самые потаенные страхи. Может быть, Хампи аутист? Или у него мозговые нарушения? Возможно ли, что в его неспособности к постижению языка сыграл роль возраст Мириам? На все эти вопросы Филипп Уэстон отвечал искренним и безоговорочным «нет».
– Что касается аутизма, тут вы точно можете успокоиться, – говорил профессор. – Ваш Хампи вступает в позитивно-эмоциональный контакт с окружающим миром. Видите, он обращается с мягкой игрушкой как с живым персонажем. Дети-аутисты не способны на участие в ролевых играх.
Более того, профессор отверг и предположения о каком-либо отставании в развитии:
– Когда он рисует, то использует два и более карандашей и уже создает узнаваемые образы. Пожалуй, я могу утверждать с высоты своего скромного опыта, что это скорее говорит об опережении, нежели об отставании в развитии. Право, мистер и миссис Грин, если мы и можем говорить об отклонении, то скорее об одаренности, чем о неполноценности.
Уделив минут двадцать беседе с родителями и одновременно незаметно наблюдая за Хампи, который неутомимо исследовал игрушечные богатства кабинета, детский психолог теперь обратился непосредственно к малышу. Он взял со своего стола поднос с большими шариками и сказал:
– Хампи, посмотри-ка, что у меня есть.
Хампи, быстро переваливаясь, направился к нему с широкой улыбкой на личике. В модном фирменном комбинезончике круглощекий кудрявый симпатяга являл собой ходячую иллюстрацию счастья и здоровья.






