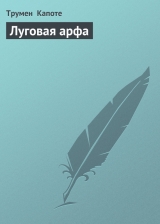
Текст книги "Луговая арфа"
Автор книги: Трумен Капоте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 3
– Мы должны хорошо знать нашу позицию – это основное правило. Следовательно, во-первых: что нас свело вместе здесь? Неприятности? Да. У мисс Долли и ее друзей неприятности, у нас с тобой, Райли, неприятности. Наше место здесь, на дереве, иначе мы бы не оказались здесь. – Долли успокоилась при уверенном спокойном голосе судьи, а тот тем временем продолжал: – Сегодня утром, когда я отправился в этот поход на стороне шерифа, я был уверен, что моя жизнь прошла не связанной ни с чем и ни с кем – абсолютно без следа. А сейчас, я полагаю, что все-таки мне повезло. Кстати, мисс Долли, помните те года, еще когда мы были детьми, я помню вас, чопорную и краснеющую всякий раз, когда вы проезжали в фургоне вашего отца, и вы тогда не слазили с него, чтобы мы, городская ребятня, не увидели, что на вас нет обуви.
– У них-то обувь была, у Долли и у Той Самой, а вот у кого не было обуви, так это у меня, – вмешалась Кэтрин.
– Все те годы, что я вас видел, я не знал вас, мы были чужие во всем, я не понимал вас, но сегодня я впервые увидел, кто вы, – вы – личность и в вас есть что-то языческое.
– Языческое? – переспросила Долли, встревоженная, но заинтригованная.
– Да, да – вы личность, личность, которую невозможно оценить просто на глаз. Личности воспринимают нашу действительность такой, какая она есть, со всеми ее недостатками, со всеми ее противоречиями, и они всегда навлекают на себя неприятности. Мне же никогда не следовало бы быть судьей, ибо, находясь на этом посту, я часто принимал не ту сторону, какую бы следовало, – закон не допускает никаких отклонений от стандартных рамок – помните старого Карпера, того самого, что ловил рыбу здесь, на этой реке, в плавучем доме-лодке? Его выгнали из города за то, что он хотел жениться на той малолетней черной красавице – кажется, теперь она работает у мистера Постума, – но тогда она любила его, надо было видеть, как она любила его, надо было видеть, как я видел, когда ловил рыбу: как они были счастливы вместе! Для него она была тем… тем… кем никто никогда не был для меня, например – для него она была единственным человеком на свете, от которого он ничего не мог скрыть. Но, черт возьми! Если бы он все-таки женился на ней, шериф должен был бы арестовать его, а я должен был бы судить его. Иногда я представляю в моем воображении, что все те, кого я когда-то признал виновными, приходят ко мне и признают меня виновным: вот поэтому-то, может быть отчасти, я хочу хотя бы перед смертью принять именно ту сторону, быть на правильной стороне.
– Вы теперь как раз на той правильной стороне, Та Самая и тот еврей…
– Тихо, – сказала Долли.
– Единственный человек на свете… – Райли был все еще под впечатлением от рассказа судьи про старого рыбака и его любовь. В его голосе сквозила просьба рассказать о той любви еще.
– Я имею в виду, что всегда нужен человек, которому ты можешь рассказать все без утайки. Мы ведь всю жизнь прятали самих себя… Но так и не упрятали – и вот мы сидим здесь, пятеро дураков, на дереве, хотя для нас это большое счастье, если только мы знаем, как воспользоваться им: это же здорово, нам больше не надо думать о том, что мы из себя представляем на людях, – мы свободны быть тем, кто мы есть на самом деле. Если б нам знать, что нас никто отсюда не погонит… эта неопределенность, что все еще сдерживает нас, заставляет нас скрывать себя… В прошлом я все-таки открывался для незнакомцев – людей, что вскоре исчезали, сходили на следующей станции, – все они, если собрать их вместе, составили бы в сумме того самого человека, но я нашел-таки его, того человека, здесь – это вы, Долли, ты, Райли, все вы… с дюжиной разных лиц… вы все так многогранны.
– Но у меня не дюжина лиц, – прервала судью Кэтрин. Долли это замечание ее подружки не понравилось: если не можешь нормально поддержать разговор, то, может быть, лучше отправиться спать?
– Но мистер Кул, – сказала Долли. – Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите нам, что нужно раскрыться, – нам что, нужно рассказать друг другу свои секреты?
– Секреты? Нет… нет… – сказал судья, зажигая свечу. В дрожащем отблеске свечи его лицо неожиданно показалось жалким и несчастным: мы должны помочь ему, как бы говорило, умоляло выражение его лица. – Поговорим о ночи, посмотрите – луны-то не видно… Знаете, о чем мы говорим, не имеет большого значения, но как мы о том говорим, вкладываем ли в наши слова всю нашу душу, принимаем ли мы сказанное со всей душой – вот что важно. Моя жена Ирен была замечательной женщиной, мы могли бы делиться друг с другом всем, что у нас в душе накопилось, но все же, увы, ничто нас не сближало – мы существовали как бы врозь. Она умирала у меня на руках, и перед ее смертью, наконец, я осмелился спросить ее – счастлива ли ты была со мной, Ирен, сделал ли я тебя счастливой? Она пробормотала: «Счастлива… счастлива… счастлива…» – Какая двусмысленность была в ее словах, и до сих пор я не могу сказать, говорила ли она «да» или это было последнее эхо от моих слов в ее устах… Если бы я знал ее лучше, может быть, я бы знал точно, что она имела в виду… Мои дети… Увы, я не вижу их уважения к себе: я хотел их уважения, хотя бы их уважения, как к отцу… Но, увы, такое ощущение, словно бы им известно что-то постыдное обо мне… и, по-моему, я знаю, что именно… Я скажу вам это. – Его глаза, сверкающие, как грани алмаза при отсвете свечи, пробежали по нам, как бы проверяя, сочувствуем ли мы ему, готовы ли на искренность. – Пять лет назад, может шесть, я сел в поезде на место, на котором до меня путешествовал какой-то ребенок, и этот ребенок оставил какой-то детский журнал. Я взял его от нечего делать и стал просматривать, и там, в конце журнала, я увидел адреса детей, которые хотели бы переписываться с другими детьми. Там был адрес одной девочки с Аляски, ее имя я помню как сейчас – Хитер Фолс. Вскоре я послал ей открытку, простенькую, и это было так приятно для меня. Она ответила мне сразу: это было письмо, что потрясло меня! Это было очень умное описание быта и жизни на Аляске – очаровательное описание овцеводческой фермы ее отца, описание северного сияния. Ей было всего тринадцать, и в конверт она вложила свою фотокарточку – не сказать, что красавица, но очень доброе и умное лицо. Я прошелся по всем своим старым альбомам и нашел-таки свою фотографию, на которой мне всего лишь пятнадцать лет, во время рыбалки, с форелью в руке. Фотография выглядела почти как новая, и я написал ей письмо в ответ, словно я это тот мальчик с рыбой в руке. Я описал ружье, что мне подарили на Рождество, о том, как ощенилась наша собака и какие имена мы дали щенкам, рассказал о странствующих циркачах, посетивших наш городок. Представьте, как волнующе и весело для старика моих лет вновь стать подростком и иметь подругу сердца на Аляске. Позже она написала мне, что влюбилась в одного парня из местных, и я почувствовал настоящий укол ревности – совсем, как молодой… Но мы остались друзьями, а два года спустя после начала нашей переписки я написал ей, что собираюсь поступать на юридический факультет университета, она прислала мне золотой самородок – по ее словам, он должен был принести мне удачу. – С этими словами судья пошарил в кармане и выудил оттуда нам на обозрение тот самый самородок – и мы как бы почувствовали присутствие этой девочки среди нас – Хитер Фолс, словно этот благородно сверкающий маленький слиток был частицей ее сердца.
– А что же здесь постыдного? – удивилась Долли. – Вы ведь лишь составили компанию одинокой девочке на Аляске. А там лишь снега.
Судья Кул сжал в кулак руку, и самородок исчез в его ладони.
– Да не то чтобы они упоминали мне об этом случае… просто как-то ночью я услышал, как мои сыновья и их жены обсуждали между собой, что со мной делать… Наверняка они отследили мои письма и прочли их – ящики в моем комоде не имеют замков, с чего бы в собственном доме запираться, – и они нашли письма… И что они подумали… – Судья слегка шлепнул себя по голове.
– Я тоже как-то раз получила письмо. Коллин, налей-ка мне попробовать, – сказала Кэтрин, указывая на бутыль с вином. – Да, именно письмо. Один раз. Оно у меня до сих пор сохранилось где-то, и я все до сих пор думаю, кто же мне его написал? Знаете, что было там: «Привет, Кэтрин, приезжай в Майами, и мы поженимся. С любовью, Билл».
– Кэтрин, мужчина предложил тебе брак, и ты мне никогда об этом не говорила?!
Кэтрин пожала плечами:
– Вот и судья говорит, что мы ничего друг другу не говорим. Кроме того, знавала я несколько таких по имени Билл – никто из них не стоил того, чтобы за них выходить замуж. Но что меня до сих пор волнует, так это – кто же из этих Биллов написал мне ту писульку? Просто интересно, поскольку это первое и последнее письмо в моей жизни. Это мог бы тот Билл, что покрыл мою крышу, но тогда я уже была старой. Тот Билл, что распахал мне сад – это было аж в 1913, хорошо управлялся с плугом. Был еще один Билл, что починил мне курятник, он потом устроился куда-то, вот он-то, наверное, и написал мне письмо. Или же другой Билл, а нет – то был Фред. Какое вино хорошее, Коллин.
– Наверное, и я глотну, – сказала Долли. – А то Кэтрин уж слишком меня…
– Хммм, – неодобрительно отозвалась Кэтрин.
– Если бы вы говорили помедленнее или жевали бы поменьше, – судья Кул полагал, что Кэтрин жует табак.
Тем временем Райли как-то отделился от беседы, он сидел, сгорбившись, всматриваясь в темноту, где пронзительно вскрикивала какая-то пташка.
– Вы немного не правы, судья, – сказал он.
– А в чем же, сынок?
На лице Райли прочитывалось беспокойство.
– Когда вы говорите о том единственном человеке и проблемах… У меня нет никаких проблем. У меня нет никаких неприятностей. Я ничто, и у меня ничто. Я все думаю, а что мне осталось? Охота, машина, дурака повалять? И меня страшит эта мысль: неужели это все, что мне отведено?! Еще: у меня нет чувств, кроме тех, что я питаю к своим сестрам, – но это не то совсем… Вот, к примеру: я водился с одной девушкой из Рок Сити почти год. Где-то неделю назад на нее что-то нашло, и она спросила, где твое сердце, Райли, еще она сказала, что если я ее не люблю, то она скоро помрет. Ну я и остановил машину прямо на железнодорожном полотне и сказал, ну что ж, давай посидим здесь, а полуночный экспресс подойдет минут через двадцать… Так мы и сидели, не отводя глаз друг от друга, и я не чувствовал ничего, кроме…
– Тщеславия? – подсказал судья.
Райли не стал отрицать:
– Может быть. Более того, если бы мои сестры были достаточно зрелы и способны заботиться о себе сами и захотели сотворить подобное, я бы спокойно дожидался этого экспресса вместе с ними на рельсах.
У меня от этих слов даже кольнуло в животе, ведь я-то хотел признаться ему в том, что он для меня являлся всем, кем я хотел быть сам.
– Вы вот уже сказали о том единственном человеке. А почему бы и мне не подумать о ней, как о том человеке? Я хотел бы принять ее за того человека, но суть в том, что нужно ли это мне – здесь, наверное, все зло во мне. Может быть, если бы я был другим, если бы я мог думать еще о ком-то, быть привязанным к кому-нибудь так, как вы говорите, судья, я бы что-нибудь бы и предпринял: знаете, я бы купил тот кусок земли на Парсон Плэйс и застроил бы его с выгодой – но не сейчас! Может, мне надо просто остепениться, кто знает…
Ветер тихо теребил листочки и, играя с ночными облаками, расчистил от них небо, и звездный свет хлынул в образовавшиеся бреши: и наша свеча, словно испугавшись неожиданного светового напора, ниспосланного ночным небом, упала на землю и мы увидели, там, над нами, уже по-зимнему бледную тускловатую луну, похожую на снежный ломоть, и вся живность неподалеку и вдали от нас оживилась при ее появлении – где-то затрещали лягушки, где-то громко вздохнула рысь. Кэтрин развернула стеганое одеяло, настаивая на том, чтобы Долли завернулась в него, а сама прижалась ко мне, тесно обхватив меня обеими руками, и принялась почесывать мои волосы, пока я, умиротворенный движениями ее пальцев, не затих сладостно в ее объятиях.
– Тебе холодно? – спросила она, и я притиснулся еще ближе к ней – ее тело было мягким, уютным и теплым, как старая наша кухня.
– Сынок, я бы сказал, что ты, во-первых, не с того начал, – проговорил тем временем судья Кул, поднимая ворот своего пиджака. – Как мог бы ты быть привязанным к той девушке, если ты не можешь испытывать хоть какие-то чувства даже к листочку на этом дереве?
Райли, с охотничьим интересом вслушиваясь в тихий рык рыси в глубине леса, сорвал листок с ближайшей ветви. Еще один листок, опадая, попал в руки судьи. И в его руках он как будто бы приобрел какой-то свой потаенный смысл. Мягко прижимая листочек к своей щеке, он проговорил:
– Мы говорим о любви. Лист, горсть семян – начните с них, и вы познаете, что значит любить. Сначала просто лист, просто дождь, затем должен появиться кто-нибудь, кто узнал бы от тебя ту тайну, что рассказал тебе тот лист… тот дождь… Это совсем не легкий процесс, познать это… может, потребуется вся жизнь – как у меня, и все равно у меня не получилось: я лишь знаю теперь правило этой премудрости – любовь – это цепочка из колечек симпатий и привязанностей, так же, как и природа, это цепочка из множества…
– Тогда я бы сказала, что я любила всю жизнь, – откликнулась Долли и поплотнее укуталась в одеяло. – Нет, я совсем другое имела в виду. – Она немного замялась, подыскивая нужное слово. – Я никогда не любила мужчину, можно сказать, что и возможности у меня такой не было… кроме папы. – При этих словах Долли смутилась, сделала паузу, словно полагая, что уже и так сказала слишком много, затем, собравшись с духом, продолжила: – Но я любила другие вещи. Розовый цвет, например, когда я была еще ребенком, у меня был всего один цветной карандаш, и он был розовым, и рисовала розовые деревья, розовых котов, тридцать четыре года я жила в розовой комнате. А еще у меня есть сундук, где-то там, на чердаке, сейчас, знаете, я должна попросить Верину, чтобы она мне его отдала, ведь там мои первые любимые вещи – сушеные пчелиные соты, старое гнездо шершня, другие разные вещи – высохший апельсин, яйцо сойки. Когда я их собирала, я была полна любви, любви к этим вещам, и все во мне пело, как поют птицы… Но лучше не показывать своих чувств на людях – ведь для кого-то это даже обременительно, это делает людей, не знаю, почему, несчастными… Верина укоряет меня за то, что я якобы прячусь по углам, но я боюсь, что я напугаю людей, если вдруг они увидят, как они мне интересны, что я в самом деле думаю о них. Помните жену Пола Джимсона? После того как он заболел и не мог больше разносить почту, она сама принялась выполнять его работу… Боже мой, маленькая бедняжка с огромным мешком за спиной… Как-то раз зимой, днем, а было очень холодно, она подошла к нашим дверям, и я видела, что у нее ужасный насморк и слезы от холода ручьем текут из ее глаз. Она вручила мне бумаги, а я сказала ей: подожди, постой, возьми мой носовой платок, вытри свои глаза, и все, что я хотела этим сказать, было лишь то, что мне ее жаль и что я люблю ее, – я взяла да и провела этим платком по ее лицу – и что вы думаете? – она вскрикнула и помчалась прочь от меня. И с тех пор она не заходит к нам, чтобы положить почту у дверей, – она просто швыряет ее через забор!
– Жена Пола Джимсона! Нашла, о чем так горевать! Дрянь она такая! – сказала Кэтрин, ополаскивая рот остатками вина.
– У меня вот есть чаша с золотыми рыбками, но только из-за того, что я люблю рыбок, я не могу любить весь белый свет. Любовь – это сплошная путаница. Ты можешь говорить все, что ты хочешь, но часто это лишь вредит людям, и все, что ты кому-то взял да и выдал, – лучше забыть. Людям следует все держать в себе. Все то, что у тебя там, в глубине твоей души, – это лучшая часть в человеке, а что же останется в человеке человеческого, если он выплескивает свои тайны наружу?! Судья сказал, что мы здесь, на дереве, из-за того, что у нас какие-то неприятности. Чепуха! Мы здесь по очень простой причине: одна из них – это дерево наше и другая – Та Самая и тот еврей хотели украсть то, что принадлежит нам; третья причина – все вы здесь потому, что хотите быть здесь: та самая, глубинная часть нашей души приказала нам быть здесь, но ко мне это не относится – я предпочитаю крышу над головой, Долли-дорогуша, поделись частью своего одеяла с судьей – уж очень сильно он дрожит, как будто мы здесь Хэллоуин празднуем.
Долли застенчиво приподняла край одеяла и кивнула судье воспользоваться им. Судья был человеком отнюдь не застенчивым и тут же юркнул в тепло одеяла. Райли остался в одиночестве, он сидел сгорбившись, как несчастная сирота.
– Ныряй сюда, твердолобый, можно подумать, тебе здесь не холодно, – приказала Кэтрин, предлагая ему примоститься возле ее правого горячего бока – слева уже разместился я.
Поначалу казалось, что ему не хотелось попасть под крыло Кэтрин: может быть, он учуял, что пахла она как-то не так, то ли просто посчитал, что не по-мужски все получится, но я подстегнул его – давай, Райли, лезь к нам, так даже теплее, чем под одеялом. И после некоторой паузы Райли все же присоединился к нам. На некоторое время среди нас воцарилась тишина, и я подумал, что все отошли ко сну. Но вдруг почувствовал, как напряглось тело Кэтрин.
– Меня осенило, я теперь знаю, кто мог бы написать такое письмо: Билл Никто! Это Та Самая написала, вот кто! Это так же точно, как мое имя Кэтрин Крик! Точно! Она наняла какого-то ниггера в Майами написать мне это письмо, чтобы я тут же отвалила туда и никогда не возвращалась! – Кэтрин торжествовала – загадка всей ее жизни была раскрыта.
Долли вяло откликнулась на догадку Кэтрин, сонным голосом она сказала:
– Тихо… молчим… спим… нам нечего бояться… с нами мужчины, что могут защитить нас…
Одна из веток отошла под ветром, давая ход лунному свету вовнутрь нашего убежища, и в слабом свете я увидел, как судья тихо взял ее руку в свою. Это было последнее, что я видел той ночью.
Глава 4
Первым проснулся Райли. Он тут же разбудил меня. На небе все еще догорали последние три звездочки, на листьях собралась роса, где-то уже порхали, радуясь новому солнцу, дрозды. Райли поманил меня за собой, и мы тихо скользнули с дерева. Храпящая во все легкие Кэтрин даже не шелохнулась, так и не услышав нас. Долли и судья, укрытые одним одеялом, напоминавшие в своем сне двух детей, потерянных в злом мрачном лесу из сказки, щека к щеке спали тоже слишком крепко, чтобы услышать нас.
Мы двинулись по направлению к реке, Райли шел впереди. Штанины его парусиновых брюк издавали свистящий звук при трении друг об друга. Райли постоянно останавливался и потягивался. Вскоре мы наткнулись на муравейник, по которому уже деловито сновали красные муравьи. Райли расстегнул ширинку и, смеясь, принялся мочиться на них: в душе я не считал, что это так уж весело, но тем не менее я тоже смеялся вместе с ним, чтобы поддержать компанию. Но затем Райли развернулся, его струя прошлась по моим туфлям. Для меня это был весьма оскорбительный жест. Я спросил его, почему он так поступает со мной, добавив при этом, что я воспринимаю это как знак неуважения. Но Райли сказал, что он просто таким образом пошутил, и в знак примирения обхватил меня своей рукой за плечи.
Именно в этот момент, я считаю, мы с Райли стали друзьями, наверное, в этот миг в его душе родились какие-то нормальные дружеские чувства ко мне, чувства, что поддерживали, подкрепляли мой собственный ребячий восторг перед ним. Затем мы проследовали через заросли шиповника, углубляясь в гущу леса, приближаясь к речке. Алые листья плавали в медленной зеленой воде, торчащая на поверхности водной глади верхушка полузатопленной коряги напоминала мне голову какого-то водного чудовища. Мы подошли к тому самому старому заброшенному плавучему дому. Старая посудина уже слегка накренилась. Внутреннее пространство дома приобрело какой-то таинственный вид. Вещи, что валялись вокруг, вполне подходили для соответствующей картины в журнале приключений: керосиновая лампа, пивные банки на столе, на койке покоились одеяло и подушки со следами губной помады. Сразу пришла мысль, что это сооружение служило кому-то потайным убежищем, а заметив усмешку на добродушном лице Райли, я сразу понял, чьим оно было.
– Что еще хорошо здесь, так это то, что можно и рыбку половить, – сказал Райли с улыбкой, глядя в мои понимающие глаза. – Только вот, говорить кому-нибудь об этом не нужно, – добавил он. Я поклялся ему, что не выдам его секрета.
Пока мы раздевались, меня охватило нечто вроде сна, мне привиделось, что этот плавучий дом плывет по реке и все мы, пятеро, на борту, наше белье на веревке развевается на ветру, как паруса, в камбузе в печи доходит ореховый торт-пирог, на окнах горшки с геранью – и так мы проплываем вниз по реке мимо постоянно меняющихся приречных пейзажей.
Восходящее солнце все еще хранило остатки лета, но вода, как мне показалось, после того как я нырнул в речку первый раз, уже растеряла то тепло, которое было еще недавно, на берег я вылез, покрытый гусиной кожей, трясясь от холода. Стоя на палубе, я с дрожью наблюдал, как Райли беззаботно бороздил воду от берега к берегу. Чуть поодаль, на мелководье, находился полузатопленный камышовый островок, и Райли решил обследовать его. Он махнул мне рукой, приглашая присоединиться к нему. Хотя и не очень-то и хотелось мне лезть обратно в холодную воду, я, решившись, поплыл к нему.
Там, на островке, вода была кристально чистой и размещалась в двух небольших, глубиной по колено прудках, и в одном из них невольно запертый в тесном и неглубоком водном пространстве, неподвижный в своей утренней полуспячке покоился черный, как уголь, сом. Вдвоем мы тихо склонились над ним и пальцами, крепкими, как зубья вилок, разом вцепились в него – рыба не собиралась сдаваться и стала вырываться из рук бешеными рывками. Острые как бритва плавники порезали мою ладонь, но и я не сдавался и держался до последнего – как впоследствии оказалось, это была моя первая и последняя рыба, которую я поймал. Долго еще люди не верили, что я смог поймать сома голыми руками, но я отсылал их за подтверждением к Райли…
Когда рыба, наконец, затихла, мы просунули бамбуковый прут сквозь ее жабры и поплыли обратно, к плавучему дому, держа рыбу над головами. По словам Райли, это был самый жирный сом из всех сомов, что он когда-либо видел, и мы решили доставить рыбу на наше дерево, и, припомнив слова судьи о его же кулинарных способностях по части приготовления рыбы, мы решили предоставить ему возможность подтвердить на деле свое мастерство.
Но, как оказалось впоследствии, этой рыбе никогда не суждено было попасть на сковороду…
Как раз в это время в районе нашего дома-дерева произошли серьезные изменения. Во время нашего отсутствия шериф Джуниус Кэндл, состряпав-таки ордер на наш арест, собрал своих подчиненных и вернулся к дереву, тогда как мы с Райли беззаботно слонялись по лесу, пиная поганки и швыряя камни в реку, не зная, что нас ждет.
Мы были еще на некотором отдалении от дерева, когда до нас донеслись звуки тревоги, они глуховато звенели в воздухе, как удары топора по дереву где-то вдали. Подходя ближе и ближе, мы смогли различить вскрики Кэтрин, похожие больше на сплошной рев. Мои ноги ослабли от нахлынувших чувств, так что я не поспевал за Райли – тот просто схватил палку и ринулся бегом к нашему дереву. Райли скрылся из вида, а без него я совсем потерял ориентацию в лесу – я рванул в одну сторону, затем в другую, куда-то свернул, затем помчался по прямой и выскочил как раз на оконечность луга. Здесь я увидел Кэтрин… Ее платье было разорвано спереди. Рэй Оливер, Джэк Милл и Большой Эдди Стовер, три закадычных дружка шерифа, три взрослых мужика, волокли ее по траве, пытаясь утихомирить тычками. Я захотел убить их… Наверняка схожее желание было и у Кэтрин, но, похоже, у нее не было шанса, хотя она и пыталась – она пыталась достать своих обидчиков, бодаясь головой, раскидывала по сторонам локти.
Большой Эдди Стовер наверняка был ублюдком еще с материнской утробы, двое других добились этого звания уже самостоятельно. Большой Эдди Стовер кинулся на меня, и я успел ловко запустить в него нашим пленным сомом. Кэтрин закричала:
– Не смейте трогать мальчонку, он сирота! – Затем, увидев, что этот дурень схватил меня сзади за пояс, она дала совет: – По яйцам его, Коллин, по яйцам!
Я последовал ее совету и лягнул Эдди изо всех сил. От боли лицо Эдди свернулось, как простокваша. Джек Милл (тот самый Джек Милл, что через год очутился запертым в холодильной камере цеха по приготовлению льда и там замерз насмерть) бросился ко мне и попытался схватить меня, но я увернулся и, помчавшись по полю, нырнул в заросли самой высокой травы. Вряд ли они стали меня искать, они были всецело заняты мятежной Кэтрин, не прекращавшей борьбу всю дорогу. Я наблюдал, как эти придурки тащили ее по полю, и на душе у меня была горечь, оттого что я ничем не мог помочь ей. Я наблюдал за ними, пока они окончательно не исчезли из вида за маленькой горкой перед кладбищем. Надо мной, каркая, пролетели две вороны – сначала в одну сторону, затем, вернувшись, в другую, словно предвещая что-то дурное. Крадучись, я двинулся в сторону леса и затем совсем рядом со мной услышал чьи-то шаги, рассекающие траву, – то был шериф, с ним рядом плелся мужчина по имени Уил Харрис. Высокий, как хороший дверной проем, с плечами, как у буйвола, Уил Харрис однажды схватился с бешеным псом, и тот перед смертью добрался-таки до глотки Харриса: шрамы на его горле получились ужасные, но звук, исходивший из покалеченного горла, был еще хуже – он звучал слабо и как-то по-детски, или, точнее, напоминал голос какого-нибудь злобного карлика. Я припал к траве, а они прошли так близко от меня, что я мог видеть шнурки на их ботинках. Харрис своим зловещим голосом несколько раз упомянул имя Морриса Ритца и Верины. Я не совсем точно разобрал все, что говорил Уил, но в коротком промежутке я понял, что Верина послала его, Харриса, за шерифом – что-то случилось у той парочки.
– Что еще эта женщина хочет, черт бы ее побрал, армию, что ли?! – были возмущенные и недоумевающие слова удаляющегося шерифа.
После того как они отошли на безопасное расстояние, так и не заметив меня, я вскочил и помчался к дереву. Подбежав ближе к дереву, я нырнул в заросли папоротника – кто-то из людей шерифа мог все еще околачиваться где-нибудь рядом. Но никого не было, лишь о чем-то своем пела одинокая птаха в темных кустах. И никого на дереве – пробивавшиеся сквозь листву слабые солнечные лучи освещали мрачную пустоту нашего бывшего убежища.
Одеревеневший от неожиданности, я вышел из укрытия и, совсем ослабев, прислонился к стволу дерева – и мое утреннее недавнее видение посетило меня вновь – наше белье развевается на ветру, цветущая герань, а дом плывет по реке дальше, к морю, в новый мир…
– Коллин?! Это ты там плачешь? – Мое имя прозвенело откуда-то с неба… Это была Долли, она обратилась ко мне откуда-то с небес, сверху, где я не мог ее видеть, пока я, не забравшись в самую гущу нашего дерева-дома, не увидел высоко над собой ее кукольную туфельку…
– Осторожнее, сынок, не то ты нас стряхнешь отсюда, – прозвучал голос судьи, он сидел рядом с Долли. Взглянув на них, у меня дух перехватило – Долли и судья сидели на самой-самой верхушке дерева – как чайки на корабельной мачте.
После Долли признавалась, что вид, открывшийся перед ней с той высоты, очаровал ее так, что она невольно пожалела, что раньше не поднималась так высоко на этом дереве. Судья, как он потом объяснил, вовремя увидел шерифа и его прихвостней, идущих к дереву, поэтому они и успели спрятаться так высоко.
– Подожди, мы уже спускаемся, – сказала Долли и, поддерживаемая судьей, начала спуск. Так она и спустилась при помощи судьи, совсем как придворная леди спустилась бы по ступенькам дворца.
Мы поцеловались, она не выпускала меня из своих объятий.
– Она пошла поискать тебя, Кэтрин, ведь мы не знали, куда ты пропал, и я боялась, я так боялась, я… – Я почувствовал, как она дрожит, – она дрожала, как маленький зверек, попавший в незнакомую обстановку, в непривычные условия, как кролик, только что вынутый из петли охотника. На судью тоже было жалко смотреть, он все отводил глаза, его руки дрожали, возможно, он все казнил себя за то, что не смог предотвратить случившегося с Кэтрин. Но что он еще мог сделать?! Если бы он кинулся к ней на помощь, он бы стал лишь еще одной добычей тех людей: а люди шерифа вовсе не дурачились, отправляясь в поход… Из всей нашей компании именно я должен был чувствовать себя не в своей тарелке – ведь именно меня отправилась искать Кэтрин. Если бы Кэтрин не пошла меня искать, она бы сидела сейчас с нами.
Я рассказал судье и Долли все, что произошло на лугу. Но Долли не желала слышать о том, что случилось. Резким движением она подняла вуаль.
– Я хотела бы верить, что Кэтрин сбежала: но я не могу. Если бы я могла, я бы пошла ее искать. Неужели Верина сделала все это?! Скажи, Коллин, не правда ли, ведь после всего, что случилось, наш мир не лучшее место? Прошлой ночью я думала иначе.
Судья пристально взглянул мне в глаза: мне кажется, он хотел подсказать мне взглядом, как ответить… Но я сам знал, как ответить. Неважно, какие страсти бушуют в наших внутренних мирах, все наши миры достаточно хороши: Долли стала такой, какая она есть, именно благодаря ей самой, благодаря ее внутреннему миру, который она при этом делила со мной и Кэтрин и который стал к тому же чрезвычайно чувствительным к флюидам безнравственности и нечистоты. Нет, Долли, наш мир не так уж плох.
– Кстати, а где Райли? – спросил судья, меняя тему разговора.
Райли помчался впереди меня – только я его и видел.
С тревогой в голосе, испугавшей одновременно и меня, и судью, мы стали выкрикивать его имя. Но наши крики, поплутав по лесу, лишь слабым эхом вернулись обратно, без ответа.
Я знал, что с ним случилось, – он, наверное, упал в старый индейский колодец, уже было много таких случаев, скажу я вам. Я уже собрался поделиться своей мыслью со всеми, как судья внезапно приставил палец к губам. У судьи наверняка уши были, как у собаки: я так и не услышал ничего сначала, но судья оказался прав – вскоре раздались звуки чьих-то шагов.
Это оказались Мод Риордан и старшая из сестер Райли, самая умная из них, – Элизабет. Эти девушки были очень близкими подругами и даже одевались так, чтобы гармонировать друг с другом. У Элизабет в руках был футляр от скрипки.







