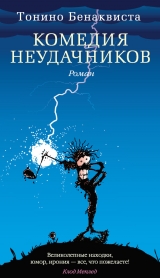
Текст книги "Комедия неудачников"
Автор книги: Тонино Бенаквиста
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3
На террасе напротив – конец вечеринки. Парочка кутил любуется на звезды и чему-то еще тихонько смеется. Официант гасит свет и опустошает последние стаканы. Четырьмя этажами ниже дружно гомонит компания развеселых гуляк, прежде чем рассесться по машинам. Все это напоминает банкет по случаю подведения годового баланса в какой-нибудь информационной конторе, с оптимистической речью главной шишки и дозволенными шуточками его подчиненных. С полотенцем, обмотанным вокруг шеи на манер шарфа, я обследую территорию поблизости от стула, на котором сидел десятью минутами раньше. Пуля, ободравшая мне затылок, торчит в стене под обоями. Я нашел и вторую – в деревянной стойке книжного стеллажа. Других пока не вижу, и это соответствует количеству звуков, которые я успел уловить. Выстрелов, как таковых, я не слышал. Линия прицела указывает на террасу. Даже не имея ни малейших баллистических понятий, я все-таки могу сообразить, что стреляли оттуда, от гуляк.
Я скатился по лестнице с мерзейшим ощущением, что моя рана вот-вот прорвется. Заметил пару ночных пташек, лихорадочно целующихся, прижавшись к капоту сестренкиной машины. Когда девица увидала мое лицо – одутловатое, залитое потом, обмотанное окровавленным полотенцем, – то здорово перепугалась. Долго упрашивать их убраться не пришлось. Проскочив несколько раз не на тот свет, я добрался до пятнадцатого округа и свернул на улицу Конвента, газуя как сумасшедший. Я старался не глотать, не кашлять и не шевелить головой, убежденный, что кровотечение не замедлит вновь открыться от малейшего толчка. Я разбудил одну свою знакомую медсестру, которая не стала задавать слишком много вопросов о происхождении раны. Видя мое состояние, она сначала заставила меня проглотить какую-то таблетку, не сказав, что это транксен. Потом сделала перевязку, побожившись, что накладывать швы не понадобится. Обратный путь я проделал, обуздав себя ремнем безопасности и не превышая сорок пять в час, поскольку до меня только теперь дошло, что я все еще живой. Я оставил машину напротив своего дома и поднялся по лестнице до «Салонов Ларош», не дожидаясь лифта. Трое последних официантов попытались было помешать мне пройти на террасу.
– Вам-то какое до этого дело? Ведь ваш дурацкий банкет уже кончился! К тому же вы все равно пускаете сюда кого попало! Достаточно увидеть снизу свет и подняться – никаких проблем. Спорю, кто угодно может это проделать. Помяните мое слово, в один прекрасный день вы пустите сюда убийцу!
Обалдев от таких слов, они прекратили попытки мне воспрепятствовать. С высоты террасы я смог увидеть и свой рабочий стол, все еще освещенный, и большую часть комнаты. Мне показалось даже, что я мог бы туда запросто допрыгнуть. А минуты через две я уже рухнул в свою постель, задернув поплотнее шторы.
Не стоит искать слишком далеко, просто этот виноградник проклят. Дарио и сам-то не слишком долго этому сопротивлялся, а я так чуть не отдал концы буквально через два часа после того, как получил его по завещанию. Видимо, всякий, кто становится владельцем этих чертовых арпанов, обречен на неминуемую гибель. В каком-то смысле это лишь усиливает мои сомнения по поводу пресловутой тяги к земле, овладевшей вдруг Дарио. Тут ставка будет повыше, чем думает мадам Рафаэль. Наверняка Дарио пронюхал, что этот клочок земли пахнет деньгами, иначе не стал бы делать из себя шлюхача в такой спешке. Что касается меня самого, то я тоже спешу, но только избавиться от этого подарка, и как можно скорее. Этот мерзавец Дарио не оставил мне выбора. Он-то знал, что там кроется какой-то подвох. Так что спасибо за подарочек. Я из-за него чуть не загнулся. Кто-то меня уже ищет. И этот кто-то может оказаться где угодно – например, на углу улицы. Может поджидать меня на выходе из дома. И что самое худшее, пока я не избавлюсь от этой головоломки, мне придется покинуть Париж.
*
Ворота Шуази. Миновав пояс окружных бульваров, я сразу почувствовал, что углубляюсь в царство печали и скуки. Честно говоря, я бы вообще предпочел закрыть глаза, лишь бы не видеть, как в нескончаемом движении разворачивается передо мной эта шестикилометровая лента, которая ведет прямиком к улице Ансельм-Ронденей.
Ты нагоняешь тоску, предместье. Само по себе ты ничто. Ты обращено лицом к Парижу, а задом к деревне. Ты не более чем компромисс. Ты словно придорожный бурьян. Но сильней всего я виню тебя за то, что ты воняешь работой. Одной только работой. Для тебя существует лишь утро, и ты объявляешь сумерки сразу же по выходе с заводов. Ты отыскиваешь путь, ориентируясь по своим трубам. Никогда не слыхал, чтобы кто-то пожалел о тебе. У тебя просто не было времени, чтобы придумать себе что-нибудь для мало-мальски пристойного существования. Ты не старуха, но у тебя нет ни на грош терпения, и тебе хочется всего сразу – побольше да потолще, – и у тебя всегда полным-полно места для всяких там «супер» и «макси». Единственное, что тобою управляет, это безумие твоих архитекторов. Это они дают мне средства к существованию со своими макетами, которые посвящают тебе. Мозаика преисподней. Они буквально упиваются тобой – это пир, вакханалия, оргия, изгнание глистов. Они обжираются пространством. Вот отличное местечко для футурологического поселка, рядом с зоной первоочередной застройки, неподалеку от пестренькой гимназии, между микрорайоном в стиле пятидесятых, который ждет не дождется экспроприации, и коммерческим центром, уже успевшим сменить свое название раз двадцать. А может, тут проложат по чьей-нибудь прихоти новое, совершенно дикое ответвление автострады, которое все подомнет под себя? И ты в своем праве окончательно наплевать на гармонию – ее в тебе никогда не было и никогда не будет. Так пусть же все эти авангардисты, вдохновленные каким-нибудь новым облицовочным материалом, дадут тебе хоть иллюзию нового рождения. Пусть себе стараются. Ведь ты и не умрешь никогда. Ты просто распространишься еще дальше, сожрешь походя еще район-другой. Но ты не подохнешь, нет. В этом-то и состоит твоя истинная реальность. Тебя невозможно обезобразить больше, ибо ты никогда и не имела образа.
Я застал свою мать за стряпней – она что-то тихонько напевала, готовя карбонару. Мы поели вдвоем, без телевизора, без томатного соуса, без вина и почти без слов. У моей матери большие способности к холостяцкой жизни. Мне даже доставило удовольствие видеть ее такой – отдалившейся от всего, с явным удовольствием смакующей свое одиночество. И ничуть не обеспокоенной тем, как я живу.
– Почему у тебя повязка на шее?
– Так, свело немного. Ревматические колики. Как будет «колики» по-итальянски?
– Torticollo. Твой отец прислал открытки. Вид на Перос-Гирек откуда-то сверху. Еще один, с водолечебницей на переднем плане. В общем, такие же, как и в прошлом году. Он почти ничего не пишет. Похоже, доволен.
Я быстренько свернул с этой темы, задав вопрос о том, как она теперь располагает своим временем, выпроводив супруга. Оказывается, навещает мамашу Тренгони. Сначала они обе долго молчат, потом мать пытается заставить ее подышать свежим воздухом, но ей это никогда не удается. Сыщики больше не объявлялись, кумушки из квартала тоже перестали судачить о смерти Дарио, и все, кажется, вновь вернулось на свои места.
– Добавь пармезану, Антонио. Сыр с карбонарой хорошо идет.
Она согласна на что угодно, только бы не готовить томатный соус. С тех пор как отец уехал, она пользуется своей свободой, чтобы отдохнуть от всего приевшегося, набившего оскомину. Как сегодня. Свежие сливки, яйца, пармезан, ломтики сала, и все это перемешано со спагетти. Быстро, вкусно, питательно.
– А ты знаешь, почему это называется «карбонара»?
– Потому что в последний момент всегда надо добавлять черный перец. Получается черное на белом, вроде как угольной пылью присыпано. А шкварки будто угольки.
Она улыбается. Думаю, это ее заблуждение, но не хочу переубеждать. На самом-то деле это из-за карбонариев, которые устраивали свои тайные сборища в лесах. Они были хорошие конспираторы и изобрели это блюдо, чтобы не возиться подолгу со стряпней во время собраний. Но моя мать не имеет ни малейшего представления ни о тайне, ни о конспирации.
Бросив взгляд на часы, она вдруг заявляет, что сейчас зазвонит телефон. Что и не замедляет случиться. Она снимает трубку без малейшей спешки. Старик на том конце провода даже не сомневается, что я стою рядом и держу наушник. Похоже, он там вновь обрел свое утраченное было добродушие. И в самом деле, после сорока лет брака он, как и моя мать, снова испытывает удовольствие от сольного существования и от встреч с приятелями. Я спросил у него как бы между прочим, знакомо ли ему вино Сант'Анджело.
– А в чем дело? Ты его не пил случайно? Вот, стоит только уехать, сразу начинаешь делать глупости…
Он хохочет. Я его не поддерживаю. Вяло пробую отшутиться и кладу трубку.
*
В течение последующих четырех-пяти дней я блуждал по кварталу в поисках хоть чего-нибудь – воспоминаний, впечатлений, фактов. Я обошел всех старых приятелей, выходцев из Соры и Сант'Анджело, подолгу точил лясы с их родителями, а иногда даже с их дедами и бабками. Некоторые упоминали о винограднике и рассказывали легенду о Сант'Анджело, которая передается из поколения в поколение. Сора – это захолустное местечко, имеющее всего три достопримечательности. Первая: особая местная обувь, которая кроится из старых покрышек для грузовиков и шнуруется наподобие старинных сандалий. Вторая: явление в конце восемнадцатого века некоего святого, ставшего потом покровителем виноградника. И третья: начиная с сорок пятого года почти поголовная иммиграция всех здоровых мужчин, вернувшихся с войны. Среди них был и мой отец, как, впрочем, и почти все остальные, обосновавшиеся в Витри. У семейства Гуччо я справился об их американском родиче Джузеппе Парини, о том самом, который до недавнего времени владел одним гектаром виноградника. Собственно, говорить о нем было нечего, кроме того, что он совершенно забыл Европу и ему совершенно начхать на все, что тут творится. У него там два-три своих завода и целая сеть закусочных, так что с итальянцами из Италии у него осталось мало общего. Это все и объясняет. Я предпочел не настаивать. Мамаша Тренгони даже впустила меня в комнату Дарио, где я, впрочем, так ничего и не нашел, кроме скверного фото мадам Рафаэль, удачно запрятанного в конверт от пластинки-сорокапятки.
Я повидался с Освальдо, который укладывал первые кирпичи своего дворца, своего монумента, своего Ксанаду. Он вкладывает в эту работу всю свою душу. И вкалывает совершенно один, без какой-либо помощи, кроме разве взгляда своего сынишки, которому сейчас едва ли три года от роду, но который уже ждет не дождется la casa. [10]10
Дом (итал.).
[Закрыть] Надеюсь все же, что Освальдо как-нибудь сумеет выгородить там клетушку и для самого себя, где-нибудь между кухней, гостиной и детской. Потому что итальянские папаши, несмотря на все свои грозные голоса, постоянно разрываются между культом матери и культом детей и частенько при этом забывают самих себя. Единственное, что я мог – это пожелал ему мужаться.
Я заночевал в отчем доме и был изрядно смущен, вновь обнаружив свою старую постель, старую спальню, старую настольную лампу и старый телик, который мне никогда не запрещали смотреть. Одно точно: тот, кто покушался на меня прошлой ночью, здесь до меня не доберется. Можно подумать, что даже убийцы обходят предместье стороной. Начинаю понимать, что хотел сказать Дарио своим «моя улица длинна». Без сомнения, он имел в виду итальянскую диаспору, которая рассеялась повсюду, где только можно устроить себе крышу над головой, не пропустив ни одного закоулка вселенной. На одной только улице Ансельм-Ронденей я установил прямые связи с тремя континентами. Достаточно было потолковать с одним парнем, у которого есть брат, а у того – лучший друг, который неплохо обосновался, и ты тоже можешь бросить там якорь, если у тебя возникнет однажды такое желание. Дарио это знал, и он тоже мог бы выращивать бычков на ранчо в Австралии, или красить заборы в Буэнос-Айресе, или торговать сыром в Лондоне, или работать на шахте в Лотарингии, или основать свое маленькое дело в Чикаго – что-нибудь вроде срочной чистки-уборки. В ожидании лучшего он предпочел заделаться шлюхачом в Париже.
Лучшего. Какого такого лучшего? Отныне именно мне надлежит найти ответ на это.
Мое решение принято уже давно. Мне просто необходимо догадаться, что же все-таки знал Дарио о том клочке земли. Именно эту дань я обязан заплатить, если хочу когда-нибудь почувствовать себя свободным. Если хочу понять, что такое до сих пор скрывает мой отец. Мне предстоит уладить дела с родной землей. Макеты вполне могут подождать еще месяц. Сбежать из Парижа меня уже вынудили. Завтра сбегу из Франции.
Но я узнаю.
*
Прежде чем попрощаться, я спросил у матери, доставит ли ей удовольствие, если я вернусь в Сору.
– Чтобы жить? – спрашивает она удивленно.
– Да.
Она надолго замолкает, растерявшись после столь неожиданного вопроса. Я даже побоялся, как бы она не разволновалась.
– А зачем? Мы же все теперь здесь… Никого из наших там не осталось… Ты сам – француз. Так зачем тебе снова начинать всю эту мороку – оформлять бумаги, переезжать, искать дом, работу, невесту, пытаться поладить с соседями и все такое. Оставайся уж лучше здесь. Сама-то я туда даже погостить не поехала бы.
На следующее утро я оставил ее в неведении и беззаботности.
*
Палатино.Отправление в 18.06. Самый популярный поезд на линии Париж – Рим. Словно нарочно придуманный для всех тех итальянцев, которые живут вокруг Лионского вокзала. Они говорят о нем как о старой, заезженной кляче, но которая все-таки каждый раз благополучно дотягивает до стойла. Моя последняя поездка на нем относится к одиннадцати-двенадцатилетнему возрасту. Мне тогда показалось, что он тащится туда немыслимо долго, а обратно и того дольше.
– В каком часу прибываем в Рим? – спрашиваю я.
Молодой чернявый парень в сидящей мешком форменной тужурке со значком «Спальных вагонов» на отвороте и в неизменно дурном расположении духа бросает на меня такой раздраженный взгляд, словно отвечает на этот вопрос уже раз в двухтысячный:
– В 10.06, если итальянцы не задержат.
– А такое случается?
Он ухмыляется вместо ответа.
– Должно быть, утомительно работать в ночных поездах, правда? – интересуюсь я.
– Вот когда намотаете по рельсам четыре кругосветки, тогда и поговорим.
Он выходит из купе, пожимая плечами.
Нас пятеро: чета итальянцев-молодоженов, возвращающихся из свадебного путешествия, чета французов-отпускников, которые едут в Рим первый раз в жизни, и я. Мои попутчики очаровательны. Обе пары пытаются общаться между собой с помощью жестов и улыбок и даже предпринимают определенные потуги слепить фразу, которую противоположной стороне всякий раз удается разгадать. Иногда, правда, попадается словцо, которое ставит их в тупик, но о том, чтобы я вмешался, и речи быть не может. Это лишило бы меня последнего, хоть крохотного развлечения. Время от времени я дремлю, убаюканный поездом, и тогда забываю, что вынужден покинуть страну и город, которые люблю, на совершенно неопределенное время. Я, правда, убеждаю себя, что все это пустяки, и даже трижды пустяки по сравнению с тем, что пережили мои дед с отцом. Для итальянцев изгнание – дурная привычка, какая-то нелепая мания. Не вижу, почему я должен избегнуть общего правила. На ум приходят воспоминания детства. Всплывают в памяти все эти переезды, которые я сам и не пережил. Опять во мне оживает отцовский голос, как бывало порой вечерами, когда ему приходила охота порассказать о себе.
…Уехать? Еще до того как я родился, мой отец уезжал в Америку, за долларами. Потом уехали братья. Когда настал мой черед, шел как раз 1939 год, и я все-таки уехал, но только не за состоянием, а чтобы научиться держать ружье под знаменами. Дело было на севере, в Бергамо, и говорили там на всех, какие только есть, диалектах. По счастью, я нашел земляка, парня из нашей округи, так что было с кем поболтать по-нашему хоть тайком, потому что разговаривать на наречии начальство запрещало. Мы с ним стали compari – кумовья – это словечко у нас означало как бы обещание дружбы. Вечерами мы таскались в верхний город и там глазели, как фашистские вояки дрались с альпийскими стрелками, с этими, у которых перо на шляпе. Из нас они были единственные, которые могли утереть нос молодчикам Муссолини. Для чернорубашечников все было задаром, они входили в любую киношку или бар и кричали: «Дуче платит!» Может это и было первой причиной, которая сразу же заставила меня возненавидеть этих подонков. Но с настоящей войной все это еще не имело ничего общего. Мне в сорок первом году даже отпуск дали, чтобы я мог повидаться со своей невестой. А потом отправили нас с компаре, с куманьком, знаешь куда? В какую страну? Ни за что не догадаешься… Да я и сам не знал, что где-то есть такая… Вот там-то я и понял по-настоящему, что значит уехать…
Меня трясут за плечо. 10.34. Roma Termini. [11]11
Рим, конечная (итал.).
[Закрыть] Еще не сойдя с поезда, я уже чувствую что-то такое, чему пока не нахожу определения. Может, это просто летняя жара, некий странный запах… запах летней жары, очень яркий свет… не знаю. Толпа на перроне. Смотрю на переплетение всех этих рук на спуске с подножек вагона. Перила почти раскаленные. Зеленые вагоны поезда напротив сверкают на солнце. Вдалеке, под сенью навеса, пространство сереет. Вокзал похож на аквариум, огромный, совершенно квадратный и довольно неопрятный. Он гудит и кишит оживленными туристами, уже потными и распаренными. Пока это лишь преддверие, свободная зона, царство суеты и сомнительного предпринимательства. Обменяв несколько банкнот, решаюсь вынырнуть из аквариума. Слева и справа две световые арки – два выхода, и я колеблюсь, какой из них выбрать, чтобы вступить, наконец, в эту страну.
Я выбрал левый, ближний, через который следовало большинство, потому что он ведет прямо к конечной остановке автобусов. На одно мгновение застываю в неподвижности на пороге вокзала, не осмеливаясь пересечь улицу. На противоположном тротуаре – уже Рим, я узнаю его, еще даже не зная по-настоящему. Старые охристые стены, трамвайная линия, какое-то кафе, где сидят двое стариков, спрятав головы в тени навеса и выставив ноги на солнышко, маленькие нервные авто, понукающие друг друга гудками. Убеждаю себя, что мне как раз туда… Чтобы добраться до автобуса, иду по Виа Принчипе Амедео, присматриваясь к каждой лавчонке и пытаясь понять, совпадает ли это со смутными воспоминаниями, оставшимися у меня с детства. В полумраке парикмахерской лежит, откинувшись в кресле из-за отсутствия клиента, брадобрей, в позе словно для мытья головы, и читает газету. Миную двух цыганок, которые тянут ко мне руку. Под вывеской «Pizza & Pollo» сидят рабочие и грызут куриные ножки, не переставая орать друг на друга на диалекте, который не слишком отличается от того, на котором говорят мои родители. Но я прохожу слишком быстро, чтобы успеть разобрать, в чем там дело. Пересекаю улицу по солнечной стороне. Вдалеке виднеется цепочка автобусов, мой отходит около одиннадцати, так что еще остается немного времени. Возле столбика с указателем направления на Сору уже толпятся семьи, навьюченные чемоданами и детьми. «Dieci minuti! Dieci minuti, non с'è furia! Non с'è furia!» [12]12
Десять минут, десять минут, не толкайтесь! (итал.).
[Закрыть] – кричит шофер толпе, которая пытается втиснуться в его экипаж всеми доступными средствами. Замечаю неподалеку от остановки еще одного брадобрея, такого же праздного, как и первый. Провожу рукой по своей щетине.
Он поворачивает нос в мою сторону. Самое время выяснить, удастся ли мне его провести и сойти за местного, а не за туриста. Его-то итальянский кристально чист. Ни намека на акцент.
– Побрить или постричь, signore?
– Побрить.
– А в котором часу отходит ваш автобус?
– Через десять минут.
– Чудесно.
Пока я вроде бы неплохо справился с первыми словами, произнесенными на заальпийской территории. Если чуть-чуть повезет, он, может, и не догадается, что я француз. Он накрывает мне лицо горячей салфеткой, точит свой тесак, обмазывает мне лицо мыльной пеной. Лезвие поскрипывает на моей щеке. Так меня бреют в первый раз. Это приятно. Правда, когда он добирается до адамова яблока, я замираю. Но его горячая бритва точна.
Вдруг налетел порыв ветра. От сквозняка хлопнула дверь, а стопка журналов, положенных на край раковины, слетела на пол. Лезвие не отклонилось ни на миллиметр.
Флегматичный, непоколебимый, он всего лишь соизволил процедить:
– Per Вассо… Ché vento impetuoso!
«Клянусь Бахусом, какой буйный ветер!» Здесь, в Италии, я это слышу на каждом шагу.
Две минуты спустя моя физиономия становится глаже, чем стекло. Цирюльник улыбается мне и спрашивает небрежно:
– Вы случайно не из Эй-ле-Роз? Или из самого Парижа?
Немного смущаясь, отвечаю, что из второго. В первом у него наверняка какой-нибудь родственник.
Расплачиваюсь, пристыженный, что был разоблачен так быстро. Пока еще не знаю, сколько придется тут пробыть, но, право, было бы лучше, если бы меня принимали за уроженца здешних мест. Прежде чем я покинул его заведение, брадобрей наградил меня неподражаемым «Оррэвуар, мэссие!», явно желая показать, что и он тоже поездил по свету. Толпа на остановке испарилась, зато внутри стекла автобуса запотели. Свободным осталось лишь откидное сиденье рядом с водителем. Он трогает и, обливаясь потом, подмигивает мне со словами:
– Attenzione! Ми проезжатти мимо сам Колизео!
Действительно. А вскоре после того, как автобус проезжает Колизей, начинается сельская местность. Старый рыдван минует деревню за деревней, понемногу высаживая всех тех, кто прибыл тем же Палатино, что и я. А взамен вышедших сажает крестьян, женщин с огромными корзинами и ребятишек, возвращающихся из школы. Все тонет в веселой какофонии, все болтают между собой, меняются местами, чтобы усесться поближе к знакомым, словно целая деревня вдруг оказалась в одном автобусе. Какая-то женщина, сидящая прямо позади меня, рассказывает, заливаясь смехом, какие-то байки с птичьего двора, чем удерживает внимание всего автобуса последние десять километров. Я тоже смеялся вместе с остальными, даже не понимая ее слов как следует, и воображал себе: а что было бы, если бы мой отец отсюда не уехал? Вот этой женщиной с медной шеей, размашистыми движениями и заразительным смехом могла бы быть моя мать. А сам я мог бы быть вон тем молодым парнем в желтоватой майке, который читает «La corriere dello sport» и грызет зубочистку, не обращая на окружающий его тарарам ни малейшего внимания. А мой отец был бы сейчас в лесу и присматривал за тем, как работают молодые, в ожидании своей тарелки макарон. Но вот чего я все-таки не могу представить, так это себя в шерстяной майке. К тому же я не люблю футбол и всегда находил зубочистки вульгарными.
Я сошел на конечной остановке, в Соре. Сант'Анджело – это прилегающая к ней маленькая деревушка километрах в трех к северу. Единственное, что я помню о Соре, это речку под названием Лири, четыре моста через нее да три кинотеатра, в которых тогда меняли фильмы каждый день. Свободных мест всегда оставалось больше, чем жителей вообще. На балконе можно было курить, зато строжайше запрещалось приносить с собой пиццу. Один из залов напоминал столичный «Рекс», другой специализировался на античных «пеплумах» серии «Б», а в самом маленьком шла порнуха и фильмы ужасов. Помню один сеанс «Отчаянной племянницы», когда киномеханик позволил разъяренной публике чуть ли не линчевать себя из-за того, что у него свет погас в ту самую минуту, когда означенная племянница как раз собиралась дать доказательство своей отчаянности одному мордовороту, предложившему ей выбор между его членом и топором. Так никто и не узнал, чем там дело кончилось. Когда я вернулся во Францию, мне даже слов не хватило, чтобы объяснить, что способен вытворять на экране род человеческий. И только Дарио смог подтвердить мои слова. Кино тогда было неотъемлемой частью провинциальной жизни, как бы частью самого крестьянина, его буден. Но сегодня я вижу одни только параболические антенны на крышах, а все три кинотеатра исчезли. Самый большой превратился в магазин по продаже садовых культиваторов, и я задаюсь вопросом: а что теперь делают местные мальчишки, чтобы насладиться запретными образами?
Уже слишком жарко. Моя дорожная сумка весит целые тонны. Одет я по-парижски, и на меня пялятся, как на заблудившегося туриста, не понимая, что бы значило мое появление. Что я нездешний – написано у меня на лбу. Однако городишко оказался даже приятнее, чем в моих воспоминаниях. Большое разнообразие в окраске стен, в архитектуре, в расположении всяких лавчонок. Когда я был мальчишкой, я всего этого как-то не замечал. Впрочем, мальчишки вообще ничего не замечают, кроме лотков с мороженым и кинотеатров. Я истекаю потом. Я голоден. Я ощущаю запах горячей кухни, доносящийся из ближайшей пиццерии. Откуда-то неподалеку веет ароматом рассола. Горы желтых оливок. А на пьяцца Сайта Реститута продавец арбузов разгружает свой грузовик, скатывая плоды по широкой доске. Слегка обалдевший, неспособный решить, что же мне сейчас больше хочется – поесть, попить или поспать, я присаживаюсь у фонтанчика. В совершенном одиночестве. Кроме меня, в этот час никто больше не осмеливается тягаться с солнцем.
Вывеска: Pensione Qadrini. Про этот пансион мне говорили, что там вполне можно остановиться. Ворота, ведущие в крошечный внутренний дворик, где в углу свалены в кучу несколько ржавых велосипедов и один мопед. Маленькая темная лестница и сразу же кухня, где молодая женщина жарит на сковородке кабачковые цветы, не отрываясь от телевизора. Она вытирает руки о передник и спрашивает, чего мне угодно. Будто я оказался здесь ради ее кабачков. Комнату? Ах да, комнату! Их тут целых четыре. Вот и все, чего я смог от нее добиться. Несмотря на некоторое воодушевление, чувствую, что ей слегка не по себе, она краснеет, избегает смотреть мне в глаза. Нас обволакивает запах ее стряпни. Она явно не привыкла к туристам и наверняка спрашивает себя, кто бы это мог притащиться сюда в самый разгар августа. Но в общем все происходит довольно быстро. Мы не успеваем даже поторговаться. У меня впечатление, что она хочет разделаться с этим как можно скорее. А я при малейшем препятствии готов пойти на попятный. У меня нет ни малейшего желания нарушать чей-либо покой сразу же по прибытии. Я следую за ней в крошечную комнатку, чистенькую, с молитвенником на ночном столике и благочестивой картинкой, пришпиленной над кроватью. Синьорина Квадрини вешает рядом с умывальником полотенце и говорит о горячей воде, точнее, о том, что в некоторые дневные часы ее не бывает. Потом роется в кармане своего передника и протягивает мне ключ на тот случай, если я вернусь после одиннадцати часов вечера. Я подумал было, что она заговорит со мной об оплате и о сроке моего пребывания в этих краях, но она вернулась на кухню к своей стряпне.
Вот в какое странное место я попал. Интересно, а настоящие, взаправдашние итальяшки сильно отличаются от нас, отступников?
Кровать скрипит, равно как, кажется, и мои собственные кости, одеревеневшие после ночи на вагонной кушетке. Никто не знает, что я сейчас торчу в этой дыре. Да я и сам не очень-то в этом уверен. Надо бы мне тут пообвыкнуть скорее, если я хочу что-то понять.
*
Бумаги на владение землей разбросаны по полу, я изучаю их в сотый раз. Выписка из кадастра, землемерный план, мое имя, опять мое имя и опять мое имя. Вот из-за этих трех бумажек и погиб Дарио, да и сам я только чудом миновал кладбище Прогресса. За эти дни у меня в голове сформировалась как бы мысленная фотокопия моих земель, но теперь, когда до них рукой подать, я всякий раз содрогаюсь, как подумаю, что настала пора набраться храбрости и взглянуть на них собственными глазами. По сравнению с этим полторы тысячи километров между Римом и Парижем – сущий пустяк. Границы моих земель. Моих земель. Порой мне удается свыкнуться с этой мыслью, как бы внутренне овладеть ими, убедить себя, что в этом обладании есть даже какое-то величие. Хотя на самом деле я испытываю один только страх.
Средиземноморские рефлексы быстро возвращаются ко мне. После короткой сиесты я вновь вышел на улицу. Часов пять вечера, лучшее время суток. Настает тот момент, когда ты осмеливаешься, наконец, высунуть нос наружу, когда тебя охватывает желание смешаться с другими, поболтать в людном месте, сидя где-нибудь на террасе со стаканчиком холодного красного в руке. Ты уже можешь вытерпеть прикосновение к телу собственной рубашки и больше не опасаешься делать разнообразные движения. Ты прогуливаешься. Я выпил кофе на площади, прямо напротив водоема, куда сбилось все молодое поколение городка. Девушки, рассевшиеся на ограждении фонтана, позволяют заигрывать с собой парням на мопедах. Люди едят мороженое. Все это не слишком отличается от того, что я знавал здесь еще мальчишкой. Чувствую себя уже не таким чужаком, как сразу по приезде.
Вдруг меня охватывает внезапный порыв, и я принимаюсь шагать по обочине дороги, ведущей в Сант'Анджело. Сам не понимаю, что на меня нашло, но ко мне словно вернулось мужество, словно я почувствовал, что все должно вот-вот разрешиться. По дороге я попытался мысленно перебрать еще раз свои предположения касательно этой земли. Но их было слишком много. Больше сотни, больше тысячи.
Но ведь скрыто же в ней что-то, закопано какое-то сокровище, миллиарды, золото, драгоценности, слитки, лежащие там с войны, Святой Грааль, трупы человек тридцати, пропавших без вести, какое-нибудь неоспоримое доказательство виновности целой кучи людей, что-нибудь такое, что было бы лучше вообще не извлекать на свет Божий. Из-за чего меня самого чуть не подстрелили.
Но если в этой земле действительно сокрыто нечто такое, то почему бы просто-напросто не устроить туда ночную экспедицию с кирками да лопатами – и готово дело. Лишь бы эта штука оказалась не слишком велика, лишь бы можно было откопать ее тайком. А вдруг там действительно имеется что-то, что принадлежит мне по праву. Может, я миллиардер и сам того не знаю. Но на кой черт оно мне сдалось, если будет стоить пули калибра девять миллиметров в башку?
Еще несколько метров. С выпиской из кадастра в руке я углубляюсь в крошечную рощицу. Теплынь, в нос бьют какие-то незнакомые запахи. Огибаю кусты со странными ягодами. Сердце начинает учащенно колотиться. Меж двух дубов вижу вдалеке нечто вроде полянки, которая вполне может оказаться моей собственностью. Солнце еще довольно высоко. За добрые полчаса я не повстречал ни одной живой души.








