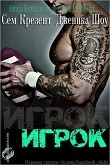Текст книги "Лотта в Веймаре"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ну, и что же дальше?
– Я бы не посмел нарушить покой госпожи советницы, – продолжал Магер, – но мисс Гэзл, узнав о пребывании госпожи советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут.
– Передайте этой даме, – отвечала Шарлотта из-за двери, – что я не одета и, как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления.
Но вразрез с этими словами, она накинула на себя пудермантель; твердо решив отразить нападение, она в случае неудачи все же не хотела быть застигнутой врасплох.
– Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл, – отвечал Магер из коридора. – Она все слышит сама, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Гэзл крайне необходимо хотя бы на минутку повидать госпожу советницу.
– Но я не знаю этой дамы! – с сердцем воскликнула Шарлотта.
– Именно поэтому, госпожа советница, – возразил коридорный, – мисс Гэзл придает столь большое значение хотя бы беглому знакомству с госпожой советницей. She wants to have just a look at you, if you please[1]1
Она хочет только взглянуть на вас, если позволите (англ.).
[Закрыть], – произнес он, искусно артикулируя ртом и как бы перевоплощаясь в просительницу, что, видимо, и послужило для нее сигналом самой взяться за дело, изъяв его из рук посредника; за дверью тотчас же послышалась взволнованная тарабарщина, произносимая высоким детским голосом, поток слов отнюдь не прекращающийся, но под отчетливо выделенные «most interesting»; «highest importance"[2]2
Весьма интересно, очень важно (англ.).
[Закрыть] – так неудержимо льющийся дальше, что осажденная почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась предупредительным переходом на английский язык облегчать им хищение ее времени и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полушутливым «Well, come in please"[3]3
Хорошо, войдите (англ.).
[Закрыть], и тотчас же рассмеялась на Магерово «thank you so very much"[4]4
Покорно вас благодарю (англ.).
[Закрыть], с которым он распахнул дверь, чтобы, в низком поклоне перевесившись через порог, впустить мисс Гэзл.
– Oh dear, oh dear![5]5
О боже, боже! (англ.).
[Закрыть] – воскликнула маленькая женщина оригинальной и веселой наружности. – You have kept me waiting – вы заставили меня ждать, but that is as it should be[6]6
Но это не существенно (англ.).
[Закрыть]. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. I am Roze Gazzle. So glad to see you[7]7
Я Роза Гэзл и так рада видеть вас (англ.).
[Закрыть]. – Едва только, пояснила она, ей стало известно через горничную, что миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице, через два номера от нее, как она, не долго думая, отправилась с визитом. Ей отлично известно («I realise»), сколь важную роль сыграла миссис Кестнер in german literature and philosophy[8]8
В немецкой литературе и философии (англ.).
[Закрыть]. Вы знаменитая женщина, a celebrity, and that is my hobby, you know the reason I travel…[9]9
Знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий (англ.).
[Закрыть] Не разрешит ли dear миссис Кестнер на скорую руку набросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме для зарисовок?
Альбом широкого формата в холщовом переплете она держала под мышкой. Над ее лбом пылали красные локоны, красным казалось и ее лицо с веснушчатым вздернутым носом, толстыми, но приятно очерченными губами, открывавшими белоснежные здоровые зубы; глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные, хотя иногда они вдруг начинали косить. На ней было платье а la grecgue[10]10
В греческом стиле (фр.).
[Закрыть] из легкой цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа она держала переброшенным через руку; ее грудь, такая же веснушчатая, как и нос, казалось, вот-вот весело выкатится из выреза платья, на античный манер высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет двадцать пять.
– Дитя мое, – произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой девицы и все же готовая проявить светскую терпимость, – милое дитя, я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте еще добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить, мои милые родственники уже заждались меня. Я очень рада знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами выразились, на последнем мне, к сожалению, приходится настаивать. Мы видели друг друга – все остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак, позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего.
Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова; во всяком случае, она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту «dear» и быстро двигая забавными толстыми губами, она неудержимо пыталась втолковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита, посвятить ее в деятельную жизнь страстного следопыта-коллекционера.
Собственно, она была ирландка. Она много путешествовала, делая зарисовки, причем цель и средства с трудом поддавались различию.
Видимо, ее талант был недостаточно велик, чтобы не искать поддержки в сенсационности объекта; живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. Потому ее вечно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносились в ее альбом, по мере возможности скрепленные удовлетворяющими подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только ни побывала эта девушка. Аркольский мост, афинский Акрополь; дом, где родился Кант, в Кенигсберге, она зарисовала углем. Сидя в шаткой лодчонке, прокат которой ей обошелся в пятьдесят фунтов, она запечатлела на Плимутском рейде императора Наполеона, когда он после торжественного обеда появился с табакеркой в руке на палубе «Беллерефонта». Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась: невообразимая толчея лодок, наполненных кричащими «ура» мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе; и сам герой, в треуголке и расстегнутом сюртуке с развевающимися фалдами, выглядел, как в кривом зеркале: приплюснутым сверху и комично раздавшимся в ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его автограф или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковой.
Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работала мисс Гэзл, позволяла самому занятому человеку между делом удовлетворить ее притязания. Так поступили: князь Меттерних, господин Талейран, лорд Кестльри, господин фон Гарденберг и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно потому, что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадт доказывали, что и в Берлине она не теряла времени даром. Она везде умела его использовать. Холщовый переплет ее альбома скрывал еще немало трофеев, которые она, оживленно их комментируя, показывала опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава этого города, of this nice little place[11]11
Этого прелестного уголка (англ.).
[Закрыть], как средоточия прославленной немецкой культуры, – для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбралась сюда.
Old[12]12
Старый (англ.).
[Закрыть] Виланд, а также Гердер, которого она называла great preacher[13]13
Великий проповедник (англ.).
[Закрыть], и the man who wrote the «Brigands"[14]14
Человек, который написал «Разбойников» (англ.), то есть Шиллер.
[Закрыть] умерли и таким образом от нее ускользнули. Правда, в ее записках значилось, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господа Фальк и Шютце. Вдову Шиллера она уже заполучила в альбом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наиболее известных актрис придворного театра – Энгельс и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф, вернее Ягеманн, ей еще не удалось добраться. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что через посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине, супруге наследного принца, у нее уже имелись. Что касается Гете, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть о том, что знаменитая «модель» героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству – откровенно призналась она – можно будет убить двух зайцев сразу: Вертерова Лотта, без сомнения, проложит ей дорогу к автору «Фауста»; а последнему стоит только замолвить слово, и перед ней распахнутся двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу Ифигении в ее записной книжке, в отделе german literature and philosophy[15]15
Немецкая литература и философия (англ.).
[Закрыть] значилось кое-что для памяти, что она и не замедлила показать ее тезке из царства прообразов.
Случилось так, что Шарлотта, в своем белом пудермантеле, вместо нескольких минут, просидела с Розой Гэзл три четверти часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией маленькой женщины, подавленная величием ее охотничьих трофеев, она недоумевала, стоит ли считать пошлостью такой художественный спорт, или лучше на все это взглянуть сквозь пальцы: как-никак лестно быть причисленной к большому свету, дыханием которого веяло от «охотничьих записок» мисс Гэзл, быть принятой в сонм славных, запечатленных на этих страницах. Короче – жертва своей общительности – Шарлотта сидела в одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примостившись напротив.
Она делала это виртуозно, слышными штрихами, видимо не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как ей часто приходилось стирать их большой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей нервозности. Шарлотте было приятно встречать взгляд этих слегка косящих глаз, не причастных болтовне художницы. Веселую бодрость вселял вид ее огруглых грудей, белоснежных зубов и оттопыренных губок, рассказывающих о далеких странах, о встречах со знаменитыми людьми. Все это было в одинаковой мере безобидно и интересно, почему Шарлотта на малый срок и позабыла о том, что ей пора уходить. Если бы Лотхен-младшая и подосадовала на это вторженье, то тревогу о душевном состоянии матери она бы здесь не могла выставить истинной причиной своего недовольства. Нескромности со стороны этой маленькой представительницы англо-саксонской расы опасаться не приходилось; она была ей несвойственна. Это действовало успокоительно и придавало особую прелесть общению с ней. Говорила только она, Шарлотта с улыбкой ее слушала и от души посмеялась над одной из историй, которую Роза протараторила, не прерывая работы. Однажды, в горах Абруцции, ей удалось включить в свою коллекцию разбойничьего атамана по имени Бокаросса, и прославленный своею храбростью и жестокостью бандит так растрогался оказанным ему вниманием, так по-детски обрадовался своему воинственному изображению, что приказал разбойникам отдать салют в честь мисс Розы из воронкообразных коротких ружей и под надежным эскортом выпроводил ее за пределы действий своей шайки. Шарлотту немало позабавила дикая и, как она решила, довольно тщеславная рыцарственность ее соседа по альбому. Слишком увлеченная, чтобы удивиться тому, откуда вдруг взялся Магер, она вопросительно взглянула на коридорного, многократный стук которого они за разговором и смехом не расслышали.
– Beg your pardon[16]16
Прошу прощения (англ.).
[Закрыть], – сказал он. – Очень сожалею, что нарушил собеседование, но господин доктор Ример просит передать, что он был бы весьма счастлив засвидетельствовать свое почтение госпоже советнице.
Глава третья
Шарлотта торопливо привстала.
– Это вы, Магер? – растерянно спросила она. – Что случилось? Господин доктор Ример? Какой такой доктор Ример? Уж не докладываете ли вы о новом госте? Что вам взбрело на ум? Это же невозможно! Который теперь час? Так поздно! Милое дитя – обратилась она к мисс Розе, – нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. На что это похоже? Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались! Всего хорошего! А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла.
– Слушаюсь, – отвечал Магер, покуда мисс Гэзл спокойно продолжала заниматься своим делом. – Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы… не убедившись, что ей известно тождество господина…
– Какое там еще тождество! – в сердцах воскликнула Шарлотта. – Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда! Скажите этому господину…
– Незамедлительно, – покорно согласился Магер. – Но я все же считаю своим долгом поставить в известность госпожу советницу, что речь идет о господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме Римере, секретаре и доверенном лице его превосходительства господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем…
Шарлотта опешила, покраснела, и дрожанье ее головы заметно усилилось, когда она взглянула на Магера.
– Ах, так! – нерешительно произнесла она. – Но, все равно, я не могу принять этого господина, я никого не могу принять. Право, не понимаю, о чем вы, собственно, думали, предполагая, что я его приму? Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь хотите, чтобы я, полуодетая, среди такого беспорядка принимала еще и доктора Римера?
– Этой беде можно помочь, – возразил Магер, – у нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи советницы, я попросил господина доктора подождать, покуда госпожа советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи советницы проводить ее вниз на несколько минут.
– Надеюсь, – сказала Шарлотта, – что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне. Милое дитя, – обратилась она к Гэзл, – вы сидите рисуете… Вы видите мое положение! Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти.
Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза, осклабившись, объявила, что она готова.
– I'am quite ready![17]17
Я совсем готова! (англ.)
[Закрыть] – воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и разглядывая его прищуренным глазом. – I am ready[18]18
Я готова (англ.)
[Закрыть]. Хотите посмотреть?
Хотел этого в первую очередь Магер, который тотчас же приблизился.
– Превосходный рисунок, – решил он с видом знатока. – И документ большого значения.
Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежевозникшее произведение искусства.
– Да, да, очень мило, – пробормотала она. – Это я? О да, конечно, сходство есть. Мою подпись? Давайте сюда – только поскорей…
Не присаживаясь, она начертала углем свою подпись, по беглости не уступавшую наполеоновской, торопливым кивком ответила на прощальное приветствие ирландки и велела Магеру просить господина Римера набраться терпения еще на несколько минут.
Когда, уже одетая для выхода, в шляпе и мантилье, с ридикюлем и зонтиком в руках, она покинула свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, пропуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял на полу его цилиндр.
Доктор Ример – человек лет сорока, среднего роста, с густыми зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка тронутыми сединой, с широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая, недовольная складка, – был одет в коричневый сюртук, с высоким воротником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок.
– Ваш покорный слуга, госпожа советница, – произнес он звучным носовым голосом. – Не могу не упрекнуть себя за непростительно поспешный визит. Такое отсутствие самообладания, бесспорно, менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукается поэт; едва только слух о прибытии госпожи советницы разнесся по городу, я почувствовал непреодолимое желание тотчас же явиться сюда засвидетельствовать свое почтение и приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал – с формированием наших сердец.
– Господин доктор, – проговорила Шарлотта, с церемонной обстоятельностью отвечая на его поклон, – внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно.
То, что эти заслуги были ей несколько темны, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества, и новой для нее вести – что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпенья, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека, – его высокое служение тому. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим служением, – и удивилась такой причуде. Должен же он, по крайней мере, понимать, что для нее его значение определялось одним: вестник ли он оттуда, или нет? Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса и, довольная тем, что ее туалет с несомненностью свидетельствовал об ее намерениях, продолжала:
– Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух о событии столь приватного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя сестра, камеральная советница, – торопливо добавила она, – на пути к которой вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом, ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, но достаточно забавном: я имею в виду визит одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорей нарисовать портрет старой женщины – задача, с которой она, насколько я понимаю, справилась довольно относительно… Но не лучше ли нам присесть?
– Так, так, – отвечал Ример, продолжая держаться за спинку стула, – по-видимому, госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое.
Мне лишь в наброске удалось Запечатлеть живое, –
с улыбкой процитировал он. – Но я вижу, что меня опередили, и если я чувствую себя до известной степени утешенным, узнав, что другие разделили со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благосклонным мгновением. Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее достичь, и мне, госпожа советница, признаюсь, будет нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас, после того как я с таким трудом проложил себе к вам дорогу!
– С трудом? – удивилась она. – Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на цербера.
– Пожалуй, – согласился Ример. – Но да убедится госпожа советница самолично.
С этими словами он подвел ее к окну, выходившему, как и окно ее спальни, на Рыночную площадь, и приподнял накрахмаленную занавеску.
Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Больше всего народа толклось у подъезда, где два фельдфебеля старались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных бюргеров.
– Боже милосердный! – проговорила Шарлотта, и голова ее снова задрожала. – Кого они высматривают?
– Кого же, как не вас, сударыня, – отвечал доктор. – Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротою. Смею вас заверить, да, впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому.
Шарлотта невольно опустилась в кресло.
– Бог ты мой! – сказала она. – И это мне удружил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раззвонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, покуда выход был свободен! Но эти люди там, внизу, господин доктор, – неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей в помыслах ничего, кроме своих частных дел.
– Не сердитесь на них, – сказал Ример. – Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки, о популярности духовного начала, не делающейся менее трогательной и отрадной, даже если к ней примешиваются известные экономические соображения.
Разве мы не должны радоваться, – продолжал он, возвращаясь со смятенной Шарлоттой в глубину комнаты, – если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению извечно презирающая дух, приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем – признанием его полезности? Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимой пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь сосредоточивается в одном лице. Так можно ли удивляться, что веймарцы мало-помалу привыкли уважать то, что некогда казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные науки и все с ними связанное кровным своим интересом? При этом – творения духа недоступны им, как и всякой другой толпе, – они в первую очередь преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря которым или ради которых возникли эти творения.
– Мне кажется, – возразила Шарлотта, – вы одной рукой даете этим людям то, что другой от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями, но тут же подвели материально-корыстную основу под их благородный порыв, а это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным.
– Уважаемая, – сказал он, – о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно, и, право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезентабельными узлами и путаницей ниток, отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее – другом всего живущего. У меня есть основания заступаться за этих зевак, там у ворот, ибо только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них и, не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами, я смешался бы с толпой там, внизу, и меня тоже отгонял бы от двери фельдфебель. Порыв, приведший сюда этих людей, определил, пусть несколько в более возвышенном и утонченном виде, и мое поведение, когда час назад мой парикмахер, за бритьем, сообщил мне городскую сенсацию: в восемь часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в «Слоне» Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих четырех стенах, и, прежде нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях, я уже был одет и спешил сюда засвидетельствовать вам свое почтение – почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование на иной, мужской, лад также причастно великой жизни, которой дивится весь мир, – передать вам братский привет человека, чье имя, имя друга и помощника, грядущие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь зайдет о Геркулесовых подвигах титана.
Шарлотте, несколько неприятно задетой, показалось, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Римера углубилась, словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит.
– Ай, ай, – сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа.
– Ваш парикмахер, видно, болтун! Ну, да это свойственно его профессии. Но всего час назад? Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать?
– Не смею запираться, – ответил он и как-то понуро улыбнулся.
Они сели на стулья с резными спинками, у столика, под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей, в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившимся на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая Флора в складчатой тунике украшала скупо меблированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположной нише являла собою как бы pendant к богине.
– Не смею запираться, – продолжал Ример, – в этой моей слабости к утреннему сну. И если б можно было сказать: «придерживаться» слабости, я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха – доподлинная привилегия свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на Фрауенплане, – хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать педантическим, культом времени, начинал день несколькими часами раньше. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других, и садится за работу, когда весь дом еще спит, другой любит посибаритствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда докучная необходимость уже стучится в дверь. Главное – это терпимое отношение друг к другу, – а в уменье быть терпимым учитель, надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его терпимости иной раз становится не по себе.
– Не по себе? – обеспокоенно переспросила она.
– Неужто я сказал: не по себе? – удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату, и воззрился на Шарлотту своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. – В его близости чувствуешь себя превосходно – разве иначе человек столь нервной конституции, как я, мог бы девять лет, почти бессменно, состоять при нем? Да, да, превосходно! Правда, есть высказывания, которые сначала нуждаются в решительном преувеличении, чтобы затем свестись почти к столь же решительному ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Истина, уважаемая, не всегда довольствуется логикой; чтобы не отступить от истины, приходится временами себе противоречить. Высказывая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы сейчас говорили; он нередко произносит сентенции, содержащие в себе свою противоположность, из любви к правде или из своеобразного вероломства – этого я не знаю и знать не могу. Желательнее предположить первое, ибо он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, нежели смутить их… Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступлюсь правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него, – хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелое чувство, до такой степени тяжелое, что трудно становится усидеть на стуле и так и порываешься бежать. Дражайшая госпожа советница, это прочные противоречия, они держатся девять лет, тринадцать лет, ибо их сменяет любовь и восхищение, которые, как гласит писание, превыше разума…
Он запнулся. Шарлотта молчала, во-первых, потому, что ждала продолжения, во-вторых, потому что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые и уязвленно-язвительные вести из того далекого мира со своими воспоминаниями.
– Что касается его терпимости, – начал он снова, – чтобы не сказать: склонности к попустительству, – видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нити, – то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением, – я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной греховности и потребности в индульгенции, – нет, даже не это; в сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит больнее любой строгости и нетерпимости, которая, исходи она от бога, была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви, – а здесь и этого нет; такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения и ничего божественного в себе не имеет; может быть, потому-то ее не только сносят, ей предаются в пожизненное рабство… Что я хотел сказать? Не напомните ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгновение я все-таки утратил нить…
Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои холеные руки на набалдашнике трости и уставившись в пространство натруженными воловьими глазами, и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользоваться ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе, и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно почувствовала себя в роли Лотхен-дочери, прознавшей все предлоги и поводы и презирающей благой самообман. Она почти готова была просить у него прощения, ибо, говорила она себе, мы не повинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что тобою пользуются как «средством», тоже не очень лестное сознание. Тем не менее она не вправе упрекать этого человека, ибо приняла его также не ради него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащее воспоминание о неразгаданном и нечаянно разросшемся прошлом, неодолимое желание оживить его и «экстравагантно» связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники, гость и она, и сошлись здесь, точно по сговору, во имя чего-то постороннего, мучительно счастливящего, загадочного, державшего их обоих в болезненном напряжении, что могло быть понято и до какой-то степени разгадано только с помощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась и сказала:
– Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора, если по поводу такой невинной и маленькой слабости, как любовь хорошенько поспать, пускаетесь в столь пространные рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий в вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться, – я бы просто назвала ее привычкой, – в той вашей прежней должности, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите на казенной службе в качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удается совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью?