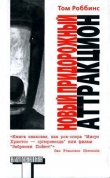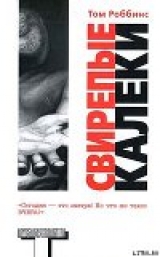
Текст книги "Свирепые калеки"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Ну, как бы там ни было, он со всей определенностью не стал «как один из них» – и шаману тоже не уподобился, если на то пошло. Тогда почему его наказывают? Или, может, наставляют? Посвящают? Во всяком случае, выдворяют из сада разума? Сама терминология, к которой он вынужден был прибегнуть, внушала сомнения: чуждая и одновременно избитая, язык, за последние десятилетия изъятый из своего родного, эзотерического контекста и включенный в вокабулярий популяризаторов, шарлатанов и дилетантов. Тьфу! И однако ж это – вопросы существенные, разве нет, и столь же заманчивые для науки, которая предпочитает заметать их под коврик, как и для Свиттерса, который, в силу личных причин крайней важности, эту несмелую роскошь позволить себе не может?
Завороженный непривычными импликациями подобных вопросов и в то же время немало ими смущенный Свиттерс возвращался к ним снова и снова, хотя и сконфуженно, точно судебный эксперт, сортирующий дамское нижнее белье с места преступления. Размышлениям он предавался по большей части на людях – на умащенных солнцем углах, в тени под арками либо под огромными мультяшными рыночными часами, – где его захлестывал гул ничего не подозревающих толп, а флоридские грейпфруты и аризонские дыни, точно выпученные глаза лягушек размером с «бьюик», наблюдали за ним, не мигая.
В одном из таких мест, пока Свиттерс бился над одной из этих загадок, к нему и приблизился – чересчур неожиданно на его вкус – досиня выбритый остроносый юнец с избытком недоброжелательства за очками и в чрезмерно измятом костюме.
Если этот нагрянувший невесть откуда парень – из ребят Мэйфлауэра, должно быть, стряслось что-то и впрямь серьезное. Приглядевшись внимательнее, Свиттерс, правда, готов был поклясться, что этот надутый халтурщик даже статую Свободы не выследит. Нет, это не наш. Остались же у конторы какие-то стандарты. Впрочем, отчего бы ему не быть, например, виртуозом маскировки? Отвисшая нижняя губища – недурной штрих, если, конечно, парень об нее не споткнется.
– Вы – Свиттерс?
– А кто спрашивает, приятель?
– Я приехал отвезти вас к вашей бабушке.
– Сдается мне, такси я не вызывал. Мой шофер зовется Абдулла, химчистками пользуется регулярно, ко мне обращается «мистер Свиттерс» и, разве что я путаю его с садовником, сегодня он выходного не брал.
Юнец ощетинился; но если он и помышлял порыться в своем репертуаре резкостей и грубостей, одного взгляда Свиттерса, гипнотического и свирепого, хватило, чтобы желание это тут же развеялось. Из отрывающегося по шву кармана пиджака юнец извлек визитку, идентифицирующую его как служащего некоей юридической фирмы, расположенной в деловой части города, что на памяти Свиттерса Маэстра пару раз упоминала в связи со своим завещанием.
– Боюсь, у меня дурные новости, – сообщил он. – Я припарковался на углу Пайн-стрит.
В вестибюле Свиттерса встретили врач и юрист. Что может быть хуже? Учитывая, что ни один приличный человек застройщика в доме не потерпит, не хватало только присутствия копа и священника (Четыре Апокалиптических Всадника), чтобы завершить перекличку проклятия.
Врач был само сочувствие и любезность. Он объяснил, что с Маэстрой приключился сердечный приступ – не из самых сильных, нет, тем более принимая в расчет ее возраст, – и от приступа этого, по всем признакам, она вполне оправится. Никаких оснований подозревать паралич нет; хотя нарушения речи наблюдаются. Ей дали легкое успокоительное, и в ближайшие семьдесят два часа при больной будет дежурить сиделка. Больная никого не желает видеть до тех пор, пока речь ее полностью не восстановится. «А то Свиттерс непременно воспользуется моим дефектом дикции, чтобы впервые за тридцать лет меня переспорить», – процитировал со смешком доктор, оставил Свиттерсу свой телефон – и ушел.
Настал черед юриста. Она тоже держалась вежливо, хотя в ее случае вежливость казалась скорее проявлением профессионализма, нежели сострадания. Она была необыкновенно высока и столь же черна цветом кожи, как многие ее коллеги – сердцем, и в акценте ее слышался отголосок пассата. «Барбадос» – пояснила она впоследствии. Ее чувство собственного достоинства, преумноженное ростом, устрашило бы любого мужчину, менее безрассудно-храброго, чем Свиттерс. В любом случае, поскольку у мисс Фоксуэзер было в запасе сенсационное сообщение-другое – парочка бомб, так сказать, – ее высота случаю более чем соответствовала.
– Я так понимаю, вас не поставили в известность о том, что ваша бабушка находится под следствием? – проговорила Фоксуэзер, открывая люк и выпуская на волю сенсацию особенно крупную. – Да, я так и подумала. Так вот в январе против нее было выдвинуто обвинение в компьютерном взломе. Злонамеренные хулиганские действия. Подчеркиваю: именно хулиганские. Никаких свидетельств кражи или социального «активизма» как таковых. И тем не менее обвинение весьма серьезное, особенно в нынешний крайне неблагоприятный момент, поскольку правительство вводит более строгие меры против подобных случаев, прежде чем они выйдут из-под контроля. Федеральные службы хотят преподать наглядный урок.
Недоверчиво (хотя уж ему-то чрезмерно удивляться было не с руки) или в смятении душевном, а может быть, напротив, в восхищении, близком к восторгу, Свиттерс все качал и качал головой. Трудно осуждать мисс Фоксуэзер, решившую, что в инвалидное кресло собеседника вверг паралич.
– Учитывая возраст вашей бабушки, вопрос о тюрьме даже не рассматривался; кроме того, все доказательства свидетельствуют о том, что в финансовом плане за счет компьютерного взлома она не обогащалась. Тем не менее, намеренно или нечаянно, она-таки вывела из строя как минимум одну компьютерную сеть и уничтожила изрядное количество интеллектуальной собственности, и, хотя я сделала все от меня зависящее, ее оштрафовали на значительную сумму. Сегодня утром сообщили о наложении штрафа; должна сказать, что убеждена: именно приговор и послужил причиной сердечного приступа.
Адвокат наконец села – Свиттерсу уже грозило растяжение шейных мышц – и добралась до сути. Маэстре – даже если она вполне поправится и новых закупорок не случится – потребуется уход. Маэстра же грозилась выпороть тростью того скупердяя, что только попытается переместить ее в однокомнатную квартирку с плитой и раковиной прямо в жилой комнате, и пристрелить как помоечную крысу того нациста, который определит ее в дом престарелых (Свиттерс и Фоксуэзер переглянулись, давая понять, что оба понимают: старушка не шутит), а домашний уход обходится недешево. На содержание особняка в Магнолии тоже тратится немало. Плюс задолженность по налогам. Плюс штраф, исчисляемый шестизначной цифрой. И, конечно же, судебные издержки. В конечном счете Маэстра, на протяжении многих лет щедро жертвовавшая на разные сумасбродные начинания, теперь глядела в голодные глазницы тощей белой собаки банкротства.
– Так вот я согласилась принять в счет услуг ее старый коттеджик на Снокуалми. Уже легче. Гм… Однако помимо этого домика у вашей бабушки есть только одно действительно ценное имущество.
– Матисс.
– Именно. И на аукционе за картину можно выручить более чем достаточно, чтобы поддержать несчастную старушку. Но она говорит, будто по завещанию обещала картину вам, и потому считает, что у нее нет морального права продать полотно.
Свиттерс подъехал к двери в гостиную и заглянул внутрь. Вон она, картина, висит над каминной полкой во всем своем вольно раскинувшемся, жизнеутверждающем бесстыдстве. Как же такое возможно: настолько плоская – и при этом настолько округлая, настолько неподвижная – и так паясничает, настолько мясистая – и при этом воплощает собою задумчивую созерцательность, настолько нарочито уродливая – и заключает в себе столько отрады! На узорчатых подушках, что, чего доброго, зигзаг за зигзагом выдул из своего инструмента Орнет Коулман,[150]150
Коулман Орнет (р. 1930) – музыкант джаза (саксофонист) и композитор.
[Закрыть] одалиска выставляла свою пышную плоть на обозрение обществу, что вновь научилось бояться плоти. Не зная ни страха, ни запретов, ни самовлюбленности, ни корысти, ни, если на то пошло, желания или похоти, она нависала, она простиралась во все стороны – словно контур столицы на фоне неба и пустынная равнина: женщина-город, женщина-степь, женщина – весь необъятный мир. И все же чем дольше он глядел, тем более отдалялась она от всего женственного и мирского, ибо по сути своей она была что песня в цвете, великолепная в своей бесполезности неохватность раскрепощенной краски. Ничем обществу не обязанное, ничего от общества не ожидающее, полотно обрушивалось на мозг, точно туча – на буровую вышку. Оно обладало целомудрием и грубой силой сна.
Свиттерс обернулся к мисс Фоксуэзер.
– У Матисса, видать, в студии холодрыга та еще была. Женщины просто синели.
– О, но ведь так…
– Да продайте ее! – рявкнул Свиттерс. – Всегда терпеть не мог эту картину.
Можно лгать Господу – но не дьяволу?
В силу по меньшей мере двух причин Свиттерс планировал перебраться в горный коттеджик, как только стает снег. Во-первых, он уже был готов отдохнуть от рынка Пайк-плейс, который, с наступлением теплой погоды, прыткостью уже почти сравнялся с Южной Америкой, и, во-вторых, если Маэстра глядела бледному псу в зенки, Свиттерс уже угодил к нему в лапы. Пособие по безработице заканчивалось, квартирка в домовладении так и не была продана, более того: Свиттерсу вскорости светило потерять право выкупа заложенного имущества, и он собирался с духом подступиться к Маэстре насчет ссуды. А теперь…
«А теперь в моем лесном домике станет проводить уикэнды эта законоведка, в то время как в отблеске моего обожаемого Матисса какой-нибудь безжалостный хищник-монополист будет строить зловещие планы насильственного поглощения фармацевтической фирмы, известного производителя возвышающего душу слабительного». Вышеприведенное, вместе с уместными подробностями и изъявлениями беспокойства по поводу бабушки, Свиттерс отослал по электронной почте Бобби Кейсу. Когда же Бобби не отозвался тотчас же, Свиттерс решил, что тот, надо думать, летает с Рискованной разведывательной миссией над Северной Кореей (предположительно именно это и подразумевало его новое назначение) либо по колено увяз в окинавской киске. (Скверный Боб был рад до экстаза снова оказаться в Азии, привет-привет, старина!)
Однако не прошло и двенадцати часов, как колокольчик электронной почты звякнул. «Черт! И почему эти желтопузые парки вечно набрасываются на престарелых! Как она?»
«Разумом и телом – ну, в том, что действительно важно, – Маэстро бодра и благополучна, – ответствовал Свиттерс, – хотя на данный момент голос старушки пугающе напоминает ее же дражайшего покойного попку. В финансовом плане из них двоих Морячок, пожалуй, в лучшем положении. Вот уж понятия не имел. Как выяснилось, она жертвовала крупные суммы наличными всяческим организациям, цели и названия которых не вполне ясны».
«Небось цэрэушные «крыши» все до единой, – отстучал Бобби. – Но этот ваш Матисс, которого перекати-поле вроде тебя вообще не заслуживал, если на то пошло, должен стоить миллионы и миллионы».
«Именно, миллионы. Если только тревога не подымется. И дело не только в том, что скорее всего подлинность его будет оспариваться, есть вероятность, что картина окажется украденным имуществом. Первый муженек Маэстры приобрел полотно при довольно туманных обстоятельствах. Как бы то ни было, сам я живу преходящими милостями мистера Кредитки и испытываю острейшую нужду в высокооплачиваемой работе. Я обязан уберечь Маэстру от дома престарелых, если до такого дойдет, и дать ей возможность жить в собственном особняке с ее гадкими компьютерами. Кроме того, я надумал осенью рвануть назад и призвать к ответу Сегодня Суть Завтра. По-моему, так одного года для двухдюймового просветления более чем достаточно. Переборщить не хотелось бы. Злоупотреблять гостеприимством Нирваны и все такое».
«Вот теперь ты дело говоришь, сынок! Я свяжусь с тобой, как только придет в голову светлая мысль-другая. А пока передавай старой благотворительнице мои комплименты и заверения в вечной любви».
И уже на следующий день Бобби снова вышел в сети с интригующим предложением.
«Если ты в состоянии и не прочь попутешествовать, Сам Знаешь Кто приготовил работенку для экс-агента с конкретно твоим опытом. 30 апреля. Отель «Тюль». Анталия, Турция. Сидишь и ждешь в вестибюле, не привлекая к себе излишнего внимания – справишься? – пока не услышишь, как рядом с тобой скажут: «Черт бы побрал далласских ковбоев!» Оплата: низкая. Риск: высокий. Но ты, я так понимаю, не откажешься, потому что острые ощущения практически неограниченны, а уж я-то знаю, до чего тебя тянет вернуться в игру». Атак ли? «Тянет», ache по-английски (от древне-верхне-германского ach! – восклицания боли) вернуться в «игру», по-английски – game (от индоевропейской основы gwhemb, «весело прыгать», как в английском gambol)! Безусловно, Свиттерс всегда воспринимал собственную деятельность, будь то официальную или неофициальную, на геополитической арене как игру: этакое сочетание регби, шахмат и покера и плюс еще малая толика русской рулетки для ровного счета. В то время как в такой игре решающих побед быть не могло – сверх элементарного выживания, – игрок зарабатывал очки всякий раз, как его подрывная деятельность расстраивала или отдаляла объединение сил в любом отдельно взятом лагере. В определенном смысле выигрыш заключался в том, чтобы помешать другим выиграть или хотя бы разжиреть на плодах своего триумфа.
Однако шесть месяцев в инвалидном кресле изменили его взгляды – пусть еле заметно, зато существенно. Когда живешь в двух дюймах над землей, ты к ней достаточно близок, чтобы ощущать земное притяжение, включаться в ее ритмы, признавать ее своим домом и не воспарять в некие эфирно-озоновые пределы, где ведешь себя так, словно твое физическое тело – это лишь избыточный багаж, а мозг – шар-метеозонд. С другой стороны, ты приподнят над землей ровно настолько, чтобы скользить над лихорадочными потугами и мелочным недовольством, коими одержимы бескрылые обыватели, барахтающиеся в тех мрачных миазмах, что грозят обесцветить их души до единообразного серого тона. Короче говоря, можно остро интересоваться делами мирскими и при этом оставаться благодушно отстраненным от их последствий.
У Свиттерса, если уж начистоту, энтузиазма по поводу запихивания палок в колеса геополитики отнюдь не убыло, но теперь, с высоты двух дюймов, он заморачивался конечным результатом не более, чем итогами лодочной регаты в сточной канаве с участием студенток-художниц. (Будь он к тому склонен – а он со всей определенностью не был, – он, пожалуй, провел бы параллель-другую между своим продвижением по жизни и вихлянием своих неуклюжих лодочек по замусоренным каналам рынка.) На самом деле он давно пришел к выводу, что инертность масс и продажность тех, кто ими беззастенчиво манипулирует, настолько глубоко укоренились, настолько разрослись, что ничего кроме чуда в буквальном смысле этого слова не обеспечит счастливого финала пребыванию человечества на этой планете, не говоря уже о той игре, в которую сам Свиттерс играл на» этом сомнительном поле. И тем не менее играть в игру, безусловно, стоило. Ради игры как таковой. Ради сиропа «Bay!», в ней заключенного. Во имя шанса, что тем самым возвысишь собственную душу.
Так что его, возможно, не то чтобы тянуло вернуться в игру, но и против он ничего не имел, ибо, не теряя времени, принялся выкручивать руки мистеру Кредитке, пока карточка, рыдая в три ручья, точно загнанный в угол осведомитель, не капитулировала-таки, и Свиттерс не получил-таки билет в один конец до Стамбула, а Маэстра – тяжелый серебряный браслет с изображением ворона (мотив, характерный для северо-запада Индии). В одном из рыночных тупичков потемнее он украдкой насладился прощальной скачкой на приспустившей кальсоны Дев, в то время как в нескольких ярдах оттуда у ее покинутого ларька покупатели, перетаптываясь на месте, постепенно перемещались за ту тонкую грань, что отделяет покупку от воровства, таская первую в сезоне мексиканскую клубнику. Свиттерс возместил ей ущерб из своего исхудавшего бумажника – чтобы братья не поколотили. И отбыл – дабы перед ним впервые предстал архангел…
– Одубон По. – Одетый во фланелевую рубашку и матросскую шапочку тип, произнесший это имя, торчал на тротуаре Пайк-стрит, сосредоточенно изучая автобусное расписание, все то время, пока Свиттерс залезал в такси, складывал кресло и втягивал его за собою. Это был моложавый, придурковатый, однако шустрый кавказец, изрядно смахивающий на Гектора Сумаха из города Лима, что в Перу. Но едва таксист дал гудок в знак того, что трогается, незнакомец внезапно всунул голову в окно машины, произнес имя По, сдвинул брови с тем обязательным неодобрительно-хмурым видом, что на самом деле – улыбка в штанах наизнанку, и покачал головой. – Он, знаете ли, контрабандой оружия занимается, – сообщил незнакомец – причем прозвучало это точно пикантная сплетня, а не предостережение и не обвинение. И столь же мгновенно исчез.
– В аэропорт, – бросил Свиттерс.
– Куда летите-то, сэр? – полюбопытствовал таксист.
– В Турцию.
– А? В Турцию? Далековато собрались. В отпуск небось?
– Да контрабандой оружия развлекаюсь, – прозаично отозвался Свиттерс, гадая про себя, откуда еще принесло этого агентишку и в какую такую пакость его втравил друг Бобби.
Часть 3
Перед лицом выбора между глупостью и святыней всегда выбирайте глупость – ведь мы знаем, что святыня нас к Господу не приблизит, а вот глупость – пожалуй.
* * *
Земля расстилалась перед ним словно пицца. Плоская топографически, шероховатая по текстуре, жаркая по температуре, красновато-желтая по тону, усеянная камнями цвета «пепперони» – а в тот момент еще и блестела, словно сбрызнутая оливковым маслом. Бесплодный сланец поглощал воду медленно, очень медленно; ручейки норовили стечь к любой впадине. Обладай эта земля разумом, она бы просто смаковала этот нежданный дождь – ведь в ближайшие добрых семь месяцев ей не светит ни капли влаги.
Позади, там, где он расстался с отрядом шаммарских бедуинов, запеченный «сыр» вспузырился низкими холмами, что постепенно делались все круче и круче, пока, дальше к западу, не вырастали до полноправной горной гряды со снежными шапками. К востоку, однако, «пиццу» ничего не разнообразило. То была великая сирийская пустыня, простиравшаяся в пределы Ирака, Иордании и Израиля, через весь Аравийский полуостров: то гумно, на котором душа человеческая под ударами цепа освобождается от мякины долгого созревания – для того лишь, чтобы окостенеть и иссохнуть, вырождаясь в догму тех самых идей, что питали ее и просеивали в бесконечной житнице пустыни, очистив от темной шелухи животной природы. Физическая сущность человека развивалась в море, и под ритмы океанов и по сей день подстраивается наша соленая кровь и волны дыхания, но лишь здесь, на прокаленных песках Среднего Востока, где Свиттерс ныне расположился на отдых, являла себя духовная сущность. Ибо ничто ее не отвлекало.
У Свиттерса голова шла кругом при осознании того, что он не просто остался в одиночестве, но еще и незрим. Его не видят – никто и ничто. В джунглях Амазонки, по контрасту, ни одно движение незамеченным не проходило, ибо как бы ты ни углублялся в чащу, как бы ни удалялся от своих собратьев и окружения, ты всегда представлял огромный интерес для сотни пар глаз: глаз-щелочек и глаз навыкате, глаз фасетчатых и налитых кровью, глаз шоколадного цвета или глаз ввалившихся, глаз, что наблюдали, сами оставаясь невидимыми; они прижмуривались, косили, выслеживали – сущий рай для перевоплощенных бойцов невидимого фронта. Однако здесь, в пустыне, наблюдали за тобою только боги. Неудивительно, что религия зародилась в здешних краях или что, к добру или к худу, в здешних краях она процветала.
Прохлада, пришедшая вместе с дождем, превратилась в сладкое воспоминание. Свиттерс парился, но не потел: испарина улетучивалась еще до того, как выкачивалась из пор. Воздух, жадно им вдыхаемый – с таким усилием катил он кресло по каменистой, изрытой, поросшей кустарником местности, – был настолько сух и невесом, что его дыхательной системой едва ли ощущался и легких почти не надувал, хотя вызывал внутри смутно отрадное ощущение легкого покалывания. Несмотря на всю свою бесплотность, воздух казался столь же живым, как земля – мертвой. Массируя себе запястья, Свиттерс, сощурившись, вглядывался сквозь тюль поднимающегося над землею зноя, пытаясь рассмотреть оазис, до которого оставалось еще более мили, и поневоле думал о том, насколько разительно отличаются эти голые, суровые, связующие с богами окрестности от видов на побережье Турции, где он ходил на яхте и потягивал «Дон Периньон» какими-нибудь тремя неделями ранее.
«Черт бы побрал далласских ковбоев!»
Свиттерс уже давно ждал этого высказывания, нервно вслушивался сквозь туман сбоя биоритмов после перелета через несколько часовых поясов, мигрени и неумолчной трескотни турок, всласть подзаправившихся кофе, – но он думать не думал, чтобы произнес его настолько отрывисто, открыто и подчеркнуто одетый в хлопчатобумажный костюм негр, что большими шагами приближался к нему, ступая по восточным коврам, и говорил по-английски со шведским акцентом.
– Черт бы побрал Нотр-Дам, – с надеждой откликнулся Свиттерс. Отзыва Бобби ему не назвал. – А также и лос-анджелесские «Лейкерс»[152]152
«Лейкерс» – баскетбольная команда Лос-Анджелеса.
[Закрыть] и нью-…
– Осторожно, приятель, – предостерег связник. – Скажешь гадость про «Нью-Йорк Янкиз»,[153]153
«Нью-Йорк Янкиз» – бейсбольная команда Нью-Йорка. Ниже: «Нью-Йорк Нике» – баскетбольная команда Нью-Йорка.
[Закрыть] мы с тобой крупно поссоримся. Эт точно, парень, факт.
– О, вот этого бы не хотелось. – С легким оттенком свирепости в своей усмешке, Свиттерс оглядел незнакомца с головы до ног. Достаточно подтянут для своих лет – ему, надо полагать, к пятидесяти, – только вот плечи сутулые, а руки с бессильно повисшими, точно лакричные плети, длинными чуткими пальцами, рыхлые и мягкие, без мозолей. – И все же…
– Никаких «и все же». У тебя багаж наверху? Отлично. Скажи посыльному, чтобы притащил его в бухту, где яхты. А сам двигай за мной. – Связник помолчал. – Я бы тебе пособил с этим креслицем, но если ты сам из вестибюля не выедешь, так ни черта не доберешься и туда, куда мистер По тебя зашлет. – Негр улыбнулся – впервые за весь разговор. – «Янкиз», вперед, – тихо проговорил он. – «Нике», вперед. Кстати, парень, клевый у тебя костюмчик.
Связником оказался Скитер Вашингтон, первый помощник легендарного Одубона По и в определенных кругах сам по себе – легенда, пусть и не из главных. Сын достаточно известной гарлемской пары джаз-исполнителей (мать – певица, отец – контрабасист), Луис Москит Вашингтон, накануне призыва завербовался добровольно, в 1969 году, после того, как сержант-вербовщик заверил, что тому прямая дорога в военный оркестр. Вместо того он угодил в пехоту и был отправлен во Вьетнам. Был ранен и, едва оправившись, получил приказ возвращаться на боевые позиции сразу по истечении недельного отпуска в Токио. Он дезертировал, отдался на милость группы радикально настроенных японских пацифистов, спустя месяц или около того объявился в Швеции, где и прожил с четверть века, зарабатывая деньги и славу как пианист в стиле бибоп.[154]154
Боп/Вор – джазовый стиль, сложившийся к началу 40-х гг. (известен также под названиями «бибоп», «бибап», «рибап», «минтонс-стиль»). Боп пришел на смену свингу, возникнув как новое, экспериментальное направление негритянского джаза малых ансамблей (комбо). Боп характеризуют модернизация старого хот-джаза, культ свободной сольной импровизации, новаторство в области мелодики, ритмики, гармонии, формы и других выразительных средств. Боп считается первым значительным стилем современного джаза.
[Закрыть] Пару лет назад, все еще пылая возмущением при мысли об ужасах, что творили в Юго-Восточной Азии кровожадные американские психопаты, и о своем вынужденном участии в таковых, он отыскал Одубона По и предложил свои услуги – хотя ни Скитер, ни кто-либо еще не знали доподлинно, чем именно Одубон По занимается, кроме как поставляет международным службам новостей постоянный источник информации, дискредитирующей «оборонную» индустрию и ЦРУ. Однако могли человек, родившийся и выросший в Новом Орлеане, отказаться от услуг джаз-пианиста?
– Гм… мне, пожалуй, стоит поставить вас в известность, что контора об этом вроде бы в курсе, – сообщил Свиттерс, пока они ждали на пристани, когда носильщик притащит из отеля чемоданы.
– О чем об этом?
– Ну, что я сюда еду. На встречу с По.
– А, фигня.
– Но разве за его голову не назначена награда?
– Может, да, а может, и нет. Старина По, он сам давным-давно распустил слух, что он – в цэрэушных списках «на уничтожение». После этого правительство и пальцем его тронуть не смело. Во всяком случае, каким-нибудь самоочевидным, насильственным способом его не шлепнешь. Ну, наверное, всегда можно подсунуть ему какую-нибудь пилюлю на предмет сердечного приступа или что-нибудь в этом роде. Но Анна не дремлет: всегда прокрадется и тайком попробует его еду, прежде чем По проглотит хоть кусочек.
– Кто такая Анна?
– Его пятнадцатилетняя дочурка.
Свиттерсово адамово яблоко затрепыхалось в глотке, точно угорь в верше. «Господи милосердный! – подумал он. – Почему Бобби не предупредил меня?»
Эспланада вдоль морского берега в Анталии, одна из самых красивых на всем Средиземноморье, была построена на месте древнеримской гавани близ восстановленной турецкой деревушки. От ее главной пристани под сенью осыпающихся руин моторка доставила Вашингтона и Свиттерса на белую девяностофутовую красавицу-яхту «Тривиальность зла», вставшую на якорь где-то в полумиле от берега.
Судно, сверкающее вдалеке точно зубы миллионера, принадлежало некоему обосновавшемуся в Бейруте французскому подданному по имени Соль Глиссант, каковой сколотил порядочное состояние, отстраивая заново плавательные бассейны Ливана после войны, за что и получил прозвище Бассейновый Паша Левантийский. В силу неких своих причин Глиссант передал «Тривиальность зла» в распоряжение Одубона По, а тот вел себя так, словно яхта и в самом деле принадлежала ему, – и на практике так оно, по сути дела, и было.
Свиттерса проводили в отдельную каюту, дали время «привести себя в порядок» (кодовое название для «технического обслуживания»), а затем призвали на палубу, где ему вручили бокал с шампанским – здоровенным, что твой аквариум, – причем никто иной, как По собственной персоной. Подобно Вашингтону, По с ног до головы был одет в хлопчатобумажную ткань, но его точеные, резкие, птичьи черты, его приглаженные назад серебристо-седые волосы, аромат его одеколона, в сравнении с которым Свиттерсова «Страсть джунглей» казалась такой же дешевкой, как явствовало из названия, и ирония в его учтивой, уверенной, чуть подрагивающей улыбке создавали ощущение аристократичности, благодаря чему ширпотребовский синий хлопок превращался в курортный костюм, сшитый по заказу графа с Ривьеры.
– Итак, вы – Свиттерс, – промолвил По с легким акцентом южанина, который неким непостижимым образом лишь придавал ему утонченности. – Последнее, что я о вас слышал, это что вы висите головой вниз над Багдадом.
– Сдается мне, вы меня путаете с моим приятелем Кейсом, – запротестовал Свиттерс, потягивая шампанское. – В то время как я провел немало отрадных часов в прекрасном Ираке, мои перипатетические пристрастия ограничивались его наземными поверхностями.
По окинул его исполненным любопытства взглядом.
– Понимаю. Пожалуйста, простите мою погрешность против хорошего тона. Но ведь это вы – тот самый джентльмен, который может назвать главное женское сокровище на семидесяти пяти языках?
– На семидесяти одном. – «Господи милосердный, – подумал про себя Свиттерс, – неужто этим и исчерпывается моя слава? То единственное, по чему люди меня запомнят? Мои прочие достижения – академические, спортивные и политические – затмевает легковесная развлекаловка с лингвистической дребеденью? Возможно, этот факт и на моей надгробной плите начертают, если я, конечно, проживу достаточно долго, чтобы ею разжиться».
– Я, лично, раскопал шведский вариант, – встрял Скитер Вашингтон.
– О да, – подхватил Свиттерс. – Slida. Один из моих любимых. Благодаря ономатопее.
Скитер озадаченно нахмурился, и По поспешил ему на выручку.
– Вы должны извинить мистера Вашингтона. Ему давно не приходилось иметь дела с английским. Да что там, мне пришлось самому обучать его эбонийскому,[155]155
то есть так, как изъясняются чернокожие американцы на страницах журнала «Эбони», предназначенного именно для этой читающей аудитории.
[Закрыть] и, как вы, должно быть, заметили, он в нем пока что не силен. Изъясняется главным образом словечками: «Ба, нуты, блин, даешь». – Рассмеявшись, он обернулся к приятелю. – Скит, «ономатопея» – это когда название дается по созвучию.
– Slida, – кивнул Свиттерс. – А по-японски искомый орган именуется почти столь же ономатопично: chitsu.
– Ara, тоже неплохо.
– Да уж куда предпочтительнее японского названия мужского эквивалента: chimpo. Наводит на мысль о дрессированной обезьянке в бродячем цирке.
– Не знаю, как уж насчет твоего, – заметил Скитер, – но мой хрен по большей части ведет себя в точности как цирковая обезьянка.
– Джентльмены, не сменить ли нам тему? – предложил По. – Анна вот-вот поднимется на палубу с закусками.
К делу мужчины приступили не сразу. По правде говоря, прошло не менее трех дней, прежде чем Свиттерса сводили вниз, в трюм, и показали ему контрабандный товар, переправляемый По и Вашингтоном. Между тем яхта огибала знаменитый турецкий Бирюзовый берег, грациозно скользя по водам цвета Сюзиных глаз, из их прозрачных глубин поднимались сказочные нагромождения скал и игривые дельфины. Мужчины смаковали шампанское Соля Глиссанта, ужинали свежей рыбой, сваренной в виноградных листьях и поданной в соусе с каперсами, и любовались закатами, в то время как Скитер, по просьбе захмелевшего Свиттерса, бренчал на фортепьяно в гостиной сногсшибательные бибоп-вариации мелодий из бродвейских мюзиклов. Периодически они беседовали на деловые темы – например, дивились промеж себя заносчивости и нехарактерной глупости израильского «Моссада» в его недавней дилетантской попытке ухлопать одного из популярных лидеров ХАМАС в пределах Иордана.
– Это лишь доказывает, – заметил По, – что ковбои всегда ковбои, иудейские или…
– Или гоибои, – подсказал Свиттерс.
– Ковгои, – поправил Вашингтон.
– Еще шампанского, папочка? – осведомилась юная Анна.
Анна оказалась хрупкой сильфидочкой с целой галактикой веснушек на озорном личике беспризорницы, с темно-русыми волосами, заплетенными в висячие косички, и грудками чуть больше ее же кулачков. Она так и искрилась невинной кокетливостью, и Свиттерс, когда не пил в компании мужчин, делил свое время напополам: то из кожи вон лез, чтобы не остаться с ней наедине, то жадно подглядывал, пока она, сняв лифчик, загорала на корме.
Свиттерс предположил, что на воде запретительное табу не действует и он свободен перемещаться по яхте на своих на двоих. Однако ж, поскольку ему не хотелось объяснять свое положение хозяевам, он остался в кресле. Из почтения к судьбам он не покидал кресла, даже оставаясь в одиночестве. Тем не менее он приободрился, ибо ему пришло в голову, что, даже если проклятие снять не удастся, в самом худшем случае он, вероятно, сможет провести остаток жизни на борту корабля, будь то судно класса «Тривиальности зла» или корыто в духе «Маленькой Пресвятой Девы Звездных Вод». Вторая разновидность, как сам он про себя признавал, – перспектива куда более вероятная, хотя места для ходьбы там едва ли больше, чем на двуспальной кровати в Сиэтле.