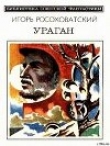Текст книги "Ураган"
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Но как только Хауптвангер добился своего и его беспокойная, тщеславная натура удовлетворилась новой победой, уже пресытясь, движимый вечной, лихорадочной, неподвластной ему жаждой новых ощущений, а также страхом потерять свою свободу, он кинулся искать чего-нибудь поновее, новых связей, которые были бы не так опасны. Ведь в конце концов Ида – еще одна девушка, еще одно приключение, и не так уж отличается от всех прежних. А ведь он был совсем околдован ею до того, как она уступила. Он сам не понимал этого. Не мог понять. Да он и не утруждал себя размышлениями. Но так оно было. Не то чтобы он боялся, что ему уже сейчас грозят неприятные последствия, которые заставят его жениться, – напротив, он твердо решил никогда, ни в коем случае не брать на себя таких обязательств.
Но вот прошли июль и август и после многих, многих счастливых часов – роковое признание. Она боится, что с нею что-то неладно. У нее за последнее время какое-то странное состояние – такая тоска, все что-то неможется, все чего-то страшно... Может быть, с ней случилась беда? Как он думает? Могло это случиться? Она ведь во всем его слушалась. А если это так, что же ей тогда делать? Он женится на ней? Если это правда, он просто должен. Другого выхода нет. Отец... он придет в бешенство... Ей так страшно! Она больше не может жить дома. Может быть, теперь... может быть, они теперь поженятся, если это правда? Ведь он говорил, что женится, если это когда-нибудь случится, не так ли?
Хауптвангер почувствовал тревогу и холодное раздражение. Жениться! Подумать только! Невозможно! А его отец! А его вольная, беспечная жизнь! А его будущее! И потом, откуда она знает? Разве она может быть уверена? И если даже это правда? Другие девушки справляются с этим без особых хлопот. Почему она не может? И разве он не был осторожен? Она слишком легко пугается, слишком неопытна, ей не хватает смелости. Он знает сколько угодно случаев, когда девушки легко выпутывались из подобных историй. Он сперва постарается что-нибудь придумать.
И она вдруг почувствовала, что он стал каким-то чужим и холодным, – она никогда раньше не видала его таким, – а все потому, что он решил оборвать эту опасную связь, чтобы не увеличивать свою ответственность. Ему очень хотелось держаться подальше. Мало ли на свете девушек! Сколько угодно. Совсем недавно он встретил одну более опытную и искушенную в любовных делах, она-то вряд ли станет для него обузой!
Но, с другой стороны, его отец, такой же строгий, как Зобел, и его мать... веря в его порядочность, они, наверно, сочтут поведение сына небезупречным. И потому он попытался как можно скорее и деликатнее выпутаться из опасного положения. Правда, сперва он добросовестно, хоть и с досадой, пробовал через друзей и приятелей найти какое-нибудь верное средство. Но достиг только того, что все поняли: его веселое и удачное приключение кончилось весьма неудачно для Иды. А потому они теперь все переглядывались, перемигивались и подталкивали друг друга, стоило ей пройти по улице. А Ида, стыдясь своего позора, почти не выходила из дому, а если ей приходилось выйти, старалась избегать перекрестка Уоррен-авеню и Хай-стрит. Тайный страх терзал ее; строгий и безжалостный образ отца угрожающе стоял перед ней, и она чувствовала, что силы покидают ее. Она знала, что отец строг, беспощаден, неумолим. Что же ей делать? Ведь пока она принимала это бесполезное средство, которое достал ей Эдуард, можно было только ждать. И ожидание кончилось лишь еще бóльшим ужасом. И все время – опостылевшая работа в лавке, опостылевшие домашние заботы, попытки увидеть любимого... а ему новые и весьма неотложные дела все больше мешали где бы то ни было и когда бы то ни было встречаться с нею.
– Но разве ты не понимаешь, милый, что так продолжаться не может? Я больше не могу, неужели ты не понимаешь? Ведь ты говорил, что женишься на мне. Подумай, прошло уже столько времени. Я просто с ума схожу. Ты должен что-то сделать. Должен! Должен! А если узнает отец, что же тогда будет? Что он со мной сделает, да и с тобой! Неужели ты не понимаешь, как это страшно?
Но Хауптвангер спокойно выслушал полную муки мольбу обезумевшей и все еще любящей девушки, и в этом спокойствии было не только равнодушие, но и жестокость. Черт бы ее побрал! Он не женится. Он не может. Он должен непременно избавиться от нее. Он пытался не встречаться с ней больше – никогда не разговаривать с ней на людях и вообще держаться подальше. Но Ида никак не хотела поверить в это, она была слишком неопытна, молода и все еще слишком верила в него. Это невозможно. Она никогда не подозревала, что он такой. Но теперь он так равнодушен – этому может быть только одно объяснение. Он избегает ее... и эти отговорки... И вот однажды, когда тоска и ужас овладели ею и погнали ее к нему, он сказал, спокойно и нагло глядя ей прямо в глаза:
– Да я вовсе и не обещал жениться на тебе. Ты это прекрасно знаешь. И потом ты сама виновата не меньше моего. Ты что же воображаешь – ты не умеешь сама о себе позаботиться, а я должен на тебе жениться? Так, что ли?
Его взгляд впервые стал по-настоящему жесток. Он твердо решил одним ударом покончить со всей этой историей. И удар был достаточно силен, чтобы едва не свести с ума романтическую и пылкую девочку, до последней минуты так безрассудно верившую в любовь. Нет, этого не может быть! Какой ужас! И неминуемая катастрофа... Все еще отказываясь верить, теряя голову, она воскликнула:
– Но, Эд, послушай, что ты говоришь? Ведь это неправда! Ты сам знаешь! Ты обещал. Ты клялся. Ты же знаешь, я не хотела, ты заставил меня. Ну, что мне делать? Отец... Не знаю, что он со мной сделает и с тобой тоже. Боже мой! Боже мой!
Не находя слов, чтобы убедить его, она, как безумная, в каком-то исступлении ломала руки.
Тут Хауптвангер окончательно решил как следует припугнуть ее, чтобы она отстала от него раз и навсегда.
– Да брось ты! – крикнул он. – Я никогда не говорил, что женюсь, и ты это знаешь. – Он повернулся на каблуках и отошел к стоявшей на углу оживленной компании молодых людей, с которыми болтал до ее прихода. И чтобы утвердиться в своем решении и показать приятелям, что он разделался со всем этим, добавил: – Ох уж эти юбки! Чертям от них тошно!
Однако при всем своем тщеславии и заносчивости он был немного испуган тем, что дело принимает неприятный оборот. Но все-таки, когда Джонни Мартин, его приятель, тоже претендент на славу местного Дон Жуана, заметил: «Я видел, она тебя тут вчера искала, Эд. Гляди в оба. Доведут тебя эти юбки когда-нибудь до беды», – он спокойно вынул папиросу из серебряного портсигара и, даже не взглянув на помертвевшую Иду, сказал:
– Вот как? Ну, что ж. Это мы еще посмотрим. – И затем, небрежно кивнув в сторону Иды, настолько измученной, что у нее не было сил уйти, добавил: – Уж эти немки! Выросла у своего папаши дура дурой, а теперь вообразила, что с ней неладно, и я же виноват!
Как раз в это время подошел еще один его приятель и сообщил, что две девицы, с которыми они собирались встретиться, ждут их.
– Ну как, Скэт? – весело спросил Эдуард. – Все в порядке? Тогда ладно, пошли. Пока, ребята. – И он ушел быстрой и уверенной походкой.
Но разбитая, потрясенная Ида все еще медлила под почти уже обнаженными сентябрьскими деревьями. Мимо нее проносились трамваи и автомобили; их гудки и звонки, громкий говор прохожих, шарканье ног, сверкающие вечерние огни – все сливалось в оглушающем хаосе звуков и красок. Какой холод! Или это только ей так холодно? Он не женится на ней! Он и не обещал никогда! Как мог он это сказать? А теперь ей придется иметь дело с отцом... и тут еще ее состояние...
Она все стояла, не шевелясь, и вдруг перед нею мгновенным видением возникла летняя ночь в Кинг-Лейк парке – тропинки и скамьи, лодки, скользящие под деревьями... в каждой двое: юноша и девушка... И весла бесцельно лежат на воде... и одурманенные любовью головы склоняются друг к другу... сердца бьются так неистово, что перехватывает дыхание... А теперь... после стольких поцелуев и обещаний все оказалось ложью: ее мечты... ее слова... его слова, которым она так верила... ложью были часы, дни, недели, месяцы невыразимого блаженства... ложью были ее надежды – и не сбудутся ее мечты – никогда. Нет, лучше умереть... умереть.
Еле передвигая ноги, она медленно вернулась домой и, пользуясь отсутствием отца и мачехи, проскользнула к себе, легла и думала, думала... Ее бросало то в жар, то в холод, и страшная боль, вызванная жестоким потрясением, пронизывала ее. И вдруг – приступ негодования, такого острого, какого она никогда еще не испытывала. Какая жестокость! Какая жестокость! И какое вероломство! Он не только лгал, он еще и оскорбил ее. А ведь всего пять месяцев назад он так добивался ее внимания, так смотрел, так улыбался! Обманщик! Негодяй! Чудовище! Так думала она, и в то же время ей страстно хотелось не верить этим мыслям, вернуться на месяц, на два, на три назад, найти в глубине его глаз хотя бы намек на то, что могло бы опровергнуть эти страшные мысли. Ах, Эдуард!
Так прошла ночь, наступил рассвет. И потом – тяжкий, мучительный день. И еще такие же дни. И не с кем поговорить, – ни души. Если бы она могла рассказать все мачехе! И еще дни и ночи – такие одинокие. И вихрь беспорядочных, слепящих, обжигающих мыслей; они преследовали ее, как стая демонов. Что станут говорить, если с нею в самом деле стрясется такая беда? Ее неопытность еще усиливала страх. А эти зеваки на улицах, провожающие ее наглыми взглядами и насмешками... знакомые девушки... что они подумают, ведь скоро они все узнают. Как одиноко ей будет без любви. Эти и сотни подобных мыслей проносились в ее мозгу в фантастической пляске смерти.
И все же в ее сознании крепла неотвязная мысль, что все услышанное ею – неправда, что это ей только померещилось и она еще сумеет уговорить его, разжалобить. Милый, любимый! Не может быть, чтоб они больше не смогли понять друг друга. И, однако, с каждым часом она все яснее понимала, что никакими просьбами и мольбами не вернуть его былой нежности. Она писала ему записки, поджидала его на углах, в дальнем конце улицы, ведущей к угольному складу его отца, подле его дома... и что в ответ? – молчание, увертки, а то и прямое оскорбление и насмешки.
– Чего это ты вздумала ходить за мной по пятам? По-твоему, мне больше делать нечего, только слушать тебя? Я тебе сразу сказал, что не женюсь. А теперь ты вообразила, что с тобой неладно, и хочешь взвалить все на меня. Ну, знаешь, крутом и без меня парней достаточно, это всем известно.
Тут он замолчал, увидев, что его последние слова пробудили в ней силу и решимость, которых он в ней и не подозревал. Брошенное им оскорбление потрясло ее до глубины души. Лицо ее вдруг совсем побелело, в глубине зрачков вспыхнули гневные искры.
– Это ложь! Ты же знаешь, что это неправда! Какой ужас! Как ты мог сказать такое! Теперь я все понимаю. Ты просто подлец и трус! Значит, ты просто обманывал меня все время. Ты никогда и не собирался жениться на мне, а теперь ты струсил и хочешь увильнуть, хочешь все свалить на кого-то. Негодяй, да еще мелкий негодяй! И это после всех твоих слов, после всех обещаний! Как будто я хоть раз в жизни подумала о ком-нибудь другом! Ты это прекрасно знаешь – и ты осмелился сказать мне такую вещь!
Она все еще была смертельно бледна, и даже руки побелели. Глаза ее были полны предельного, беспомощного и бессильного страдания. Но, несмотря на все, сквозь гнев и страдание пробивалась любовь – властная, пламенная, всепоглощающая! И это было так мучительно, что слезы выступили на глазах девушки.
И прекрасно зная, что эта любовь еще жива, он тотчас придрался к ее справедливым словам и решил прикинуться обиженным.
– Ах, вот как? Я трус? Ладно, посмотрим, что ты на этом выиграешь, дуреха. – И, круто повернувшись, он пошел прочь. В эту минуту он думал только об одном – как бы не уронить себя в глазах здешних обывателей. Он даже не оглянулся.
– Эд! Эд! Вернись! – крикнула Ида в безмерном страхе и отчаянии. – Ты не смеешь вот так бросить меня! Я не допущу этого. Говорю тебе, не допущу. Вернись, сейчас же! Слышишь? – Но он быстро уходил, не слушая ее. Вне себя, почти не сознавая, что делает, она бросилась за ним. Удивленный и обеспокоенный ее угрожающим тоном, он резко повернулся к ней:
– Слушай, ты! Брось дурить, а то я тебе покажу, слышишь? Тебе не удастся втравить меня в это дело. Не на такого напала. Сама во всем виновата, сама и выпутывайся. Убирайся, пока я с тобой не расправился, слышишь?
Он подошел ближе и посмотрел на нее с таким бешенством и угрозой, что впервые за все время их знакомства Ида по-настоящему испугалась его. Какое у него злое, мрачное лицо. Какие жестокие, бешеные, свирепые глаза. Неужели, в довершение всего, он и на самом деле может ударить ее? Стало быть, она совсем не знала его. И она застыла, не шевелясь, – ее охватил тот же страх перед грубой физической силой, который заставлял ее беспрекословно повиноваться отцу. А Хауптвангер, видя, как подействовала на нее его яростная вспышка, прибавил:
– Не смей больше подходить ко мне, слышишь? Я так тебя отделаю, что не обрадуешься. Хватит с меня. Кончено – раз и навсегда.
Он снова повернулся и решительно, не оглядываясь, зашагал прочь, по направлению к центру города, к Хай-стрит и Уоррен-авеню, а Ида осталась стоять неподвижно, слишком потрясенная, чтобы собраться с силами и ясно понять, что ей теперь делать. Какой ужас! Позор! Стыд! Теперь она, конечно, погибла.
Но нельзя привлекать к себе внимания... и она пошла медленно, очень медленно... ее шатало от вихря беспорядочно сталкивающихся мыслей. И вот, дрожащая и бледная, она снова вернулась домой и незаметно проскользнула в свою комнату. Она слишком измучилась, чтобы плакать, и только думала – то мрачно, даже яростно, то беспомощно и бессильно – обо всем, что произошло.
Отец! Мачеха! Если... если они узнают. Но нет – что-то должно случиться прежде, чем случится это. Она должна уйти. Или нет... может быть, утопиться... как-то исчезнуть... или...
На чердаке, куда она ребенком часто забегала поиграть, висела старая веревка, на которую иногда вешали белье. А что, если... теперь, когда рухнули все ее надежды... может быть... она когда-то читала, что одна женщина покончила с собой вот так же... И едва ли кто-нибудь заглянет сюда, прежде чем... чем...
Но способна ли она на это? Может ли она это сделать? А зарождающаяся в ней жизнь, которая так ее пугает? Имеет ли она право оборвать эту жизнь? И свою? Имеет ли право разрушить то, что даровано ей самой жизнью? И ведь ей так хочется жить! Притом обязан же Эдуард сделать для нее что-нибудь, помочь ей, помочь ее... ее... Нет, она не может... она даже не станет больше думать об этом... и потом, умереть так – значит только дать ему полную свободу для новых легких и радостных побед. Нет, ни за что! Она убьет сначала его, потом себя. Или изобличит его перед всеми... а значит, и себя... и тогда... тогда...
Да, но отец! Мачеха! Позор! И вот...
В лавке, в ящике письменного стола, лежал револьвер – большой, неуклюжий, отец говорил, что из него можно выстрелить восемь раз подряд. Он был такой тяжелый, тусклый, холодный. Она видела его, трогала, даже как-то взяла его в руки, но с таким страхом... Он всегда наводил на мысль о смерти, о гневе, только не о жизни. Но теперь – если... если она решится наказать Эдуарда и себя... или себя одну. Нет, это не выход. Так где же выход? Где?
Она все думала и думала, в каком-то мучительном исступлении, пока отец, заметив ее необычное состояние, не осведомился, что с нею происходит в последнее время. Не поссорилась ли она с Хауптвангером? Что-то его давно не видно. Или, может быть, она больна? У нее совсем пропал аппетит. Она почти ничего не ест. Услышав в ответ на оба вопроса торопливое «нет», он не вполне удовлетворился этим, однако решил больше не расспрашивать. Тут, конечно, что-то кроется, но несомненно это скоро разъяснится.
Раз отец уже почуял неладное, значит нужно действовать... решать. И вот из мыслей о самоубийстве, о револьвере возникло решение: она попробует пригрозить Хауптвангеру. Она только напугает его. Может быть, даже прицелится в него – и посмотрит, что он станет делать. Конечно, она не сможет убить его – она знала это. Но если... если прицелиться... нет, нет, не в него... и... и... вспышка огня, дымок, смертоносная пуля ему в сердце... потом, конечно, себе. Нет, нет! Ведь потом... что потом? Куда?
Сколько раз за эти два дня она подходила к ящику, смотрела на револьвер, наконец подняла его – просто так, не думая. Он был такой тяжелый, холодный, тусклый. Самый вес его и назначение приводили ее в ужас; однако после многих тщетных попыток ей удалось, наконец, надежно спрятать его на груди. Это было ужасно – холод у сердца, где прошлым летом так часто покоилась голова Эдуарда.
И вот однажды, когда у нее уже не хватало сил выносить мучительное напряжение, отец спросил:
– Что с тобой? Ты, кажется, вовсе не соображаешь, что делаешь. Может быть, у тебя разладилось с твоим кавалером? Что-то он больше не бывает у нас. Пора уже тебе выйти за него замуж, либо совсем перестать с ним встречаться. Я не допущу никаких глупостей между вами.
И эти слова заставили ее принять то решение, которого она больше всего страшилась. Теперь... теперь... нужно действовать. Сегодня же она должна по крайней мере увидеться с ним и сказать, что пойдет к его отцу и откроет ему все... и что если Эдуард не женится на ней, она убьет и его и себя. Может быть, она покажет ему револьвер... пригрозит ему... если сможет... но, кроме угроз, в последний раз попробует подействовать на него мольбами. Если только... если только он выслушает ее на этот раз, не обозлится... может быть, он испугается и поможет ей, а не накинется на нее с бранью, не прогонит.
Это произойдет возле угольного склада его отца, в конце переулка, ведущего к реке, или около его дома. Сначала она пойдет к конторе склада. Он наверняка выйдет оттуда в половине шестого и в шесть будет около дома. В семь или в половине восьмого он опять уйдет, скорее всего на свидание... на свидание... с кем? Но лучше... лучше пойти сначала к конторе. Оттуда он должен выйти один. Так будет скорее.
Хауптвангер вышел в этот вечер из конторы с видом и настроением человека, очень довольного собой и всем светом. Был ветреный ноябрьский вечер; дуговые фонари сверкали в отдалении; доносились далекие гудки автомобилей, шум далекой жизни; ветер гнал по земле сухие листья. И вдруг из-за сложенных кирпичей, мимо которых он обычно проходил, появилась женская фигура в знакомой накидке.
– Одну минуту, Эд, мне надо поговорить с тобой.
– Опять ты! Какого черта! Я же сказал тебе: у меня нет времени, и я вовсе не желаю с тобой разговаривать.
– Слушай, Эд, перестань. Я в отчаянии. Я в отчаянии, Эд, слышишь? Неужели ты не понимаешь? – голос ее прерывался, звучал пронзительно и вместе с тем скорбно. – Я пришла сказать, что теперь ты должен жениться на мне. Ты должен– слышишь?
Она нащупала на груди тяжелый, громоздкий револьвер – теперь уже не такой холодный. Рукоятка торчала кверху. Теперь надо вытащить его... показать Эду... или держать под накидкой наготове, чтобы, когда понадобится, можно было сразу вынуть... и заставить его понять, что если он ничего для нее не сделает... Но рука у нее так дрожала, что она едва могла держать револьвер. Он был такой тяжелый, такой страшный. Почти не слыша собственного голоса, она продолжала:
– А то я пойду к твоему отцу и к своему. Даже не знаю, что мой отец со мной сделает, это будет ужасно, но тебе будет еще хуже. И твой отец тоже не спустит, когда узнает. Но все равно... – Она хотела прибавить: «Ты должен жениться на мне и поскорей, или... или... я убью тебя и себя, вот и все», – и потом достать револьвер и угрожающе помахать им перед лицом Эдуарда.
Но она не успела. Ничего не подозревавший Эдуард в бешенстве накинулся на нее!
– Вот нахальство! Брось это, слышишь? Ты что о себе воображаешь? Что я говорил тебе? Ступай к моему отцу, если тебе так хочется. И к своему. Не испугаешь! Думаешь, что они поверят такой... как ты? Никогда у меня с тобой ничего не было, вот и все! – И он с силой толкнул ее, рассчитывая, что она испугается и уйдет. И тут, наперекор ее желанию не причинять ему зла, внезапная вспышка ярости и боли ослепила ее огненным вихрем искр, перед глазами пошли круги – стремительные, багровые и странно красивые... И окаймленное ими лицо Хауптвангера, ее возлюбленного... но не такое, как сейчас, нет, нет... окруженное странным сиянием... таким она видела его весной, под деревьями Кинг-Лейк парка... Она повернулась и в исступлении кинулась к нему:
– Ты женишься на мне, Эд! Женишься! Вот, видишь? Ты женишься!
И вот, к величайшему удивлению обоих, так неожиданно, что они даже не очень испугались, револьвер с громким шумом изрыгнул пламя и едва не вырвался из ее руки... и прежде, чем она успела отвести его, раздался еще выстрел, еще раз вспыхнул огонь в полумраке. Мгновение Хауптвангер, безмерно изумленный, не мог вымолвить ни слова, потом вскрикнул:
– Господи! Что это ты... – И, ощутив острую боль, поднял руку к груди. – О, черт! Застрелила... – и упал ничком у ее ног...
Багровые искры все еще кружились у нее в мозгу, перед глазами: «Вот теперь... теперь... я должна убить себя тоже. Должна. Должна. Убежать куда-нибудь... и выстрелить в себя...» – но она была не в силах поднять револьвер... а кто-то уже приближается... голос... шаги... кто-то бежит сюда... она тоже хотела бежать – под деревья, в ворота, за угол, куда-нибудь, где она сможет выстрелить в себя. Но кто-то кричит: «Держи ее! Убийство!» И еще, откуда-то с другой стороны: «Стой! Убийство! Держи ее!» И быстрые, тяжелые шаги за спиной. Кто-то схватил ее за руку, все еще бессознательно сжимавшую револьвер. Чья-то рука разжала ей пальцы! «Отдай револьвер!» И какой-то крепкий парень – она его никогда прежде не видела, но он чем-то походил на Эдди – взял ее за плечи и повернул к себе.
– Послушай, ты! Какого черта! Иди-ка, иди. Хочешь удрать? Не выйдет.
И все же глаза его смотрели беззлобно, и сильные руки держали ее не слишком грубо.
– Пустите меня! Пустите! – закричала она. – Я тоже хочу умереть, слышите? Пустите! – и зарыдала без слез, содрогаясь всем телом.
И сразу же ее окружила толпа – откуда-то набежали мужчины и женщины, мальчишки, девчонки и, наконец, полиция, и каждый полицейский твердо знал, что ему надлежит получить возможно больше сведений о происшествии, проследить, чтобы раненый был немедленно доставлен в больницу, а девушка – в ближайший полицейский участок, и записать имена и адреса нескольких свидетелей. А несчастная, обессилевшая Ида сидела в оцепенении на крыльце какого-то дома, во дворе, окруженная теснящейся толпой, и в ушах у нее отдавались голоса:
– Где? Что? Как?
– Да, да! Только сейчас, на этом самом месте.
– Понятно, вызывают скорую помощь.
– По-моему, ему крышка. Две пули в грудь. Не выжить ему.
– Гляди, он весь в крови!
– Ясно, это она. Из револьвера – из огромного! Полисмен забрал его. Она хотела удрать. Но Джимми Аллен поймал ее. Он как раз подходил к дому.
– Да-а. Это дочка старика Зобела, у него москательная лавка, недалеко, на Уоррен-авеню. Я ее знаю. А он сын Хауптвангера, это вот его угольный склад. Я у него работал. Он живет на Грей-стрит.
А тем временем молодой Хауптвангер в бессознательном состоянии был доставлен прямо на операционный стол в ближайшую больницу и там признан безнадежным, – ему оставалось жить двадцать четыре часа, не больше. Узнав о случившемся, его отец и мать кинулись туда. А измученную Иду доставили в полицейский участок на Хендерсен-авеню – там, в задней комнате, ее тесно обступили полицейские и сыщики и стали засыпать вопросами:
– Так, говорите, вы с этим парнем познакомились примерно год назад? Это верно? Скоро после того, как он сюда переехал, так, что ли? – И безутешная Ида, почти теряя сознание, только кивала в ответ. А за стеной – толпа, жадная до сенсаций, охваченная нездоровым любопытством. Красивая девушка! Молодой человек при смерти! Преступление на любовной почве!
А между тем Зобел и его жена, которых известил о происшедшем дюжий полицейский, бледные, до смерти перепуганные, побежали в участок. Господи! Господи! Они ворвались туда, едва переводя дыхание. У Зобела выступили на лбу капли пота и даже ладони стали влажными; горе, горе жестоко терзало его. Как! Его Ида кого-то застрелила! Молодого Хауптвангера! Да еще на улице, возле конторы. Убийство! Великий боже! Значит, между ними что-то было. Да, да. Как же он не заметил? Она была такая бледная в последнее время, казалась такой угнетенной, несчастной. Этот мальчишка соблазнил ее, вот что. Проклятие! Соблазнил! Обманул! Негодяй! А ведь он внушал ей, как надо себя вести! Он и жена так о ней заботились! Что скажут соседи? Что будет с торговлей? А полиция, суд! Может быть, приговор, смертный приговор! Боже правый! Его родная дочь! А тот мерзавец, такой вылощенный, франтоватый... Зачем, зачем он позволил ей встречаться с ним! Ведь он должен был предвидеть... его дочь так неопытна...
– Где она? Боже мой! Боже мой! Какой ужас!
И вот он увидел ее – такую жалкую, без кровинки в лице; когда он заговорил с ней, она взглянула на него пустым взглядом и беззвучно сказала:
– Да, я застрелила его. Да. Да. Он не хотел жениться на мне. Он должен был, но не захотел – и вот... – и тут она вдруг в безысходной тоске стиснула руки и разрыдалась: – Эд! Эд!
– Боже мой! – воскликнул Зобел. – Ида! Ида! Побойся бога, этого не может быть. Почему ты не рассказала мне обо всем? Почему ты не пришла ко мне? Ведь я твой отец! Я бы все понял. Да, конечно! Я бы пошел к его отцу... к нему... А теперь... теперь... – Он в отчаянии ломал руки.
Однако сильнее всего старика терзала мысль о том, что теперь эта история станет известна всему свету и все его труды пойдут прахом. И он принялся многословно рассказывать дежурному лейтенанту, сыщикам и полицейским все, что знал. А единственная мысль, всплывшая в сознании несчастной Иды, едва она пришла в себя, была: неужели это ее отец? О чем это он говорил – о помощи? О том, что она должна была прийти к нему... а ведь она никогда, никогда не думала, что он может быть таким. Но потом снова мысль об Эдуарде. Та ужасная минута. Ужасное несчастье. Она не хотела этого, в самом деле не хотела. Нет, нет! Но неужели правда, что он умер? Неужели она убила его? Как он оттолкнул ее – почти ударил, что он говорил... И все же, о господи! господи! Она заплакала горькими, безмолвными слезами, и отец и мачеха склонились над нею, впервые с искренним сочувствием. Какая сложная жизнь, какая страшная! Никому нет покоя на земле, никому. Всюду безумие и скорбь. Но они не покинут ее в беде, нет, нет.
А потом – репортеры. Шумиха, раздуваемая газетами; журналисты и журналистки, всякие бойкие писаки, фотографы. Кричащие заголовки! «Семнадцатилетняя красавица застрелила своего любовника двадцати одного года. Дважды выстрелила в молодого человека, которого она обвиняет в нарушении данного слова. Она скоро должна стать матерью. Молодой человек при смерти. Девушка признает себя виновной. Просит оставить ее наедине с ее горем. Родители обоих в отчаянии».
И затем, день за днем, все новые сенсации, потому что на второй день в три часа Хауптвангер действительно скончался, признавшись перед смертью, что обманул Иду. А еще через день следователь вынес решение о задержании девушки впредь до разбора дела судом присяжных, без права освобождения на поруки. Но она очень красива, и все это так трогательно; и вот в редакции газет посыпались письма: священники, люди с видным положением в обществе, политические деятели и просто читатели требовали, чтобы с этой девушкой, готовящейся стать матерью и виновной лишь в том, что она слишком сильно, хотя и безрассудно, любила, не обошлись сурово, простили бы ее, выпустили на поруки. Было ясно, что ни один состав присяжных не осудит ее. В Америке это не пройдет. Худо придется тем, кто попытается наказать уже и без того исстрадавшуюся девушку. Несомненно, долг всякого судьи – выпустить это бедное, обманутое создание на поруки, пусть она спокойно, в мире и тишине живет в каком-нибудь частном доме или в благотворительном заведении, пока не родится ребенок; кстати, одна весьма богатая светская дама, глубоко взволнованная этой трагедией, не только выказала сочувствие невинной жертве любви и дочернего долга, но предложила внести за нее залог в любом размере и приютить у себя в доме, где Ида спокойно сможет дождаться рождения ребенка, а затем и судебного разбирательства, которое решит ее дальнейшую судьбу.
И вот удивленная и смущенная девушка была передана на попечение этой внешне строгой, а в душе очень отзывчивой женщины, которая с первых дней заключения Иды в окружной тюрьме пыталась снискать ее доверие и симпатию; она была немолода и некрасива, но обладала приятным голосом и мягкими манерами; она постоянно твердила, что понимает Иду, что она и сама страдала, что ее сердце тоже было разбито и что Иде ни о чем больше не надо тревожиться. И в конце концов Иду – арестантку, выпущенную на поруки и обязанную вернуться по первому требованию, – перевезли в некогда загородный, а теперь оказавшийся в черте города дом в самом фешенебельном районе, с большим садом и великолепными комнатами. Несмотря на все свое отчаяние, она удивилась и растерялась от неожиданности: для нее было приготовлено все, что ей могло понадобиться; в ее распоряжении была горничная; еду ей подавали в комнату, стоило ей только пожелать; к ее услугам была тишина или развлечения, как ей угодно. Родителям разрешалось навещать ее, когда она захочет... Но ей было так тяжело в их присутствии. Правда, они теперь были неизменно добры и ласковы с нею. Говорили о новой жизни, которая начнется после того, как минет великое испытание – рождение ребенка (об этом упоминалось лишь обиняками) и потом суд. У них будет новая лавка в другом районе, и уже объявлено о продаже старой. И тогда... ну, что ж, она будет жить спокойно, а может быть, и счастливо. Но разве она не видела по глазам отца, даже когда он утешал ее, каким тяжким грузом легли на его плечи новые заботы. Она согрешила! Она убила человека! Она разрушила и его семью, разбила сердце его родителей; она отняла душевное спокойствие у своего отца, лишила его доброго имени и благосостояния. Думает ли он об этом, несмотря на сострадание к ней? Как почувствовать это за сдержанным поведением отца и мачехи?