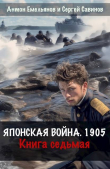Текст книги "Община Святого Георгия"
Автор книги: Татьяна Соломатина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Василий лишь покачал головой.
Николай Александрович вскочил, отшвыривая бумаги. Он бы и кофейник уронил, но не хотелось заставлять Василия прибирать почём зря. Да и отменный кофе тоже рождается не просто так.
– Ёлки-палки, зелёные моталки! В собственном доме!
Несмотря на гневные интонации, он посмотрел на старого слугу просительно.
– Не пойду, – спокойно ответствовал Василий, выуживая с полки «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина.
Николай Александрович выскочил из кабинета, фыркая что-то про неповиновение, про неуважение. Хотя сейчас его разбирало в большей степени, конечно же, волнение. На девочке было дорогущее платье, это не нищим раны обрабатывать. Нет, он верил в сына, Саша был очень добрым мальчиком. Понятно, что ребёнку нужна помощь, но почему не в больницу, почему при таких странных обстоятельствах, ещё и с какой-то дамой, смутно знакомой… Да, следует признать, более всего Николая Александровича разбирало любопытство.
И как настоящий хозяин в собственном доме, он решительно переместился из левого крыла в правое, не менее уверенно промаршировал по коридору… Но чем ближе была сыновняя домашняя клиника, тем менее размашистой становилась поступь отца. Подойдя к двери, он и вовсе утратил праведное право быть в курсе всего, что совершается дома, и стал мяться в постыдной нерешительности. Лицо его из гневного преобразилось в растерянное. О, как они с сыном были похожи в этой прекрасной естественности смен настроений.
Собрался постучать. Передумал. К дьяволу! Стучать в собственном доме! И… Николай Александрович, воровато озираясь, припал ухом к тяжёлой дубовой двери. Жест не только бесславный, но и заведомо безрезультатный. Качество материалов интерьеров не оставляло никакой возможности расслышать хоть что-нибудь.
Между тем в приёмной домашней клиники ничего постыдного не совершалось. Александр Николаевич разговаривал по телефону. Возможно, кого-то могли бы смутить окровавленные рукава крахмальной сорочки, но, учитывая едва завершённое оперативное вмешательство и не терпящий отлагательств последующий патронат, не было времени сменить одежду. Он яростно крутил ручку, костеря телефонистку, не обращающую внимания на загоревшуюся лампочку. Наконец фея изволила воткнуть штекер в соответствующее гнездо.
– Барышня! – рявкнул Александр Николаевич, проглотив «вашу мать!» – Соедините с госпиталем «Община Святого Георгия»!
Вызвав карету, Саша вернулся в операционную, плотно прикрыв дверь. Мгновением позже в приёмную ворвался отец. Николай Александрович мучился соображением: как пристойней явиться в клинику. И, разозлившись на себя дальше некуда за экзерсисы с подслушиванием, что недопустимо даже для горничной, решительно толкнул дверь, оказавшуюся незапертой.
В операционной Вера осматривала маленькую пациентку, не приходящую в сознание. Вера Игнатьевна была настроена критически. Жизнь научила её не расстраивать себя надеждами. Но пульс был. Хотя и слабый. Она впрыснула девчонке камфору. Пошла к раковине, дабы попытаться привести себя хоть в сколько-нибудь пристойное состояние, и её настиг приступ ишиаса. Вскрикнув, она схватилась за процедурный столик. Вошёл Александр Николаевич.
– Сейчас прибудет больничная карета… Вера Игнатьевна, что случилось?
– Смещение позвонков поясничного отдела! Вправь!
– Я… не… никогда не делал подобного! – испуганно пролепетал Саша Белозерский.
– Господи! – простонала Вера, устраиваясь на столике поудобнее. Она расстегнула и приспустила брюки. – Становись позади меня и установи ладони на крестце! Да побыстрее, у нас не любовная прелюдия!
Покраснев, Александр подпрыгнул к Вере со всей решительностью, с тем чтобы показать, что он чужд глупых условностей, он же врач, и нет ничего невозможного для человека, окончившего курс с отличием и вошедшего в пятёрку лучших.
– Массируй в импульсной манере, сильно поддавая кверху.
Александр Николаевич начал, понукаемый и направляемый Верой.
Николай Александрович прокрался пустынной приёмной, проделал повторно недостойное упражнение с прикладыванием уха к очередной двери, но ни черта не расслышав, резко пихнул створы и вошёл в операционную.
То, что представилось его взору, являло верх неприличия! Даже если оставить без внимания тот факт, что сие совершалось рядом с малолетней, лежащей на операционном столе. И то, что оба участника… этюда были в окровавленной одежде. Ни боже упаси, Николай Александрович не был ханжой! Да, он любил покойную супругу и так никогда более не женился, но он не жил анахоретом и не был чужд плотских удовольствий, но есть же… В данный момент он затруднялся сформулировать, что именно есть. Рамки? Нормы? Нет, все эти определения прозвучали бы довольно слабо.
– Сильнее! – командовала его сыном незнакомка, поддаваясь его движениям, трактовать кои как-нибудь иначе Николай Александрович не мог и, от неожиданности застыв на месте столбом, попросту зажмурил глаза.
– Да! Так! Именно! Кверху! Основанием дави на низ! Чувствуй плоть! Не останавливайся! Проникай глубже! Синхронизируй нервные токи! Консолидируй энергию! Ты и я – одно!
– Папа! – выкрикнул Александр Николаевич, не останавливаясь.
Николай Александрович открыл один глаз.
– Позволь! Представить! Тебе! – продолжал он выкрикивать в ритм движениям. – Княгиню! Веру! Игнатьевну! Данзайр!
В этот момент раздался хруст и представленная отцу княгиня, блаженно застонав, опустилась на пол в бессильной истоме.
– О, да! Ты великолепен! Благодарю! Ноги отнялись! Они всегда ненадолго отнимаются после этого.
Старший Белозерский уже открыл оба глаза и несмело подошёл поближе. Имя княгини было ему, разумеется, известно. Как и её подвиги. Несмотря на некоторую, если можно так выразиться, небрежность её костюма и позы, тем не менее она была тем, кем была. Она была княгиней! И нельзя было не соответствовать протоколу.
– Папа! Поверь, это не то, чем могло показаться!
Отец не посмотрел на сына.
– На войне оперировала сутками. Спину сорвала! – запросто объяснила княгиня с пола, где возлежала как в спектакле, в коем патрицианка взялась изображать гетеру и делала это со всем природным талантом. – Папироски не найдётся?
Николай Александрович достал портсигар работы Фаберже, раскрыл и, став на одно колено, протянул Вере Игнатьевне. Она взяла, после чего он поднёс ей зажигалку работы всё того же Петера Карла Густавовича. Вера блаженно затянулась, выпустила дым. И только после этого хозяин представился.
– Разрешите отрекомендоваться, Ваша Светлость! Николай Александрович Белозерский, купец первой гильдии.
Вера Игнатьевна отсалютовала зажатой между пальцами папироской.
– Могу ли я надеяться, что вы присоединитесь к нашему скромному семейному ужину?
Саша с удивлением уставился на отца. Будь он воспитан не строгим Василием Андреевичем, у него бы, пожалуй, челюсть отвалилась.
– О, да! Жрать охота просто зверски! – радостно откликнулась княгиня. – По-моему, последний раз я ела ещё в Москве.
Девчонка на столе шумно вздохнула.
– Смотри ты, живая!
Вера с неожиданной прытью вскочила на ноги и подошла к пациентке.
– Кхе-кхе! – раздалось громкое покашливание.
На пороге операционной стоял Василий Андреевич.
– Госпитальная карета изволила подъехать, сказали: по вызову ординатора Белозерского.
– Александр Николаевич, я попрошу вас не афишировать моё участие в инциденте! – Вера употребила слово «попрошу», но оно прозвучало приказом. Александр кивнул прежде, чем она окончила фразу.
Носилки из особняка выносили Александр Николаевич и Василий Андреевич. На козлах госпитальной кареты сидел Иван Ильич. Он непременно бы соскочил подсобить, но сейчас в этом не было нужды. Да и присутствие за главного Концевича его останавливало. Дмитрий Петрович вполне способен был указать извозчику его место. А Иван Ильич и без напоминаний своё место отменно знал.
Вокруг моментально образовались зеваки. Удивительная исконно русская традиция: появление концентрированной кучи из сочувствующих, любопытствующих и просто мимо проходящих. Раздавались возгласы:
– Буржуя убили!
– Роковая страсть! Купоросным маслом плеснули!
– А полиция где?!
– Где-где! Известно где! Дождёшься их оттудова!
Тем не менее слишком близко подойти опасались, и Александр Николаевич с Василием Андреевичем беспрепятственно устроили носилки в салоне кареты. Головной конец ловко принял Кравченко. Со всей возможной важностью Белозерский сообщил Концевичу:
– Baby Doe!
Ни один из молодых ординаторов не обратил внимания на то, как изменилось лицо Владимира Сергеевича, бросившего взгляд на дитя. Но он немедленно взял себя в руки.
– Неизвестный ребёнок? Мне передали: Белозерский на огнестрельное вызвал.
– Так пуля – дура, возраст не разбирает! – нарочито легкомысленно брякнул Белозерский.
– Диагноз? – тревожно и строго уточнил Кравченко, чем вызвал неудовольствие Концевича. Фельдшер поперёд врача вылез. И был прав. Врач первым делом поинтересуется именно этим.
– Диагноз? Ранение лёгочной аорты. Ушито.
– Камфору ввели?
– Да, конечно.
– Едем скорее, Дмитрий Петрович! – поторопил Кравченко.
Концевич уже забрался в салон и потому недовольно дёрнулся на очередное несоблюдение субординации фельдшером. Мало ли кто и кем был, в этой жизни имеет значение только то, что ты есть сейчас!
– Ушил?! Один?! У тебя в укладке саквояжа долото и ретрактор? – с язвительным сомнением поинтересовался Концевич.
– А… что такого? Пневмогемоторакс дренирован! Везти с особым вниманием и…
Кравченко закрыл двери, Иван Ильич мягко тронул, ибо уважал хворых, в особенности деток, страдающих из-за взрослых.
– Не мы, Клюква, рессора! Не мы и булыжник! Но мы с тобой, Клюква, мастерство! – ласково проговорил он лошадке. Та в ответ понимающе фыркнула и пошла аккуратно.
– Носилки тоже в саквояже были?! – удивился Концевич, только в карете сообразив, что госпитальные носилки так и остались притороченными.
Белозерский мухой вернулся в дом. Непонятно отчего, но ему не хотелось надолго оставлять отца с княгиней. Разумеется, не из ревности, глупость какая! Папенька никого не полюбит, кроме покойной маменьки. А лишь потому, что папа способен полностью завладеть вниманием княгини. В общем, Александр Николаевич вёл себя как малолетка.
– Расходимся, расходимся! Всё узнаем из утренних газет! – прикрикнул Василий Андреевич на поредевшую, но не схлынувшую кучу зевак. – Ну! Нечего! Не кукиш с маслом обручились!
Мелкий чиновник, явно сострадающий увезённой в госпитальной карете девочке и, видимо, уже знающий контекст: нет той русской деревни, где слухи бы ни распространялись стремительно, будь это хоть Петербург, мнящий себя холодным европейцем, – произнёс:
– С путиловской стачки не уймутся. Уже на им: свободу слова! Свободу собраний? Пожалуйста! Habeas corpus! А младенец, получается, прикосновенен?! Тьфу!
Стоящий рядом люмпен-пролетарий, не осмыслив сказанного, горячо откликнулся лишь на милое его душе и складу ума сплёвывание:
– Правильно! Так! Бить миллионщиков и семя их давить!
Чиновник, мгновенно смутившись, поторопился уйти. Но люмпену хотелось самовыражения. И он плюнул в Василия Андреевича, присовокупив:
– Упырь расфуфыренный! Хабеас корпус ещё какой-то!
Но увидав в руках у Василия Андреевича внушительный стек, коим он, судя по манере удержания, владел уверенно, быстро припустил по мостовой.
Николай Александрович проводил Веру Игнатьевну к дверям ванной комнаты. Разумеется, княгиня изъявила желание взять ванну, коль скоро приняла приглашение на ужин. Неловко садиться за стол в окровавленном тряпье, учитывая, что она в доме первый раз. Откровенно говоря, ей доставляло удовольствие подтрунивать над старшим Белозерским, которого легонько замкнуло на её княжеском достоинстве или на чём ещё, или просто сказывалась её манера насмешничать над манерностью.
– Вот, княгиня, собственно говоря, наши скромные термы…
– Благодарю, Николай Александрович, полагаю, далее я сама, если, говоря «термы», вы не имели в виду и прочую римскую парадигму.
Матёрый был уже не так шустр на окрашивание в маков цвет, как его сынишка.
– О, нет, конечно же! – рассмеялся он. – Не с вами! Не…
– Отчего же не со мной?! Я нехороша?
– Вы прекрасны, княгиня!
– Чем же я отличаюсь от прочих женщин?
– Вам, наверное, надо бы во что переодеться! – переменил тему опытный купчина Белозерский. – Да только у нас в доме нет ничего приличествующего вам. Женского.
Вдруг будто бы из ниоткуда появился Василий Андреевич со стопкой мужского платья.
– Прошу вас, княгиня. Вы с Александром Николаевичем одного склада фигуры.
Расхохотавшись, Вера приняла стопку у заботливого батлера и скрылась за дверьми ванной комнаты.
– И тут не смог меня не сконфузить! Никак без этого! – бросил преданному слуге Николай Александрович.
Тот и бровью не повёл.
– Прикажете накрывать?
– Как? – язвительно всплеснул руками барин. – Неужто у тебя ещё не готово?! Или тебе сдались мои распоряжения?!
– Вам сцену накрывать? – по-прежнему никак не реагируя на иронию хозяина, уточнил Василий Андреевич.
– Уж изволь!
Ванная комната поражала роскошью и одновременно лаконичностью убранства. Термы, к слову, тоже имелись. Из ванной комнаты можно было проследовать в подвал, где располагался мраморный бассейн. В другое время княгиня с удовольствием оценила бы всё это. Поскольку, несмотря на то что она умела довольствоваться самым малым, как настоящая аристократка Вера Игнатьевна ценила комфорт и всё то, что можно приобрести, коли не стеснён в средствах.
Особняк Белозерских был создан Андреем Петровичем Вайтенсом. Николай Александрович уважал профессионалов и полностью им доверял. И никогда с ними не торговался, считая это ниже своего достоинства. Несмотря на то, что был купцом. А вот многие дворяне, владельцы олигархических состояний, рубились с архитектором за каждую копейку до кровавых соплей. До кровавых соплей самого архитектора, разумеется. Вспомнить хотя бы Николая Петровича Краснова, которого Юсуповы доводили до чудовищного заикания. А они были богаче императорской семьи, которой Краснов возводил Ливадию, и сам государь называл его удивительным молодцом, в отличие от мамаши Феликса Юсупова, доводящей светоча русской крымской архитектуры до нервных срывов.
В какое-нибудь другое время княгиня Данзайр с удовольствием бы оценила и конструкционные решения, и убранство, и поговорила об архитектуре, ибо была человеком всесторонне образованным. Но сейчас на неё вдруг навалилась та чудовищная усталость, которую испытывает человек на пределе возможностей, внезапно получивший краткую передышку. Так бывало на войне. Но сейчас же она вернулась в мирное время, в блестящий Санкт-Петербург! Так какого же дьявола она оперировала лёгочную аорту, травмированную огнестрельным ранением?! Пуля взорвала не грудь солдата на сопках Маньчжурии. Осколок металла, выпущенный из ствола, пробил хрупкую плоть малышки, сидевшей на руках у почтенного отца в дорогом экипаже, и всё это случилось в столице Российской империи!
Пустив воду, Вера сидела на краю мраморной лохани совершенно опустошённая и пялилась в стену, не имея ни одной мысли и не испытывая ни единого чувства. Когда ванна наполнилась, она скинула окровавленные вещи на пол и, опустившись под воду с головой, дала себе волю и заплакала. Она даже не почувствовала этого. И своей воли не почувствовала. Не было у неё сейчас воли. Зато была вода. Одна из самых почитаемых субстанций в синтоизме. И ярость ками[5]5
Духовная сущность, бог – в синтоизме.
[Закрыть] бессильна как перед толщей вод, так и перед каплей слёз.
К ужину Вера Игнатьевна вышла очищенной и обновлённой, как и положено настоящей аристократке.
Глава VII
Сыскари моментально установили личность убитого. Он был довольно известным, видным лицом. Более ничего им выяснить не удалось, они и не особо старались. Нынче покушения и прочая смута стали делом обыденным. Интересным же в конкретном происшествии было вот что: кто и зачем утащил раненую девчонку. Со сбивчивых показаний городового выходило: двое молодых людей, никак не похожих на возмутителей спокойствия. Один, судя по саквояжу и вслух заявленному, – и вовсе доктор. Возможно, в больницу поволокли, там искать и надо, а не то ещё и не надо, сама всплывёт. Правда, в тщательности сыщикам нельзя было отказать, они на измор опросили городового. Собрали всё, что можно было, включая плюшевую собачку, испачканную в стылой крови мертвеца.
В кабинете полицмейстера раздался звонок, имя алкающего связи с ним заставило вовсе не пугливого и не опасливого к чинам и званиям Андрея Прокофьевича встать и вытянуться во фрунт.
– Разумеется, Ваше Сиятельство!
Таковое титулование говорило о том, что звонил не меньше нежели князь или граф, впрочем, и это не имело никакого значения. Нынче Россией правили не титулы, но влияния. О влиятельности особы говорила манера полицмейстера, внезапно до отвращения подобострастная. Хотя и не таков он был человек.
– Дело под моим личным контролем! Девочку разыщем живую или…
Он осёкся, проглотив прилагательное, готовое вылететь. Впрочем, собеседник прекратил разговор и не услышал ничего после «разыщем». Полицмейстеру приказывали, а не интересовались обстоятельствами, соображениями и заверениями.
Андрей Прокофьевич бережно опустил трубку и тяжело присел на стул. Некоторое время смотрел на карточку жены и детей, стоящую на столе. У самого трое, и младшая – ровесница пропавшей с места преступления. Это рвало ему сердце. Помрачнев, он треснул кулаком по столешнице. Фотография подпрыгнула и упала, это вызвало в суровом полицмейстере мистический ужас. Он вскочил, поднял её, расцеловал изображения детей, замутив дыханием стекло, прижал к груди и подошёл к окну. Вглядываясь в ночь, он испытывал бурю чувств. Иные из них можно было бы охарактеризовать как взаимоисключающие. Полицмейстер имел характер воистину русский.
Как известно, в нашей доблестной нации в кварто-квинтовых, большесептово-тритоновых и прочих полиаккордовых сочетаниях гармонично сплетаются самые чудовищные свойства натур. Иначе как можно объяснить то, что Владимир Сергеевич Кравченко, отлично знающий, что за девочка перед ним, не бросился немедля уведомить её родных и близких, сходящих с ума? Впрочем, он в первую очередь сделал всё необходимое, дабы работа человека, чей профессиональный почерк он узнал, не пропала. Странный фельдшер обеспечил весь спектр неотложных лечебных мероприятий. После чего вышел во двор покурить и решился наконец сделать то, что должен: любым способом известить профессора Хохлова. Он затянулся и прислонился к стене. Иван Ильич, сидевший на перевёрнутом ящике и мастеривший самокрутку, оглянулся на фельдшера с беспокойством. Он знал всех и вся, в момент подмечая любые изменения в окружавшем его тварном мире. Владимира Сергеевича явно что-то заботило.
– Палят, взрывают! Плохого им дядя инператорский, Сергей Александрыч, сделал?! Нет же, хорошего! Акциз уменьшил. Отставился, значит, ушёл человек от дел. Бабах! – в куски разметали!
Госпитальный извозчик говорил, потому что отлично знал: если у человека тревога – тишина не помощник. А у господина Кравченко была ох какая тревога! И даром что добродушный Иван Ильич не мог понять её природы, потому что тут было что-то сильнее, нежели боль о маленькой пациентке, но точно знал: молчать – плохо. Надо разговорить человека.
Во двор вошли студенты. Астахов, восторженный молодой человек, мечтающий о благе для всех, надрывно вещал:
– Нужда и нищета! Вот что приводит в нашу клинику! Не можешь деньгами – изволь расплачиваться телом!
Более рассудительный Нилов возразил товарищу:
– Но иначе нельзя учиться.
– Социалисты всё решат! – чуть не экстатически воскликнул Астахов.
– Как? – поинтересовался Нилов.
Насмешливо отозвался мрачный Порудоминский, стремившийся заслужить репутацию циника:
– Придёт Максим Горький к нашему Астахову и скажет: «Режь мне, Лёха, аппендикс, не тушуйся! Это ничего, что ты прежде скальпель в руках не держал. Не на нищем же тебе руку набивать, давай сразу на мне!» Гапон перед Алексеем геморроидальные шишки раскинет!
Студенты вошли в клинику.
– Скубент в ночное пошёл! – колюче заметил Иван Ильич. И так глубоко затянулся, что закашлялся до слёз. Это привело его в несколько воинственное состояние ворчания. – Не в то горло, чёрт их дери! Социалисты, глядь, решат! Лошадь – вот социалист! Вместе пашем, но правлю – я! Начни кобыла править – куда понесёт? Ежели, скажем, «в охоте» – то жеребца искать. А так просто от дури обожрёт посевы кругом – и в стойло! Коли в недоуздке – пузо надует. В удилах чудила – гортань до кровяни раздерёт.
На дворе появился профессор Хохлов. Лицо Кравченко изменила болезненная гримаса. Извозчик, приподнявшись с ящика, поклонился.
– Вы ж в теятре быть должны, Алексей Фёдорыч!
Хохлов, едва кивнув, зашёл в клинику. Кравченко, выбросив окурок, последовал за ним.
– Вот! – обратился Иван Ильич к ночному небу. – День и ночь на ногах! Профессор наш и кобыла моя – социалисты. А не эти, что языками метут. Ежели б они ими, скажем, мостовые мели, так хоть чище бы стало.
Кравченко уже готов был сказать профессору чудовищно страшное, но и чудесно освобождающее, как из палаты навстречу им выскочил Концевич и, не глядя на отчаянно сигнализирующего взглядом Кравченко, точнее: решив его не заметить, – выпалил:
– Доброй ночи, Алексей Фёдорович! Baby Doe, женского пола, предположительно семи лет. Огнестрельное. По вызову из особняка Белозерских. Уложили в сестринскую. Девочка, очевидно, из дворян…
Не дослушав, профессор кинулся бежать по коридору в сторону сестринской. За ним устремился Кравченко, не изволив одарить Концевича укоризной. Формально: не за что. Что важнее: без толку.
В сестринской на кушетке лежало дитя. Повязка на груди пропиталась кровью. Дыхание было почти неслышным, но оно было! Рядом сидела Матрёна Ивановна и, держа крошку за ручку, истово молилась, несмотря на то что считала, что на небе никого нет. Может, и не надо им быть на небе. Кому «им», Матрёна не ответила бы. Непосредственно боженьке Матрёна давно не адресовала чаяний. У неё имелись на то серьёзные основания. Но она всё ещё оперировала просьбами к своей святой. Та, может, по-бабски подсобит, как однажды подсобила. Надёжней. Что на земле, то и на небе. Через знакомых, родню, кума и свата – оно надёжней, значит и через ангела-хранителя – тоже.
– Блаженная старица Матрона, попроси Господа Бога нашего Иисуса Христа о здравии чада. Избавь дитя от немощи. Отринь хворь телесную…
В сестринскую ворвался профессор Хохлов и упал перед кушеткой на колени.
– Соня! Сонечка! Софья Андреевна!
Он осыпал маленькую ладошку поцелуями, не замечая, что лобзает и руку Матрёны, ибо схватил их вместе, как застал.
– Жива! Нашлась! Слушать!
Концевич снял с шеи фонендоскоп и подал Хохлову. Кравченко стоял мрачнее тучи. Несколько минут назад он выслушал и проекцию сердечного толчка, и клапаны – аортальный и митральный, и лёгкие девочки. Но Алексею Фёдоровичу надо было себя занять, от бездействия человек лишается рассудка.
– Что ж вы не позвонили мне?!
– Владимир Сергеевич телефонировал! Так вы в театр поехали, а перед ним в ресторацию собирались, ваша горничная доложила! – резво выступила Матрёна Ивановна.
Продолжительное время будучи старшей сестрой милосердия в этой клинике, она знала, что гнев патрона надо гасить в зародыше. Ибо любой гнев бессмыслен и беспощаден и падает чаще всего на невиновных, а ещё чаще – на тех, кто помогает и спасает. Профессор медицины Хохлов и сам был отменно знаком с этим несправедливым законом бытия, но в конкретной ситуации было слишком много личного. Девочка приходилась ему родной племянницей, дочерью младшей сестры.
Взгляд Алексея Фёдоровича упал на Концевича.
– По вызову из дома Белозерского? Что за чертовщина?!
Хохлов подскочил с нехарактерной для него лично – что уж говорить о звании – прытью.
– Её мать сходит с ума! Я сейчас! Вы – неотрывно! Неотлучно! Он выскочил в коридор.
Матрёна Ивановна с достоинством кивнула. Концевич преспокойно пошёл на выход. Этот молодой человек прежде всего взял за правило постулат о непринятии близко к сердцу чужих страданий. Кравченко остался при девочке. Его мучила мысль, и мысль эта была во спасение Сонечки, но в отрицание всех современных норм и правил. Он не мог решиться. Не потому, что боялся последствий для себя. Владимир Сергеевич был человеком бесстрашным. Его разрывали сомнения на предмет исхода спасительного метода для маленькой пациентки, ибо метод сей мог оказаться как чудесно исцеляющим, так и смертельным.
Хохлов первым делом позвонил в дом сестры. Жена его находилась там же.
– Да-да, нашлась! Живая!
Профессор болезненно скривился. В трубке слышна была женская суета, перед которой он обессилевал. «Живая!» – это не ложь. Но он леденел перед необходимостью разъяснять подробности. Он немного отодвинул трубку от уха. Следовало прервать поток слов.
– Не могу привезти домой! Надо понаблюдать! – сурово сказал он. Но тут же его лицо изменилось, и профессор стал похож на перепуганного мальчика. – Нет-нет-нет! – заголосил он в трубку. – Ни в коем случае, о чём ты думаешь?! Лидочку в её состоянии сюда нельзя! Не смей! Настойки опия ей в чай! Почему до сих пор не сообразила? – раскричался он, и это вернуло его в норму. – Всё! Сидеть при Лиде неотлучно! Я сообщу!
Он с силой бросил трубку и, вновь подняв её, принялся яростно вращать ручкой.
– Немедленно соедините с домом купца Белозерского! – заорал он на неповинную барышню так, будто она явилась на показательный экзамен по анатомии, не имея ни малейшего понятия о том, что такое остеология.