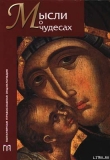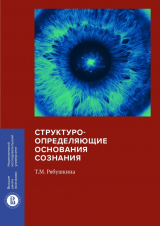
Текст книги "Структуроопределяющие основания сознания"
Автор книги: Татьяна Рябушкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
§ 6. Пассивный синтез: от описания связей к поиску их оснований
Не останавливаясь на исследовании характера результатов пассивного синтеза и их отношения к синтезу активному, Гуссерль переходит к детальному рассмотрению процесса конституирования смыслов в сфере пассивности, стремясь постичь эту «всего лишь субъективную и будто бы непостижимую “гераклитову реку”»6565
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С. 210.
[Закрыть]. Целью исследований пассивности является поиск «первичных источников всякого знания»6666
Husserl E. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. Dordrecht, 2001. P. 5.
[Закрыть], выделение «подпочвы» и различных «слоев» конституирования. Анализ пассивного синтеза должен показать, каким образом «в имманентности жизни сознания и в тех или иных модусах сознания этого беспрестанного потока сознания может быть осознано нечто такое, как устойчивые и пребывающие предметные единства?»6767
Гуссерль Э. Картезианские медитации. С. 67–68.
[Закрыть].
Однако возникает сомнение в возможности такого анализа: разве приоритет пассивных синтезов по отношению к активности эго не препятствует досягаемости их для активной феноменологической рефлексии?6868
Landgrebe L. The Problem of Passive Constitution // Landgrebe L. The Phenomenlogy of Edmund Husserl. Ithaca, 1981.
[Закрыть]
Утверждение о доступности пассивного синтеза для рефлексии базируется на фундаментальном феноменологическом принципе, состоящем в признании феноменологической дескрипции единственным методом познания. Все, что не может быть приведено к дескриптивной очевидности, не может быть предметом исследования. Таким образом, следует либо вынести пассивность за скобки, либо признать возможность доступа к ней путем рефлексии.
Гуссерль принимает компромиссное решение: вещи, являющиеся результатами пассивного синтеза, с одной стороны, относятся к продуктам субъективности, а с другой, образуют поле предметов, предданных активному сознательному познанию, обусловливающих его возможность. По Гуссерлю, пассивные синтезы возникают за порогом сознательной активности эго, но при помощи феноменологической рефлексии могут быть осознаны. Они не относятся к сфере, лежащей за пределами сознания, а являются «несознательными» актами сознания.
Гуссерль различает первичную (или примордиальную) и вторичную пассивность. Первичные пассивные феномены имеют место до всякой активности эго, вторичные предполагают опору на предшествующую активность, которая перешла в пассивность в виде «отложений» смысла. В сферу примордиальной пассивности Гуссерль включает самотемпорализацию, установление ассоциативных структур чувственных полей, пробуждение и распространение аффектов, а также формирование сложных смысловых единств посредством кинестетических чувствований.
Ассоциация понимается Гуссерлем как «форма и законосообразный порядок имманентного генезиса, который постоянно принадлежит сознанию вообще»6969
Husserl E. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. P. 162.
[Закрыть]. Среди различных видов ассоциации особое значение имеют первичные или примордиальные ассоциации, которые устанавливают связи в пределах «живого настоящего», т.е. связи гилетических данных, схватываемых как одновременные: «<…> каждое моментальное настоящее с его первичным впечатлением “теперь” и с его шлейфом “соединено” с параллельным настоящим»7070
Ibid. P. 482–483.
[Закрыть]. Такое соединение серий ретенциальных модификаций, относящихся к различным объектам, Гуссерль называет ассоциацией одновременности7171
Ibid. P. 483.
[Закрыть].
«Ассоциация одновременности и последовательности как чисто темпоральная ассоциация»7272
Ibid. P. 423.
[Закрыть] определяет темпоральный синтез, являющийся одним из фундаментальных феноменов сферы пассивности. «Вовсе не потому, что А и В сосуществуют или следуют друг за другом, сознание ассоциирует их; скорее поскольку ассоциация уже установила их взаимное отношение, эти содержания воспринимаются как последовательные или одновременные»7373
Biceaga V. The Concept of Passivity in Husserl’s Phenomenology. L.; N.Y., 2010. P. 17.
[Закрыть]. Именно ассоциативный синтез приводит к тому, что живое настоящее разрастается до «небольшой сферы»7474
Husserl E. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. P. 230.
[Закрыть], включающей «живые ретенции».
Но могут ли примордиальные ассоциации, основанные только на сходстве, иметь результатом нечто, хотя бы отдаленно напоминающее устойчивые и упорядоченные конфигурации? Каким образом возникает богатство конкретных связей, содержание которых подчиняется категориальным связям, но в своей конкретности не исчерпывается ими?
Роль обеспечения устойчивости и упорядоченности продуктов ассоциаций Гуссерль отводит кинестезам – ощущениям телесных движений, как актуальных, так и потенциальных. «Явления образуют зависимые системы. Только в качестве зависящих от кинестез они могут непрерывно переходить из одного в другое и конституировать единство смысла»7575
Ibid. P. 51.
[Закрыть].
Но вместе с тем Гуссерль признает, что «если бы чувственные данные вдруг стали бы появляться в беспорядке, если бы наше визуальное поле внезапно наполнилось бы беспорядочной путаницей цветов, кинестетические мотивации утратили бы свою силу»7676
Husserl E. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. P. 152.
[Закрыть]. Таким образом, кинестезы предполагают некоторую упорядоченность, предданную по отношению к пассивному синтезу. Осмысление процесса конституирования невозможно без указания источника этой упорядоченности.
Гуссерль также отмечает, что «если два сходных элемента имеют место в настоящем, то это не означает, что они сначала существовали отдельно, а затем последовал их синтез; скорее, мы называем “сходными” те элементы, которые имеют место в таком синтезе как сосуществующие»7777
Ibid. P. 494.
[Закрыть]. Уже первичные содержания сознания представляют собой связанные друг с другом целостности.
Невозможно найти в сознании материал, который бы подлежал синтезу, но при этом сам не был бы результатом синтеза. «Сознание, которое было бы совсем лишено организации, совершенно непостижимо»7878
Ibid. P. 268.
[Закрыть]. Начать с того, что «<…> каждое чувственное поле представляет собой гармоничное, космическое единство»7979
Ibid. P. 517.
[Закрыть].
Однако можно ли говорить о синтезе, если мы всегда имеем дело лишь с целостностями, результатами предполагаемого синтеза, а то, что подлежит синтезу, и сам процесс синтеза не обнаружимы методом феноменологии?
В качестве ответа на этот вопрос не может быть принято указание Гуссерля на то, что эго исходно не замечает предшествующих ассоциаций, благодаря которым возникли единства, но постепенно они открываются ему как имеющие составной характер. Ассоциация, явная для эго или скрытая от него, не может служить объяснением единства, разложимого на бесконечное множество единств, так как невозможно мыслить синтез бесконечного множества отдельных содержаний. Гуссерль фактически полагает, что конституирование осуществляется на материале уже конституированного, однако такое понимание лишь отстраняется от вопроса об основаниях первичных смысловых целостностей.
Размышления Гуссерля показывают, что феноменологический проект осмысления сознания в качестве единственной основы смыслового содержания человеческого опыта не может быть реализован. В. Бисеага в ходе исследования сферы пассивности, представленной в поздних работах Гуссерля, приходит к необходимости подумать об открытости пассивности для инаковости8080
Biceaga V. The Concept of Passivity in Husserl’s Phenomenology. P. 16.
[Закрыть]. Связи первичных содержаний не возникают в результате пассивного синтеза, а предшествуют ему и направляют его. Верно, что субъективность должна обеспечить сознание мира, но не следует полагать, что субъект не нуждается для этого в действительно ином, что мир есть результат синтеза, и никакой смысловой «данности», предшествующей синтезу, не существует. Попытка Гуссерля отождествить познание мира с эгологией приводит к парадоксальному следствию: трансцендентное отрицается в качестве независящего от субъективности, но скрывается в ней самой как основа пассивного синтеза.
Связи, на базе которых осуществляется дальнейшее конституирование, должны иметь место в сознании благодаря отношению субъективности к иному. Новизна в сознании не есть только новизна гилетических данных (статус последних, надо заметить, не является четко определенным; по замечанию Сартра, они есть «гибридное бытие, которое сознание отвергает и которое нельзя сделать частью мира»8181
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2004. С. 33.
[Закрыть]), но новизна смысловых целостностей, возникающая в сознании благодаря восприимчивости.
Недостаточная определенность смысла понятия о гилетических данных отражает неуверенность Гуссерля в принятой им установке на смысловую абсолютизацию сознания. Критика «мифа о данных», в котором эти данные имеют неоформленный характер и как таковые не несут никакого смысла, вполне оправдана. Однако она бьет мимо цели, поскольку в чистом виде этот миф едва ли можно найти в какой-либо философской системе. Например, чувственные данные у Канта все же несут смысловую нагрузку, поскольку он надеется связать с ними постоянство фона, на котором происходят временные изменения. Э. Уоткинс считает, что эти данные играют у Канта роль внешних ограничителей применения тех или иных понятий и суждений. От того, какого рода данные имеются «на входе», зависит, какими именно будут объединяющие их функции, и какие понятия и суждения будут иметь место «на выходе»8282
Watkins E. Kant and the Myth of the Given // Inquiry. 2008. Vol. 51. No. 5. P. 521–523.
[Закрыть]. Однако, как было показано, априорный характер и ограниченный набор функций единства делает невозможным объяснение на этой основе устойчивости разнообразных предметных связей явлений.
Гилетические данные у Гуссерля исходно не имеют смыслового характера, однако размышления философа подводят к признанию того, что некие первичные единства создают условия для упорядоченности кинестез и, таким образом, не позволяют пассивной сфере превратиться в хаос.
§ 7. Идея «открытости бытия» в контексте поиска оснований первичных содержаний сознания
Не случайно, что в процессе своего развития феноменология отказывается от идеи чистой эгологии. Так, «гуссерлевская концепция потенциальных горизонтов сознания и открытости опыта превращается у М. Хайдеггера в концепцию первичности понимания по отношению к сознанию, в концепцию встроенности сознания в первичные линии понимания, тождественные первичным ориентациям живущего-в-мире Dasein»8383
Молчанов В.И. Парадигмы сознания и структура опыта // Логоc. 1992. № 3. С. 12.
[Закрыть]. М. Мерло-Понти утверждает, что сознаваемый мир не есть результат синтеза. Мир всегда предпослан любому исследованию, его нельзя исчерпать до дна, показав, каким образом он был конституирован.
Может показаться неизбежным утверждение того, что первичное конституирование (пассивный синтез) осуществляется на основе воспринятых содержаний. Однако восприимчивость не находит у феноменологов признания в качестве необходимого базиса познания. Альтернативой утверждению Гуссерля о том, что вещи мира с их неизвестными и лишь постепенно открываемыми во времени горизонтами образуются в результате пассивного синтеза, выступает утверждение изначальной открытости бытия как основе всякого познания.
Восприимчивость отрицается на том основании, что результатом ее являются несвязанные чувственные данные, которые невозможно соотнести с понятиями, посредством которых мы мыслим предметы и их взаимосвязи. Критика полагания «чувственной данности» является общим местом в феноменологии. Утверждается, что связи содержатся уже в самом первичном сознании мира; не существует «сырых», бессвязных чувственных данных. Так, например, Мерло-Понти пишет: «Чтобы ребенок смог увидеть синее и красное в рамках категории цвета, она должна корениться в данных, иначе никакое подведение под категорию не сможет узнать ее в них»8484
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 204.
[Закрыть].
Заметим, что связь идеи о восприимчивости с полаганием несвязанных чувственных данных в качестве основы сознательного опыта является скорее исторически сложившейся, нежели смысловой. Признание необходимости восприимчивости возможно и без возвращения к «мифу о данных». Модель восприятия не должна непременно включать, с одной стороны, несвязанные «чувственные данные», а с другой – подчиняющие их себе чуждые априорные формы.
Но даже если допустить, что результаты восприимчивости являются связными, проблема познания «самих вещей» остается нерешенной, поскольку ничто не может гарантировать того, что субъективные связи нашего восприятия сообразуются с реальными связями воспринимаемых вещей. Эта мысль служит основанием для признания открытости бытия, обеспечивающей возможность его познания. Так, согласно Хайдеггеру, присутствие есть бытие-в-мире8585
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 88.
[Закрыть]. Всякому познанию предшествует изначальное понимание бытия, вот-бытие всегда уже освоилось в мире. Согласно Мерло-Понти, сознание не охватывает мир, но непрестанно к нему направляется. Опыт – это «сообщение конечного субъекта с непрозрачным бытием, из которого он возникает и в которое он остается вовлеченным»8686
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 282.
[Закрыть]. Сартр пишет: «Сказать, что сознание есть сознание чего-то, значит признать, что для сознания нет бытия вне строгой обязанности быть открывающей интуицией чего-то, то есть трансцендентного бытия. Если сначала задать чистую субъективность, то ей <…> не удастся выйти из себя, чтобы установить объективность <…>»8787
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто… С. 35.
[Закрыть].
Утверждение исходной открытости бытия, являющееся откликом на гуссерлевский призыв «к самим вещам», претендует на исчерпывающее решение проблемы познания, однако в действительности не решает ее, так как не делает понятным способ познания субъектом мира. Проблема осмысления субъективности как основания возможности познания, «выхода» к реальности оказывается вне рассмотрения.
Кроме того, «сами вещи», о которых ведет речь феноменология, не существуют сами по себе (в кантовском смысле), а остаются коррелятами субъективности. Мы не можем феноменологически обнаружить конституирование, синтетическую деятельность, однако предметы несут на себе черты субъективности. Так, например, Мерло-Понти утверждает, что «когда я понимаю какую-то вещь, например картину, я не осуществляю активно ее синтез, я выхожу к ней навстречу со своими сенсорными полями, перцептивным полем и, в конечном итоге, типикой всякого возможного бытия, всеобщей установкой по отношению к миру. В пустотах субъекта самого по себе мы обнаруживали присутствие мира, так что субъект должен был уже пониматься не как синтетическая активность, но как экстаз»8888
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 542.
[Закрыть].
Таким образом, открытость мира, о которой говорят мыслители феноменологического направления, есть открытость мира явлений, которым, правда, не соответствуют «вещи в себе». Проблема познания существующего независимо от сознания не затрагивается феноменологическим исследованием.
При этом в феноменологии имеет место признание того, что уже первичное сознание содержит не только элементарные содержания, но и их связи, причем эти связи не являются априорными формами, внешним образом подчиняющими себе несвязанные чувственные данные. Эти связи имеют не формальный, а содержательный характер и определяют собой синтез конкретных предметных единств, хотя мы не осознаем наличие этих связей до синтеза.
Как объясняет феноменология наличие таких связей? Восприятие познающим субъектом независящей от него реальности, несмотря на историческое первенство и соответствие интуиции обыденного сознания, в процессе развития феноменологической теории познания утрачивает значение источника новизны содержаний сознания и основы всякого приобретенного знания. Основанием отрицания восприимчивости является невозможность установления соответствия между несвязанными чувственными данными и понятиями, выполняющими функцию единства. Полагание исходных связей результатов восприимчивости также не решает проблему познания «самих вещей», поскольку эти связи отличны от связей воспринимаемых вещей.
Отрицая восприимчивость к иному, феноменологи объясняют разнообразие и новизну явлений двумя альтернативными способами. Первый из них – это утверждение того, что вещи мира с их неизвестными и лишь постепенно открываемыми во времени горизонтами образуются в результате пассивного синтеза (Гуссерль), а второй – утверждение о том, что условием познания является изначальная открытость бытия (Хайдеггер, Сартр, Мерло-Понти).
Гуссерль отрицает восприимчивость, поскольку для него феноменология должна быть эгологией, т.е. должна находить исчерпывающее объяснение мира в самой субъективности. Согласно Гуссерлю, результаты пассивного синтеза, с одной стороны, есть продукты субъективности, а с другой – образуют поле предметов, предданных активному эгологическому синтезу и обусловливающих его возможность.
Как было показано, гуссерлевская постановка вопроса о том, что именно в субъективности следует искать основание нашего сознания мира, является верной. Признание исходной данности мира ведет к тому, что субъективность как условие возможности такой данности остается без осмысления.
Что касается предлагаемого Гуссерлем решения проблемы, то оно также не приемлемо. Таким образом, становится очевидной необходимость нового обращения к понятию восприимчивости и переосмысления его таким образом, чтобы оно могло стать рабочим понятием трансцендентально-феноменологической теории познания.
§ 8. Временность и причинность как связи, объясняющие возникновение новых явлений
Прежде всего покажем, что в трансцендентальной философии и феноменологии именно временность (квазивременность) выступает в качестве фундаментальной характеристики сознания, которая определяет саму возможность существования сознательного опыта и его структуру. Затем перейдем к демонстрации того, что следствием предпосылки о фундаментальном характере временности является искаженное понимание причинности: поскольку новые содержания сознания доставляются и упорядочиваются временным потоком, исчезает необходимость осмысливать причинную связь как определяющую собой появление новых содержаний сознания.
Юм говорит об уме как связке перцепций, при этом реальная (не созданная воображением) связь перцепций сводится лишь к временному порядку их следования: «<…> каждое отдельное восприятие, входящее в состав ума, есть отдельное существование, отличное, отличимое и отделимое от всякого другого восприятия, одновременного ему или следующего за ним»8989
Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 304.
[Закрыть].
Теория причинности Юма всецело определяется тем, что он отстаивает модель ума как последовательности восприятий. Прежде всего, Юм избегает высказывать какие-либо предположения относительно происхождения первичных содержаний сознания, они возникают «от неизвестных причин»9090
Там же. С. 68.
[Закрыть]. «Что касается тех впечатлений, источником которых являются чувства (senses), то их последняя причина, по моему мнению, совершенно необъяснима для человеческого разума; и всегда останется невозможным решить с достоверностью, происходят ли эти впечатления непосредственно от объекта, порождаются ли они творческой силой ума или же обязаны своим происхождением Творцу нашего бытия»9191
Там же. С. 140–141.
[Закрыть].
Связь причины и действия при внимательном рассмотрении сводится к привычной ассоциации между идеями. Юм утверждает необходимость примириться с тем, что
«простое восприятие двух объектов или актов, в каком бы отношении друг к другу они ни были, никогда не может дать нам идеи силы, или связи, между ними; что эта идея происходит от повторения их соединения; что это повторение не открывает нам и не производит ничего в объектах, но только влияет при помощи порождаемого им привычного перехода на ум; что этот привычный переход, следовательно, то же самое, что сила и необходимость, которые, стало быть, являются качествами восприятий, а не объектов, качествами, внутренне чувствуемыми нашей душой, а не наблюдаемыми внешним образом в телах»9292
Там же. С. 219.
[Закрыть].
Юм утверждает, что в основе заключения от причины к действию лежит «постоянное соединение двух объектов во всем прошлом опыте»9393
Там же. С. 196.
[Закрыть]. Тем самым он подмечает важное обстоятельство: исходно данный временной порядок следования перцепций делает причинность излишней, поскольку выполняет ту роль, которая предназначается причинности, – роль объяснения возникновения в сознании новых содержаний и упорядочивания смены одних содержаний другими. Будучи связанной с моделью сознания-потока, идея причинности не может «сказать» о возникновении новых содержаний сознания ничего, помимо того, что уже «сказано» временем. Причинность у Юма не определяет порядок следования перцепций, но сама определяется им.
Из модели единого потока перцепций вытекает юмовское утверждение об однородности всех причин (отсутствии основания для проведения различия между материальными, формальными, целевыми и действующими причинами), о неправомерности противопоставления моральной и физической причинности. «Так как наша идея действенности имеет своим источником постоянное соединение двух объектов, то всюду, где наблюдается такое соединение, причина является действующей, а где его не наблюдается, не может быть никакой причины»9494
Там же. С. 223.
[Закрыть].
Установленный Юмом приоритет временности над иными формами организации опыта сохраняется и в кантовском априоризме. Фактически у Канта, как и у Юма, временность берет на себя роль причинности как связи, служащей для объяснения изменений в мире явлений. Правда, синтез подчинен причинности как категории рассудка, но чувственный материал для новых явлений не есть результат синтеза, а это означает, что не причинность привносит в сознание изменения. Роль, которая отводится причинности, состоит в определении объективного порядка схватывания явлений. Одна лишь субъективная последовательность схватывания ничего не говорит о связи многообразного в объекте, потому что она совершенно произвольна. Так, в случае созерцания дома, восприятия могут начаться с верхней его части и закончиться основанием, но могут идти и в обратном порядке. Напротив, объективная последовательность явлений должна состоять в таком порядке многообразного в явлениях, согласно которому событие A может только предшествовать событию В, но не следовать за ним. Так, при схватывании лодки, плывущей вниз по течению, восприятие ее положения ниже по течению реки следует за восприятием ее положения выше по течению, и невозможно, чтобы лодка, когда схватывается это явление, воспринималась сначала в нижней, а затем в верхней части течения9595
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: в 8 т. Т. 3. М., 1994. С. 193–197.
[Закрыть].
Однако можно спросить: чем определяется то, что в сознании вообще возникают эти два события? Не причинность у Канта обеспечивает появление в сознании того или иного нового события, а время, доставляющее новое многообразное содержание, подлежащее априорному оформлению. Закон причинности может лишь расставить события в определенной последовательности (либо A влечет за собой B, либо наоборот). Рассуждая о причинности, Кант оставляет за пределами рассмотрения проблему возникновения нового синтезируемого материала.
Что касается упорядочивающей роли временности и причинности, то последняя оказывается в зависимости от первой. Как отмечает П.П. Гайденко, «схема причинности есть реальное, за которым, сколько бы его ни полагали, следует нечто другое; это в сущности – чистая форма времени, т.е. последовательности многообразного»9696
Гайденко П.П. Проблема времени у Канта: время как априорная форма чувственности и вневременность вещей в себе // Вопросы философии. 2003. № 9. С. 145.
[Закрыть].
Причинность как упорядочивание чувственных данных, определяемое деятельностью субъекта, оказывается подчиненной временному порядку, вписанной в него.
«Понятие причинности как естественной необходимости в отличие ее от причинности как свободы касается лишь существования вещей, поскольку это существование определимо во времени, следовательно, как явлений, в противоположность их причинности как вещей в себе. <…> А так как прошедшее время уже не находится в моей власти, то каждый мой поступок необходим в силу определяющих оснований, которые не находятся в моей власти, т.е. в каждый момент времени, в который я действую, я никогда не бываю свободным»9797
Кант И. Критика чистого разума. С. 486–487.
[Закрыть].
Кант приходит к неутешительному выводу: только в сверхчувственном и вневременном мире разумное существо может действовать свободно, исходя из понятия разума, не будучи детерминированным природной необходимостью.
Модель «сознание-поток» наследует феноменология. Согласно Гуссерлю, абсолютный квазивременной поток есть основа всякого конституирования, причем основание связи и устойчивости объектов (интенциональность) заключено в самой структуре потока. «Психическое есть с двух сторон неограниченный поток феноменов, с единой проходящей через него интенциональной линией, которая является как бы перечнем всепроникающего единства, а именно линией лишенного начала и конца имманентного “времени” – времени, которое не измеряют никакие хронометры»9898
Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005. С. 211.
[Закрыть].
Временность выступает в качестве фундаментальной, структурообразующей формы сознания. «То сущностное свойство переживаний вообще, какое выражается рубрикой “временность”, – оно обозначает не только нечто такое, что принадлежало бы к каждому отдельному переживанию, но обозначает необходимую форму, связывающую переживания с переживаниями»9999
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. М., 2009. С. 255.
[Закрыть].
Вследствие принятия модели потока причинность оказывается подчиненной временности. Очевидно, что причинность как природная связь не может для Гуссерля играть фундаментальную роль в организации опыта, поскольку, стремясь отграничить философию как строгую науку от натурализма, философ объявляет о том, что феноменальная сфера имеет особые связи, отличные от природных связей, таких как пространство, время, причинность. Что же касается имманентной сознанию причинности – мотивации, то она определяется временностью: универсальная форма единства потока и есть «форма всеобъединяющей и в каждом отдельном случае особым образом направляющей мотивации, каковую мы также можем назвать формальной закономерностью универсального генезиса»100100
Гуссерль Э. Картезианские медитации. С. 99–100.
[Закрыть].
Именно темпоральный синтез, поскольку он протекает в пассивности и формирует горизонт опыта и определяет появление в сознании новых предметов. Универсальная устойчивая форма временности «выстраивается в ходе постоянного пассивного и совершенно универсального генезиса, который, по своей сути, включает в себя любое новое»101101
Там же. С. 106.
[Закрыть].
В целом для феноменологического направления мысли характерно отрицание причинности в качестве первичной, основообразующей структуры сознания, тогда как время в качестве имманентного времени оказывается основанием единства сознания.
Так, у М. Хайдеггера исходная темпоральность определяет горизонт и смысл бытия, его первичное понимание, перспективу познания. Она выполняет функцию обеспечения единства трех фундаментальных бытийных структур (наброска, брошенности и озабоченного устроения), которые вместе определяют бытие присутствия как заботы. «Бытие как присутствование определяется временем»102102
Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 392.
[Закрыть].
Согласно Сартру, форма временности есть основа организации сознания, определяющая его возможность быть собой, т.е. не быть тем, чем оно является, и быть тем, чем оно не является103103
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто… С. 171.
[Закрыть], быть «на расстоянии» от себя. При этом отсутствие связи составляющих потока, которое для Юма представляло проблему, Сартр, игнорируя вытекающий отсюда распад сознания, использует как лазейку для обоснования свободы: «<…> мы имеем дело с временной формой, где я ожидаю себя в будущем, где я “назначаю себе свидание по другую сторону этого часа, этого дня или этого месяца”» 104104
Там же. С. 72.
[Закрыть].
Мерло-Понти пишет: «<…> сознание – это <…> само движение темпорализации и “флюксии”, как говорит Гуссерль, движение, которое себя предвосхищает, поток, который никогда с собой не расстается»105105
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 537.
[Закрыть].
Философ считает неверным рассмотрение сознания как множественности содержаний, между которыми существуют каузальные отношения. Психические факты не вызывают друг друга, но все вместе есть составляющие «глобального проекта» – сознания, которое «вырисовывается для себя во времени в действиях, опытах, “психических фактах”, в которых оно себя узнает» 106106
Там же. С. 538.
[Закрыть].
Приоритет временности как формы, подчиняющей себе многообразие сознательных содержаний, над причинностью приводит к упрощенному пониманию причинности: событие производящее (причина) предшествует событию производимому (следствию) во времени, причем экзистенциальный порядок сводится к временнóму порядку. Такое ограничение не позволяет причинности выполнять функцию объяснения возникновения в сознании нового, ранее не существовавшего.
В настоящее время исследователи причинности в основном обращаются к изучению физической причинности, что связано с идущим еще от Б. Рассела представлением о том, что философское понимание причинности есть лишь зачаток более развитого научного понимания причинности, образец которого дает нам физика. Существует ряд проектов редукции ментальной причинности к причинности физической. Такое положение дел в значительной степени обусловлено теми трудностями, которые были выявлены в ходе исследования причинности в рамках трансцендентальной философии и феномено-логии: «<…> трансцендентализм и субъективизм могут согласиться с тем, что события следуют одно за другим, но не с тем, что они порождены друг другом. <…> трансценденталисты и субъективисты стремятся свести детерминацию к последовательности – независимо от того, однообразна она или нет, – без производительности»107107
Бунге М. Причинность: Место принципа причинности в современной науке. М., 2010. С. 39–40.
[Закрыть].
Очевидно, однако, что натуралистические версии теории причинности, оставляют неразрешенными вопросы, касающиеся ментальной причинности, причинности в истории и т.д.
Приоритет временности создает неразрешимые трудности в осмыслении оснований связей содержаний сознания. Поскольку содержания сознания «приносятся» временным потоком, вопрос о происхождении новых содержаний сознания, по сути, снимается; не требуется понимания их как результатов познавательной деятельности субъекта: возникновение нового обеспечивает само время. Субъект оказывается либо вовсе ненужным, для того чтобы перцепции могли существовать (фиктивное я Юма), либо выступает в качестве чисто формального условия их существования (кантовское представление «я мыслю», чистое эго Гуссерля), либо отождествляется с самим временем (по утверждению Хайдеггера, «“Я” настолько “временно”, что есть само время»108108
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. § 34.
[Закрыть]). Таким образом, приоритет временности по отношению к причинности влечет за собой невозможность удовлетворительного осмысления самости как условия (причины) возможности опыта.