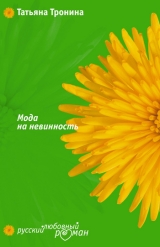
Текст книги "Мода на невинность"
Автор книги: Татьяна Тронина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ни одно окно не горело в здании архива, парк через дорогу высился черной громадой, правда, горел фонарь на пустой остановке.
– Автобуса мы точно не дождемся. Который час? Одиннадцатый? Они уже не ходят... – с досадой произнесла Инесса. – Ладно, потопали пешком.
– Может быть, мы сумеем поймать такси... – робко начала я, но тут же замолчала, кляня свою столичную избалованность.
– Как же мы могли забыть о времени... – бормотала Инесса, шагая со мной по пустой темной улице. – Ох, нет, ты не бойся, здесь не так уж долго...
Вдруг вдали послышался какой-то хриплый рокочущий звук.
– Попутка! – радостно взвизгнула Инесса. – И я, кажется, знаю кто... Ну как не узнать голос этой старой развалины!
Она выскочила на середину улицы и замахала руками. С горки спускался грузовик. В какой-то момент я здорово испугалась – ехал он довольно быстро, и мне показалось, что он не сможет сейчас затормозить и его широкая железная морда со всей дури ударит по моей подруге, но ничего страшного не произошло. Водитель затормозил, распахнул дверцу с противоположной стороны... все происходящее тоже напоминало сон. Я очень беспокоилась о своей тетушке.
– Михайла, ты домой? – звонко крикнула Инесса. – Нас подбросишь? – И, не дожидаясь ответа, подтолкнула меня к машине. – Залезай...
Я с трудом вскарабкалась на высокое сиденье и обнаружила в кабине нашего соседа. Минотавр, он же отец семейства Потапов (Михайла Потапов!), невозмутимо смотрел на дорогу, в то время как Инесса усаживалась рядом со мной.
– Порядок. Рванули, Миха!
Мы затряслись по тишинским ухабам, в машине что-то екало и громыхало, но я была бесконечна счастлива оттого, что нам не пришлось тащиться пешком по пустынным улицам. «Я помогу тебе...» Инесса улыбалась рядом, в тесной кабине, и я чувствовала левым боком, какая она горячая и сильная. А вдруг и вправду поможет?..
Потапов молчал, что было совершенно естественным для него состоянием, и ожесточенно крутил баранку.
– Как Люся? – спросила Инесса, но он в ответ только кивнул головой. Не знаю почему, но этот мрачный человек вызывал во мне какой-то трепет. Почему он так странно действовал на меня? Да, почтенный отец семейства, работяга, известный всему городу, непьющий – ведь наверняка многие женщины приводили его в пример своим благоверным как образец достойнейшего мужчины, многие завидовали пышнотелой Люсинде – ибо он любил ее, несомненно любил, до смерти любил... До смерти. Ведь вздумалось бы ей...
Тут грузовик подбросило на очередном ухабе, и я стала смотреть на дорогу, а не на Минотавра.
– Не хуже американских горок, – уголком губ шепнула я Инессе. – По крайней мере, ощущения те же...
...Тетушка была в курсе, что я отправилась в путешествие с Инессой, поэтому она не особенно волновалась.
– Но почему же так долго! – произнесла она с досадой. – Еще холодно по вечерам, ты могла простудиться...
– О нет, нас довез до дома Потапов, тот самый, что живет в доме напротив... Ах, теть Зин, мы были в Панинском парке, и Инесса рассказывала мне о предстоящем показе мод, там такая интрига завязывается...
Я была возбуждена и весела, я очень хотела верить в то, что моя прекрасная соседка мне поможет.
И, только заснув, я словно глотнула холодной застоявшейся воды, пахнущей тиной и рыбьей чешуей, – закрыв глаза, я погрузилась в прошлое, которое всеми силами пыталась забыть.
...Трудно объяснить состояние человеческой психики, когда непрерывно вспоминаешь о чем-то и в то же время не можешь вспомнить до конца.
Да, у меня в голове прочно сидело мое прошлое, постоянно напоминая о себе, – то лицо мамы в тот момент, когда она открыла дверь и увидела Вадима Петровича у моих коленей, то ощущение электричества от его тела, когда мы вечерами зубрили с ним алгебру, то еще какие-то картинки... Но дело в том, что все это были лишь действительно разрозненные картинки, эпизоды, которые ярким светом вспыхивали в моем сознании и заставляли меня корчиться и страдать. Я даже могла проговорить мою историю довольно подробно, связным текстом – как Ян Янычу когда-то, как Инессе сегодняшним вечером, но весь путь до конца я еще не проходила. Я была режиссером, перед которым лежит груда пленок, их надо смонтировать в одну ленту... о да, сюжет я прекрасно знала, как и последовательность событий, но внутренняя логика их была мне еще недоступна, та самая логика, которая заставляет понять причину происходящего.
Ян Яныч на сеансах психотерапии в клинике много чего мне говорил, умного и полезного, и Инесса не могла сообщить что-то новое, но мне, наверное, надо было выговориться именно подруге, а не врачу. Я исповедовалась этой женщине, как себе самой, – недаром я ощущала, что она является чем-то вроде моего второго «я», оттого так и недолюбливала ее попервоначалу... В моей душе словно стронулось что-то – наверное, так вздрагивает снег в горах, когда неопытный турист произносит громко какое-то слово, ледяной пласт сдвигается и... Погибну я или нет под лавиной воспоминаний – я не знала, но они уже неслись на меня с полной силой.
Этой ночью прошлое вернулось ко мне с неотвратимой ясностью – закрыв глаза и оторвавшись от сегодняшнего дня, я вдруг снова увидела этого человека – не смутным пугающим контуром, а ясно и отчетливо, как будто он стоял прямо передо мной.
...У него был тихий и спокойный голос, который, говорят, очень положительно действовал на его пациентов. Он работал в районной поликлинике, в самой обычной, и перед его дверью толпилась очень длинная очередь, потому что всем в первую очередь был нужен терапевт. Бабульки ругались, молодежь огрызалась, климактерические тетушки стервенели, мужчины засучивали рукава... черт знает что случается в этих очередях, даже самый нормальный человек теряет разум и терпение, когда его заставляют часами сидеть перед одной и той же дверью... но в самый критический момент выходил Вадим Петрович и говорил что-то тихое и спокойное, и это заставляло утихнуть бушующие коридорные страсти. И уже не имело значения, что кто-то умирал от простуды, а кто-то опаздывал на работу, а еще кто-то «с наглой мордой пытался пролезть без очереди»... Его голос умел успокаивать и завораживать.
И только я боялась этого голоса. «Оля, – зашевелил губами Вадим Петрович в моем сне. – Оленька...» Но я, как всегда, замкнула свой слух, я не хотела знать ничего из того, что он собирался мне сообщить.
...У него было странное лицо – не молодое и не старое, лицо без возраста. Такие лица обманчивы – в юности человек кажется старше, а в старости – моложе, чем он есть на самом деле. Бледная ровная кожа, светлые ресницы, водянистые глаза, бледные вялые губы, на которых вечно вертелась эта непонятная улыбка – то ли страдания, то ли радости, а скорее всего, ни того ни другого – просто мимическая особенность лицевых мышц. Как он мог понравиться маме? Хотя именно такой человек и должен был понравиться моей маме, трепетной и нежной, словно мимоза, которая боится любого неосторожного прикосновения – тихий спокойный человек, который к тому же занимается столь благородным делом, врач.
В чем-то она, наверное, не ошиблась – он ни разу не повысил на нее голоса, ни разу не поднял руку. Но то, что он сделал... Я вдруг снова увидела его лицо между своих коленей, почувствовала его язык на своей ноге – влажный, горячий и какой-то одновременно прохладный, меня опять скрутило всю, воздух ушел из легких...
– Что? – сонным голосом крикнула тетушка из своей комнаты. – Ты что-то сказала?..
Она вскочила, ее босые пятки застучали по полу. Я пыталась отдышаться.
Когда тетя Зина зажгла свет, я была уже почти в порядке.
– Ты меня звала? Я же говорила, не та еще погода, чтобы...
– Просто сон, – сказала я, падая на подушки. Какая-то одержимость охватила меня. Я вспомню все и не дам этим воспоминаниям задушить меня. Инесса меня поддержит – мы будем с ней говорить, говорить, до тех пор, пока... Я не заметила, как снова провалилась в сон.
Но дальше, как назло, был сон без сновидений, и лишь под утро не очень громкий, но зато очень пронзительный вопль прорезал темноту. Я подскочила на кровати, точно зная, что кричала не я. Или все-таки я?
Раннее майское утро едва брезжило, тонкая розовая полоска перечеркивала небосклон, едва просвечивая сквозь кусты зацветающей сирени, которая так и лезла к нам в окна, навязчивая и жизнерадостная.
– Это он. Опять он, – сидя на кровати, глубокомысленно произнесла тетя Зина, ошеломленная ранним пробуждением.
«Безусловно, не я. Но кто же тогда? Кто это «он»?»
– Филипыч, – словно услышав мои мысли, продолжила тетушка. – Ни сна, ни отдыха, а на носу экзамены, у меня вся голова распухла, опять же Головатюк...
И она вдруг куда-то энергично засобиралась.
– Ты куда? – испуганно спросила я, никак не ожидая от смиренного Филипыча таких воплей.
– Спасать, – лаконично ответила она и, окончательно придя в себя, быстро выбежала из комнаты. Мне стало страшно – любопытно и страшно, я кое-как накинула на себя халат и помчалась вслед за тетушкой.
В коридоре на втором этаже свет не горел, я едва не упала на лестнице, но потом увидела распахнутую дверь и бегущих со всех сторон жильцов.
– Глеб, нож! – услышала я голос Инессы. Что-то блестящее мелькнуло в темноте, и вдруг, словно у меня глаза только что открылись, я увидела перед собой ужасную сцену.
Филипыч болтался посреди комнаты на веревке, опрокинутый табурет лежал у него под ногами, изо всех сил он держался за петлю, не давая сомкнуться ей на шее... Полуголый Глеб, больше похожий на Тарзана или Чингачгука, чем на обычного школьника, – со своими длиннейшими смоляными патлами, подскочил к Филипычу и подхватил за туловище, не давая веревке натянуться, Инесса уже вскочила на табурет и перепиливала ножом канат над головой повешенного страдальца.
– Это что же такое?! – прошептала я громким шепотом, чувствуя, как ледяные мурашки бегут по моей спине. – Ничего не понимаю!
Филипыч как куль рухнул на пол, а Инесса с ножом посмотрела на меня сверху вниз своими блестящими насмешливыми глазами. Больше всего в ней я не любила этот взгляд.
– Попытка суицида, – хриплым после сна голосом сообщил мне Глеб. – Мам, я звоню Силохиной?
– Не стоит, детка, у меня еще есть лекарство...
Сзади уже толпились старшие Аристовы, взволнованные и серьезные, в ночном неглиже маячила смуглая и сердитая мордочка Бориса, младшего сына Инессы, потом, словно чертик из табакерки, выскочила Клавдия Степановна Молодцова.
– Так я и знала! – завопила она. – Сволочь ты, Филипыч, уж хоть бы раз довел дело до конца! Нет, ему надо непременно представление устроить, весь дом переполошил...
Филипыча тем временем уложили на кровать, Инесса притащила шприц и сделала несчастному старику укол.
– Успокаивающее, – произнесла она вслух, ни на кого не глядя, но я почему-то подумала, что она говорит это именно для меня. – Теперь будет спать сутки.
– Однако какой отчаянный! – всплеснула руками тетушка, глядя со слезами на лежавшего соседа. – Филипыч, это же грех!
– А ему наплевать! – опять вступила мадам Молодцова. – Мне, может, на работу к семи утра!
– Клавочка... – умоляюще протянула тетушка, всем своим видом намекая на милосердие.
Но на мадам Молодцову это не подействовало. Она сорвала с головы косынку и произнесла короткий, но очень прочувствованный монолог на тему того, как некоторые люди обнаглели до беспредела и у них совсем крыша поехала, а другие люди – нормальные и трудящиеся на благо общества... Инесса совершенно не обращала внимания на Клавдию Степановну и хладнокровно мерила Филипычу давление. Остальные жильцы продолжали находиться в глубоком трансе и были еще не готовы вступить в дискуссию.
Под косынкой у Клавдии Степановны, оказывается, прятались разноцветные бигуди, уложенные сплошными рядами, отчего ее голова напоминала шлем инопланетянина, а по лицу были размазаны остатки ночного крема...
Филипыч ровно дышал, глядя в потолок, Инесса держала его за руку – словом, беда пронеслась мимо. Я поняла, что Филипыч пытался свести счеты с жизнью уже не первый раз. Помнится, тетя Зина предупреждала меня о каких-то его странностях...
– Может быть, действительно вызвать Силохину? – дрожащим голосом предложила я. – Вообще вызвать «Скорую»?
– Мы вызывали раньше, – вступила в разговор Любовь Павловна, тоже вдруг показавшаяся мне в эти предутренние часы какой-то нереальной – малиновые волосы ее разметались по плечам, ночная пижама с медвежатами казалась клоунским нарядом. Супруг, Валентин Яковлевич, держал ее за руку и с испугом таращился на Филипыча. Другой рукой он отпихивал Бориса назад, не желая, чтобы мальчик все это видел. – Он давно не в себе...
– Да! – встрепенулась тетушка. – Уже два года. Надо было предупредить тебя, дитя мое, но я как-то...
– Нет, ты говорила.
– Слава богу, что нечасто, – серьезно произнесла Любовь Павловна. – Борька, марш к себе! А ты, Глеб, ложись, я уж посижу с нашим Вертером...
– Ма, и ты иди... – потянул Глеб Инессу.
Этот юноша и его мать тоже вдруг показались мне какими-то нереальными, словно не от мира сего. Слишком красивые, слишком яркие, как боги с Олимпа, вечно юные, отчего мать казалась ровесницей сына... Они так стремительно, не раздумывая, бросились спасать несчастного старика...
– ...и просто подлец! – с чувством произнесла мадам Молодцова.
– Аким Денисович поздно вчера вернулся? – вставая, словно между прочим спросила Инесса.
– Что? – мадам Молодцова споткнулась.
– Конечно, если его так долго ждать, а потом ни свет ни заря вскакивать... Вы хоть на часик-то глаза сомкнули?
Я решительно ничего не понимала, но на Клавдию Степановну слова Инессы подействовали самым волшебным образом. Она вдруг замолчала, покрепче запахнула на себе блестящий фиолетовый халат из полиэстра, от которого во все стороны летело статическое электричество, и попятилась назад.
– Да, вызывали мы раньше врачей, – задумчиво продолжала Любовь Павловна. – Только это, Оленька, не помогает. И вообще, в больницы у нас лишь тяжелых берут, а Филипыч так, представляет... – шепотом сообщила она. – Мы его один раз уже сдавали в больницу. Когда первый раз это случилось...
– Да! – кивнула тетушка, говоря тоже шепотом, чтобы несостоявшийся самоубийца не слышал. – Теперь жалеем. Пролежал там месяца два, вернулся совершенным овощем, поседел весь и исхудал, в себя потом еще дольше приходил. Мы уж как-нибудь сами...
– Конечно, сами. – Любовь Павловна не боялась никаких трудностей. – Я вот с ним посижу немного, пока не уснет... Спать он будет долго, а завтра мы к нему все по очереди будем заглядывать.
– А вдруг... а вдруг он опять?!
– Нет, мы уж его изучили... Еще месяца два-три будет смирный. Я же говорю – ритуал у него такой. Страшный, но ничего уж не поделаешь! А так-то он вполне соображает...
– Странный ритуал... – пробормотала я, оглядывая комнату. Место, где обитал наш странный сосед, выглядело вполне заурядно. Старая мебель, вполне обычная для пожилого небогатого провинциала (у тетушки точно такая же), чистая скатерть на столе, потемневшая репродукция «Незнакомки» Крамского на стене... Правда, было очень много растений, растений без цветов – они стояли везде: на подоконниках, на столе, на шкафу, даже на стульях. Огромные корявые столетники торчали из облупившихся кастрюль возле кровати.
– Это он из-за матери, – многозначительно произнесла тетушка.
– Да, как умерла она...
– Женщина очень строгих правил!
– Люблю и ненавижу, – так же многозначительно поддакнула ей мать Инессы. – И еще тут одно лицо замешано.
«Люблю и ненавижу? О чем это они? Ах да, помню – была какая-то история со вдовой, вдовой Черновой...» Я все время думала о том, кто же является отцом детей Инессы, и, признаюсь, эту сцену наблюдала с большим любопытством – а вдруг что-нибудь такое проскользнет, откроет старую тайну... Все-таки ни один из вариантов еще окончательно не доказан. Но представить себе, чтобы столь гордое и насмешливое существо, как моя новая подруга, связалось с этой старой размазней Филипычем, было совершенно невозможно. Опять же вдова Чернова... Они спасали его из благородных побуждений. С таким же самоотвержением они спасли бы даже собаку. «Она мне никогда не расскажет свою тайну. Но как же она тогда сможет мне помочь?»
– Идите спать, Оленька! – вдруг улыбнулся мне Глеб своей чудесной, нездешней улыбкой. – На вас лица нет.
– Да-да, – встрепенулась и тетушка и потащила меня к выходу. – Для твоих нервов это не слишком полезно...
Я оглянулась в последний раз, но посмотрела не на бледного Филипыча, с тоской изучающего потолок, а на Глеба. Он был так хорош – до рези в глазах. И Инесса, его мать... Когда-то давно она была Ледой, и к ней, трепеща белоснежными крыльями, спустился чудесный лебедь, чтобы потом...
– Оленька, да пойдем же!..
Позже тетушка еще раз попыталась растолковать мне причину странного поведения Филипыча – она считала, что так тот протестует против воли матери, которая и после ее смерти довлела над ним.
– И еще он очень тоскует по ней, – закончила она.
– «Люблю и ненавижу». Понятно... – усмехнулась я. Сколько раз я слышала об этом странном феномене, о борьбе и взаимодействии двух противоположных чувств. На самом деле мне все это было не очень понятно – свою мамочку я любила слепо, безоговорочно и неистово, и как можно ненавидеть того, кого любишь всей душой, я не знала. Даже сейчас она существовала для меня в настоящем.
Все же жалость к несчастному старику меня преследовала, и на следующий день, когда он проснулся, я вызвалась сидеть с ним.
Аппетита у Филипыча никакого не было, он едва прикоснулся к овсяной каше, которую я ему сварила, хотя лучшей пищи, казалось бы, для больного старика и придумать невозможно, говорить ему на душеспасительные темы не хотелось, и вообще, он как будто меня не замечал.
Я снова взялась за «Вешние воды» и довольно много прочитала... Филипыч все лежал рядом, на кровати, беззвучно шевеля губами, а у изголовья сплетались листьями алоэ, словно в смертной муке, – их было много, и все они выглядели исключительно отталкивающе. Было тихо, не слышалось даже фортепьянных аккордов – наверное, Борис убежал кататься на роликах.
– Филипыч, вы спите? – строго спросила я.
Он в ответ промычал что-то меланхолическое.
– Филипыч, алоэ, оно же столетник, конечно, очень полезный цветок, но хорошо бы еще какую-нибудь гераньку... – Я встала и подошла к окну, где росли алоэ меньшего размера и торчали из горшков кусты хлорофитума. – У вас же нет ни одного цветущего растения!
Таким образом я пыталась отвлечь его от грустных мыслей.
– У тети Зины много фиалок, я принесу вам, – бодрым голосом сообщила я. – Вы спите?
Он в ответ опять что-то промычал.
– Зелень – это хорошо, – сказала я, разглядывая растения на подоконнике. – Но когда главенствует только один цвет, подавляя все прочее, становится не по себе. Вот когда я лежала в клинике, там... ах, Филипыч, если б вы знали, какие чудесные растения существуют на свете! И кротоны, и эхмеи с колючими розовыми соцветиями, и... – я запнулась, потому что не помнила больше ни одного названия. – А розы! Вы любите розы?
В ответ он слабо прокашлялся.
– Я очень люблю розы. Это так банально, и в то же время... – Я почувствовала, как слезы невольно навернулись у меня на глаза. – Они чудесны, ибо лучше их нельзя ничего придумать. Вы скажете, что есть на свете еще какие-то дивные цветы... орхидеи, например, которые по форме и по аромату... А я вам возражу, что орхидеи и прочая экзотика уже перешагнули пределы прекрасного, они просто слащавы. Это не наше, не земное... И шипы! Представьте, у розы есть шипы, и в этом тоже глубокая философия... – я даже смолкла на мгновение, потому что горло перехватило волнение.
Филипыч как будто слушал меня.
– Когда-то, давным-давно, я читала один рассказ. У Куприна. Вы читали Куприна? Я не очень сильна в литературоведении, но помню, что он, кажется, принадлежал к реалистической школе... были в конце девятнадцатого – начале двадцатого всякие течения в искусстве, символисты и футуристы, еще очень много... Так вот, Куприн был реалистом. Это я к чему?.. – споткнулась я. – Ах, да, это я к тому, что, несмотря на то что он принадлежал к серьезной классической школе, и другие его соратники, которые творили в той же манере... все равно на их писаниях лежала печать упадка, гибели, грядущих страданий. Орхидея – это декаданс, – с твердым убеждением произнесла я.
Прозрачные стебельки хлорофитума передо мной задрожали от сквозняка, который дул в оконные щели.
– Но вы меня все время сбиваете, Филипыч, – с досадой воскликнула я. – Я пытаюсь сформулировать свою мысль, но мне это никак не удается. Тут, собственно, дело не в литературных течениях и не в дурацких орхидеях, дело в другом. У Куприна есть короткий рассказ о розе и столетнике. – Я сделала многозначительную паузу. – История банальна и цветиста (пардон за тавтологию), даже изрядно выспренна, как и многое в творчестве этого писателя, но что-то такое проскальзывает... что-то, от чего хочется заплакать. Глупо, да? В оранжерее старого садовника росло множество дивных цветов – самых разных и экзотических, были собраны все шедевры ботаники! И между ними, цветами, шло соперничество – кто из них самый красивый, и все такое... это по форме притча или сказка. Так вот... Конкурс красоты. И кто из них самый красивый, очень трудно было решить, но безусловным являлось только одно – самым безобразным выглядел Столетник. Уродливые толстые стебли с колючками, переплетенные друг с другом... что-то корявое и исключительно неэстетичное. Все цветы смеялись над ним, а он терпел. Он привык терпеть, потому что уже много лет, даже много десятков лет, жил в этой оранжерее... Лишь один старый садовник знал секрет Столетника, но об этом потом... И вот однажды на рассвете распустила свои лепестки дивная Роза. Тут у Куприна длинный пассаж на тему того, какого особенного оттенка были эти лепестки, какой особенный аромат она источала... И цветам сразу стало ясно, кто среди них настоящая царица.
Филипыч сзади глубоко вздохнул, и мне показалось, что он заинтересовался моим рассказом. Тем лучше. Тем дальше он от мыслей о смерти...
– Безобразный Столетник тут же влюбился в Розу, и ничего удивительного в этом не было, он стал шептать ей слова любви. Другие цветы услышали это и подняли его на смех... как он посмел, такой мезальянс! Роза тоже вроде выразила пренебрежение – но так, мягко, в царственной манере – дескать, не суйся свиным рылом в калашный ряд. И тогда еще тише шепнул ей Столетник, чтобы она не отворачивалась от него, потому что есть у него некая тайна, что не так уж он недостоин любви царственной особы... «Раз в сто лет я начинаю цвести, а потом погибаю, давая жизнь новым побегам, которым, в свою очередь, ждать еще сто лет своего часа. Этой ночью, я чувствую, зацвету. Это цветение – для тебя, моя королева».
Тут я не выдержала и прерывисто вздохнула. Впрочем, Филипыч столь внимательно слушал меня, что я не позволила себе расслабиться.
– Так вот, – мрачно возвысила я голос для пущей интриги, – ко всему прочему, ночью еще случилась гроза. Сверкает молния, грохочут раскаты, все цветы отчаянно трусят. И вот во время одной из вспышек молнии раздается еще один странный треск... Толстый ствол Столетника лопнул, и показались гроздья цветов удивительной красоты. Садовник, который по всем приметам уже давно ожидал этого часа, быстренько прибежал, позвал народ... Все – и другие цветы, и люди – с благоговением следили за Столетником, потому что его цветы меняли оттенки от нежнейших до самых ярких, а аромат... Словом, тут у Куприна опять длинный и многословный пассаж на эту тему, как замечательно и фантастично было цветение Столетника! Роза тоже со страхом и благоговением наблюдала за этим процессом, она знала, что это – для нее. Он – для нее. К утру, переменив все цвета радуги, чуть не сведя всех с ума своей красотой, Столетник завял и пожух, пустив молодые побеги, а Роза устыдилась и... Впрочем, боюсь соврать, чем там дело закончилось, помню только, что, устыдившись, она склонила голову...
Я опять взволнованно вздохнула.
– Это я к чему? Я к тому, что в любви все равны... Нет, вернее, я к тому, что и человек иногда цветет вроде столетника. Это самые прекрасные цветы, хотя это – метафора, фантастика, виртуальная реальность... Вы верите, что так иногда случается... раз в сто лет?
Сзади меня всхлипнули, и я очень умилилась тому, как мой рассказ подействовал на несчастного старика. Я быстро обернулась и вдруг с изумлением обнаружила в комнате присутствие третьего лица.
В дверях, прислонившись виском к косяку, стояла вдова Чернова. По ее желтому и сморщенному лицу тихим дождиком текли слезы, и вся она была похожа на монашку – и черной одеждой, и смиренно сложенными на груди ручками. Я почувствовала себя довольно неловко. И как она смогла столь незаметно прокрасться?
– Добрый вечер, – прошелестела она. – Я вот пришла навестить болящего. Сегодня ходила на базар и там вот... узнала. Филипыч, как ты?
Филипыч упорно молчал, только еще сильнее зашевелил губами. Интересно, может быть, у него окончательно крыша поехала?
– Филипыч, к вам пришли, – громко сказала я. – В состоянии ли вы принять посетителя?
Вдова Чернова скромно потупилась и мелкими шажками приблизилась к кровати. Я уж было совсем забеспокоилась за несчастного страдальца, но он вдруг ожил и произнес неожиданно четким высоким голосом:
– Уходи.
– Кто... уходи? – испугалась я.
– Пусть она уйдет, – сказал Филипыч, сделав ударение на слове «она». – А вы, Оленька, оставайтесь. Этой женщине здесь нечего делать.
Неожиданно вдова Чернова перестала плакать и произнесла с робким негодованием:
– Но почему? Что я тебе сделала? Почему ты меня гонишь?
– Уходи, – твердо повторил Филипыч.
– Хотя бы капельку счастья, хоть на одно мгновение! – разгорячившись, повысила она голос. – Мы же ничего плохого не делаем. Ну просто поговори со мной, чего тебе стоит? Я сегодня была на базаре и узнала, что ты... что ты опять... Как бы я хотела утешить тебя, ведь я... ведь мы когда-то...
Филипыч страшно разволновался – это я увидела по его лицу и увидела еще, что он ни за что не снизойдет до молений бедной вдовы, ему только хуже станет.
– Не надо. – Я потянула Чернову за рукав черной вязаной кофты. – Он еще не вполне отдохнул. Идем. Потом... потом поговорите.
Я вытащила ее в коридор и помогла спуститься по лестнице. От вдовы очень крепко несло нафталином и еще каким-то странным запахом, как будто она сто лет провела в сундуке. Сто лет. И здесь эта цифра... Может быть, сто лет одиночества?
В самом низу она схватила меня за плечи своими желтыми руками и вопросила с горячностью:
– За что он так меня мучает? Впрочем, я знаю, это все она...
Я сразу поняла, что вдова говорит о матери Филипыча.
– Она не хотела, чтобы ее сын принадлежал кому-то. Только ей. И уж чем я ей не пришлась? Говорила, – она вдруг понизила голос, – что ничего хорошего в моем вдовстве нет. Я ведь рано вышла замуж и рано овдовела.
– Ну и что?
– А то, что якобы нельзя связывать свою жизнь с вдовцами или вдовицами.
– Почему?
– Она говорила, что тогда следующий супруг тоже непременно помрет. Говорила, что не хочет терять сына. Мы двадцать лет встречались тайно. Редко...
– О господи! – машинально перекрестилась я.
– Теперь она сама померла. Ведь давно, если подумать. И нет чтобы нам сойтись, ведь не помешает уже никто, так нет! Испугался. Я, говорит, даже после ее смерти не могу пойти против ее воли. А ты уходи, не маячь, – это он мне. И теперь он чуть ли не каждый календарный праздник вот такую петрушку устраивает.
– Хочет и не может, – голосом Ян Яныча резюмировала я. – Ну и не мучайтесь. Безнадежный случай. Поставьте перед собой новую цель, заведите какое-нибудь домашнее животное... Собачку! Как вы относитесь к французским бульдогам?
– У меня коза... – значительно сообщила вдова. – Если вы, Оленька, насчет молочка, то я вам... Да боже мой! Я ж его люблю! – словно опомнившись, горячо воскликнула она, но тут же смолкла.
Сзади, насвистывая, спустился Аким Денисович Молодцов, мужчина хоть и не первой молодости, но еще очень даже о-го-го.
– Привет, девчонки, – сквозь зубы произнес он и прошел мимо.
– Кобель противный, – зашелестела ему вслед вдова. – И чего Клавка за него держится...
Я вернулась к Филипычу – он уже спал. Бледный, седой, с колючей неопрятной щетиной, он в то же время очень напоминал ребенка, который, вдоволь наплакавшись, наконец успокоился и уснул.
* * *
...Произведя ревизию в моем гардеробе, Инесса недовольно нахмурилась.
– Это не есть хорошо, – с интонацией Екатерины Великой произнесла она. – У тебя совершенно нет приличной одежды.
– А мое голубое платье? – вспыхнула я.
– Ну, разве что только оно... Ты хочешь забыть о прошлом? Тогда все время думай о своем гардеробе, я тебя уверяю – нет лучшей терапии для женщины!
– Чемодан в Москве собирала тетя Зина, – предательски выдала я свою тетушку. – Если б я делала это сама, то, конечно, ты сейчас была бы не столь категорична...
– Что ж, на это мне возразить нечем. Но выход есть – мы сейчас пойдем с тобой в магазин. Я не могу смириться с тем, чтобы такая хорошенькая девушка ходила в этих ужасных тряпках. – И она с негодованием развернула светло-коричневое широкое платье с пелериной, которое я никогда не надевала. Оно было куплено, когда я разносила почту по домам, но, несмотря на тяжелые обстоятельства, тут же спрятано в шкаф. Я тогда же решила, что почту разносить в этом платье вовсе необязательно, но, возможно, я когда-нибудь воспользуюсь им в качестве домашней одежды, опять же мыть полы в нем... Потом я просто забыла об этом наряде. Вероятно, тетя Зина, собирая меня в дорогу, руководствовалась тем, что вещь новая, да к тому же с такой очаровательной пелеринкой... – Кошмар!
– Согласна, – меланхолично произнесла я.
– Конечно, я могла бы отдать тебе кое-что из своих вещей, но, боюсь, тебе будет немного узковато. – Она критично осмотрела мою фигуру. – И у тебя совершенно другой стиль! Я вижу тебя... ах, нет, давай лучше поскорее перейдем от слов к делу!
– Сейчас? Прямо сейчас? – удивилась я такой горячности. – Но я не могу, мне надо до трех успеть в библиотеку, сегодня последний день.
И я кинула озабоченный взгляд на томик Тургенева, который лежал на трюмо.
– Какие глупости! Позвони и попроси продлить срок.
– Не могу! – упрямо сказала я. – Марк обещал отложить мне Надсона, а то на него покушаются здешние романтические дамы, это единственный экземпляр. Кто бы мог подумать, что в провинции столь читающая публика!
– А что здесь еще делать... Ладно, по дороге зайдем в библиотеку, это быстро.








