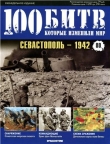Текст книги "Форт Далангез"
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Я, попав в их дом, сразу же понял, что главной в их семье является старуха. Отдавала она меня вот как… Муж её – усатый сгорбленный старик – взял меня за руку и отвёл на единственную деревенскую площадь. Шагая рядом со стариком, я оглядел окрестные хмурые горы, с которых дует пронизывающий ветер. В то время снега ещё не было, но я смекнул, что если он выпадет, то зима скорее всего окажется не менее суровой, чем где-нибудь в центральной России. Однако старик привёл меня на площадь не за тем, чтобы я любовался горами. На деревенской площади на высоком, специально построенном для этого помосте огромный сильный свирепого вида длинноусый турок срубил кривым ятаганом голову русскому солдату. Я хорошо запомнил, как бородатая та голова упала с помоста на подмёрзшую землю и как присутствующие на площади турки посмеиваясь принялись пинать её башмаками. "Это мой старший сын – Касапаглу-бей. Теперь он твой хозяин", – проговорил старик, указывая на свирепого турка с огромным окровавленным палашом. Я заплакал, но старик остался равнодушен к моим слезам, а посоветовал только молиться Аллаху, и я последовал его совету.
Касапаглу-бей – это такой воинский начальник, командующий большим кавалерийским отрядом турок. Турки эти – свирепые усатые и бородатые воины с ружьями, при саблях на хороших и злых конях. По-нашему Касапаглу-бея называли бы сотником. И вот я стал его домашней прислугой. Делал всякую работу – то коня ему почисти, то воды принеси. Бегал и по поручениям. Вместе с его сыновьями ходил в мечеть. Ел с хозяйского стола ту же пищу, что и дети, и жены Касапаглу-бея. Через некоторое время я перестал бояться наказания или смерти отсечением головы. Перестал думать о том, как турки станут смеяться и пинать мою голову ногами.
Касапаглу-бей часто выспрашивал меня о повадках и обычаях русских, и я честно отвечал ему, дескать, в русском войске много терских казаков-староверов, которые истово чтут все церковные праздники и несоблюдение обычаев православия считают предательством веры. В праздник Рождества Христова, почитаемый наравне с православной Пасхой, ни один казак воевать не станет. Моим словам верили, ведь сам я показывал себя человеком правоверным, преданным заповедям Магомедовым…
Так провёл я время с ноября месяца по сей день в полной уверенности, что задачу свою выполнил верно, ведь турки нападения нашей армии не ждали. Касапаглу-бей покинул своё село незадолго до нового года и в страшном волнении. Часть его сотни также была рассеяна по окрестным сёлам – всадников отпустили к семьям для отдыха. Пробирались к Эрзеру-му по глубоким снегам и едва не перемёрзли. В пути Касапаглу-бей посматривал на меня косо и обзывал "глупцом" и "горе-провидцем", но слова "предатель" или "лгун" он ни разу не произнёс.
По прибытии в Эрзерум Касапаглу-бей получил распоряжение от своего начальника о занятии боевых позиций. Позабыл сказать! У моего хозяина было двое взрослых сыновей. В возрасте шестнадцати и семнадцати лет эти люди достаточно владеют воинским искусством, чтобы служить в строевых частях. Так вот, Касапаглу-бей отправлялся на позиции вместе со всей своей сотней и обоими сыновьями. Я слышал, как перед отбытием рассуждали они обо мне: брать или не брать с собой на передовую. Из разговоров я заключил: полного доверия ко мне нет, и потому я остаюсь в тылу, то есть в Эрзеруме. В силу моей набожности и, как предполагал Касапаглу-бей, особенно выдающейся глупости, меня определили в одну из местных мечетей слугой для присмотра за печами. Мулла, достаточно воинственный, сильный и нестарый ещё человек, готовый в случае надобности сам взяться за оружие, присматривал за мной. Я боялся, что ко мне применят один из способов усмирения. Например, сломают или отнимут ногу. Но обошлось без этого. Мулла был слишком занят убитыми и ранеными, которые стали поступать с фронта. Турецкие строевые части несли большие потери, потому-то я и понял: победа близка. Тогда я затаился и стал ждать, неукоснительно выполняя все распоряжения муллы. Мне приходилось и ухаживать за ранеными турецкими офицерами, и хоронить умерших от ран. Но я не предал. В моей работе не было предательства…
* * *
Закончив свою речь, Галлиула ухватился обеими руками за полупустой стакан с чаем. «Я не предавал. Не предавал!» – твердит он, вздрагивая.
– Водки ему, – говорит кто-то.
– Мусульманам пить вера не разрешает, – возражают ему.
– Ах, оставьте! В Первопрестольной часть извозчиков и все дворники – татары. Никогда не видел ни одного из них трезвым.
– Водки ему! Водки!
Все загомонили разом, а Галлиула разрыдался самым трогательным образом. Я, грешный, также украдкой трогал намокшие усы. Явился Лебедев с чистой крахмальной салфеткой отбеленного льна и подал мне её. Зачем? Впрочем, прикосновение шершавой ткани к разгорячённому и влажному лицу принесло мне облегчение. А спорящие так увлеклись друг другом, что совершенно позабыли и о Галлиуле, и даже обо мне. Откуда ни возьмись явился Мейер с зажженной самокруткой в руке. Запахло сладковатым дымком. Ни слова не говоря, этот благотворитель сунул самокрутку в рот растерянному татарчонку.
– Две затяжки – и будет с тебя, – проговорил отважный пилот.
Вдохнув немного дыма, Галлиула действительно немного успокоился и попросил у Лебедева ещё чаю.
– Ещё один тайный курильщик, – проворчал тот, но чаю налил.
– Вы не расспрашивайте его больше, – проговорил Мейер самым приватным тоном, так что слышать его могли только я и Лебедев. – При нашем приближении к Эрзеруму он убил турецкого муллу. Теперь страдает бедняга, распятый меж верностью родине и верностью вере.
– Как так? – удивлённый Лебедев едва не выронил поднос со снедью.
– Местный мулла оказался весьма воинственным типом. Пока вы тут чайком баловались, подъесаулы Зимин и Медведев со своими людьми оббегали всю площадь, дабы обеспечить полную безопасность штаба армии. И что вы думаете? В подвале мечети обнаружен целый арсенал.
– Это, конечно, большое упущение с нашей стороны. На целую дивизию – один мулла, – вздохнул я и, адресуясь к Галлиуле, добавил: – Ты ступай, милый. Нам тут с господами офицерами надо нашими штабными делами заниматься. Лебедев, ты распорядись, чтобы Галлиулу в его же часть отправили.
– Никак невозможно, ваше высокопревосходительство. Полк Пирумова… – Лебедев умолк, самого себя оборвав на полуслове.
– Да! Даниил-бек… как они?
– Пирумов жив, – быстро ответил Масловский.
Лебедев благоразумно молчал. А мне сердце защемило от воспоминаний.
– А что, поручик, – обратился я к Мейеру, – ваша вылазка на форт Далангез с Зиминым и Медведевым?..
– Так точно, ваше высокопревосходительство! Мы готовы! – Мейер щелкнул каблуками.
Эх, плохо у него это получается – щёлкать каблуками. Вот стоит он передо мной, генералом, вроде бы навытяжку и честь пытается отдать, а на деле выходит у него одна только несуразность, словно он не старшему офицеру докладывает, а перед обывателями, которые никогда в жизни аэроплана не видели, красуется.
– Ах, да!.. – Мейер тушуется, смотрит на меня с несколько наигранным сочувствием и в то же время изучающе, дескать, насколько велика моя скорбь по утраченному "племяннику"?
Я поднимаюсь на ноги, кладу правую руку зазнайке на плечо. Тяжело кладу, с нажимом. Он повыше меня ростом, и мне очень хорошо видно, как подрагивают его красивые губы. И не только губы, весь он слишком красивый, точёный, лепый, логичный. Нет в нём нашей, русской, иррациональности. Отличительная эта особенность питает его и без того значительную гордыню.
– Я – русский, – внезапно произносит Мейер. – Я хочу быть русским.
– Привези Адама сюда. Чудак мечтал о награде, и он её получит. Пусть посмертно, но получит.
– Это очень по-русски – награждать посмертно, – произносит Мейер.
– Подвиги совершают лишь те, кто верит в жизнь вечную, – отвечаю я, отпуская его плечо.
А из-за двери уже слышна тяжёлая кавалерийская поступь: Зимин и Медведев вваливаются в комнату в облаках пара.
– Господин поручик, пора! – рычит Медведев, а Зимин, ещё не привыкший к офицерскому чину, величает Мейера "вашим благородием".
Они уходят, уводя с собой воскресшего Галлиулу, для которого Зимин уже раздобыл подходящего коня и бурку. Мои штабные офицеры переходят в соседнюю комнату – там им подали обед. Мы с Масловским остаёмся наедине. В углу, у печки топчется всё ещё Лебедев. Этот то и дело оглядывается на окно. Там Медведев, Зимин и Мейер садятся в сёдла.
– Что ты, Пашка, будто на девок засмотрелся? – спрашиваю я.
– Смейтесь сколько вам угодно, Николай Николаевич, а только, зная, к чему дело склонится, я уж и коня себе приготовил…
– Когда же успел?
– Вы же наш обычай знаете: ежели что особенно надо, так то всегда успеется. И ещё вы знаете, как я Адама Иосифовича уважал. И мечту его светлую уважал. Я Адама Иосифовича ставил выше, чем его друг – поручик Мейер, который Адама Иосифовича собачьей кличкой величал.
– Собачьей кличкой? Как это? – рассмеялся Масловский.
– По Чехову, Дамкой…
– Как-как?..
Масловский хохотал в голос, а я принял решение:
– Ступай, Павел. Догоняй честную компанию, да чтобы к завтрашнему утру вернулись. Как-никак мой Адамчик не просто какой-то там… а почётный гражданин города Костромы и пал смертью храбрых…
– И мечта у него была…
– Ступай-ступай! С Богом! О мечтах потом…
Глава девятая
МЫ – РУССКИЕ!
(рассказ артистки цирка, гипнотезёрки и разведчицы Амаль Меретук)
Эрзерум – паршивый городишко, представляющий собой лабиринт кривых, плохо мощённых улиц, которые столь узки, что не везде видно небо. Из-за дурно работающей канализации вонь стоит неизбывная. В целом Эрзерум слишком похож на литературные описания средневекового Парижа. Кому же может такое понравиться? Дело могли бы поправить пейзажи окружающих городишко гор. Припомните наш Пятигорск или Владикавказ. Чистый прозрачный воздух, чистая вода, мягкая зима, не слишком жаркое лето – одним словом, климат прекрасный. К красотам природы прилагается плохо повинующееся властям разношёрстное население, отчасти плутоватое и почти поголовно воинственное. Я родилась с тех прекрасных местах и знаю, о чём говорю.
Эрзерум также со всех сторон окружают горные кряжи, однако пейзаж в зимнюю пору всегда туманен. Кажется, будто густые кучи облаков сползли с окрестных гор и опустились на крыши приземистых построек, создав своеобразный купол, не позволяющий чистому воздуху проникать на эти улички извне. Но порой случаются такие ночи, когда невесть откуда взявшийся штормовой ветер плачет и стонет в печных трубах, стучится в ставни, затягивая оконные стёкла сплошной изморозью. Такой ветер загоняет смрадные эрзерумские туманы на верхушки окрестных гор, где они и остаются до поры. А ты, проснувшись после ураганной ночи поздним зимним утром, обнаруживаешь воздух свежим, небо чистым, а под ногами вместо обычной грязи хорошо промороженные кочки.
Всё время моего пребывания в Эрзеруме я была всецело озабочена соображениями собственной безопасности, возвращаясь к мыслям о Ковшихе лишь время от времени.
Что может быть важнее собственной безопасности для человека такого, как я, с двойным дном?
Как позаботиться о себе, когда мир стоит на пороге больших потрясений, когда на относительно спокойную жизнь – а моя жизнь при "дворе" Камиля-паши была преисполнена спокойного благолепия – провидением отведено не более двух лет?
Конечно, у меня за подвязкой всегда припрятан вариант для маневра при самом плохом раскладе. А если б не так, то я, пожалуй, и не взялась бы. Но эрзерумский расклад лично для меня был наиболее благоприятным. Совсем иное дело – Адам. Тщеславие и страсть к опасным приключениям привели его к гибели. Геройская гибель на поле брани – что может быть пошлее, особенно если речь идёт о XX веке? Ещё хуже, из того же ряда – мученическая и безвестная смерть. Всё это не для Амаль Меретук, о нет! Амаль Меретук желает и может благополучно выживать при любых обстоятельствах. Разве не для этого дано ей ВИДЕНИЕ?
Итак, Камиль-паша, уверенный в том, что до наступления тепла, когда снег растает и весенняя влага просочится через почву в земные недра, бурных боевых столкновений на эрзерумском театре не будет, отбыл в Стамбул. Там он занимался устройством своих личных и семейных дел, уделяя мне внимание лишь в форме частых, наполненных нежностью писем. Среди прочих уверений, он клялся мне в том, что не расстаётся с моим подарком – поразительно безвкусным медальоном, изготовленным в одной из эрзерумских мастерских. Ответными письмами я уверяла его в своей особенной преданности и делу младотурецкой партии, и ему лично. Являясь женщиной здравомыслящей, я и думать забыла о доме на берегу озера Кючюкчек-мендже и в каждом письме умоляла Камиля-пашу не возвращаться в край высоких сугробов и обледенелых гор, именуемый Турецкой Сибирью.
Право слово, к чему мне зависимость от турецкого паши, недвижимое имущество в городе, где мне никогда не жить? В память о Камиле-паше у меня осталась небольшая коллекция украшений из золота – паша по местному обыкновению покупал мне что-нибудь каждую субботу, – которые при умелой реализации могли составить небольшое состояние в любой из европейских валют. Кроме того, в Трабзоне тоже было припрятано кое-что на всякий случай. И вот этот случай как раз настал, но до Трабзона надо ещё добраться…
К тому же, прежде чем отправиться в Трабзон, надобно встретиться ещё раз с русским генералом, да и Ковшиха надо проводить в дальний путь – не пустой человек, богобоязненный. Нехорошо оставлять его тело неприбранным на съедение падальщикам или хоронить безвестно в братской могиле. Бурный был человек, многосмысленный, нажил денежное состояние, а семьи и наследников не имеет, хоть и еврей.
Снедаемая нерешительностью и сомнениями, призвала я на совет своего возлюбленного подбеска и тот, под особо причудливый карточный расклад, посоветовал не совсем несообразное, а именно: выйти замуж за военного человека, за русского офицера. Перед тем как насоветовать, долго и красноречиво пугал всевозможными бедствиями: войну, революцию, голодомор – всё в кучу собрал так, что трудно и поверить лукавому. Да я бы и не поверила, если б не обстоятельство, известное мне с младых лет: склоняя человека к вранью, сам бес не врёт никогда. А что до встречи с офицером, то находясь вблизи театра военных действий, сделать это проще простого.
После разговора с подбеском никакого плана у меня не возникло. Я действовала скорее по наитию, чем по расчёту, и для начала съехала из апартаментов Камиля-паши в небольшую квартирку, где и произвела подсчёт своих ресурсов. Результаты опечалили меня несказанно: достойные поминки, доставка тела в Кострому и прочие погребальные расходы оставят меня совершенно без средств. Убиенный Ковших возможно и наверняка оставил мне что-то. Значит, предстоит волокита с поверенными и прочими спиногрызами, а возможно, и судебная тяжба с его наследниками. Поиск справедливого решения – долгий путь, а мне после полной победы русского оружия и скоропалительного отъезда Камиля-паши следовало позаботиться о заработке. Но как заработать артисту в заштатном Эрзеруме? Долгие раздумья и скорбь всегда утомляют меня. В поисках радости от глотка свежего горного воздуха я отправилась на прогулку, благоразумно прикрыв фигуру традиционной одеждой мусульманок, именуемой чадрой.
Гуляя по улицам Эрзерума от одной лавки к другой в сопровождении приданного мне квартирной хозяйкой мальчика, торгуясь, продавая, покупая и производя обмен, я узнала о прибытии в Эрзерум штаба генерала Юденича в сопровождении двух полусотен 1-го и 2-го Кизляро-Гребенских полков, интендантской роты и военного оркестра. К вечеру мне стало известно и место расположения штаба, возле которого грозные бородачи несли караульную службу с примкнутыми к эфесам шашек штыками.
Через два дня после прибытия штаба командующего при большом стечении обывателей состоялось торжественное вручение наград. Имена награждаемых объявлял полковник в пенсне – знакомое лицо, опрятность, сдержанность, приятные манеры и тёплое сияние вокруг головы, обещающее долгую жизнь. Среди прочих полковников было названо и имя Ковшиха, и разведчика-татарчонка, которому каким-то чудом удалось выжить, и даже моё имя. При этом нас с Ковшихом объединили в посмертном награждении, словно мы являлись влюблёнными или супругами. Я явилась на продуваемый ледяными плац, закутанная бог знает во что, – подаренные Ковшихом русские меха остались в Трабзоне, – я дрожала от холода под пронзительные звуки военного оркестра, исполнявшего попеременно то "Прощание славянки", то "Боже царя храни". Второй мотив неизменно сподвигал собравшихся на плацу военных к торжественному хоровому пению. После вручения наград командующий произнёс краткую речь, назвав присутствующих "Русскими богатырями" и "опорой империи". Событие на плацу развеселило и воодушевило меня. Вернувшись на квартиру, я отправила слугу в русский штаб с запиской, писанной впопыхах и на французском языке. Минул день, второй и третий. Ответа из штаба не приходило, и я решилась действовать, сообразуясь с собственными возможностями…
* * *
Эрзерум – действительно паршивый городишко. Ни одного увеселительного заведения. Никакого. Негде честной артистке найти пропитания, кроме, пожалуй, зверинца, владелец которого оказался весьма изобретательным оригиналом. Нет, он не предложил мне зайти в клетку со львами, которых в его зверинце, кстати, и не оказалось. Не ведаю, каким чудесным образом, но этот добрый самаритянин запомнил меня гораздо более юной и на пике известности. «Тифлис, Батум, Екатеринодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-Дону – все города знают Амалию Меретук. Как же посмею я её не знать?» – так сказал он мне при встрече в одной из лавок, где я меняла часть подаренного мне пашой золота на деньги. Похоже, география моего нового знакомца ограничивалась чертой оседлости, о чём свидетельствовала не только его осведомлённость о моей артистической карьере, но и форма его носа и бровей. Конфессиональные различия не помешали нам достигнуть договорённости по части организации моего выступления. Я решительно отвергла танцы с раздеванием и бубном, игру на цимбалах и пение, решив ограничиться игрой на гитаре и художественной стрельбой из револьвера системы «Наган» по тарелочкам и голубям.
Через пару дней на двери каждой лавки висела афиша: "Незабвенная Амаль Меретук" и "Звезда Тифлиса и Нахичевани-на-Дону исполняет русские романсы под гитару", начертанная красным готическим шрифтом огромного размера. Учитывая характер предполагаемой аудитории, афиши анонсировали в основном стрельбу по тарелочкам и голубям. И в этом аспекте хозяин зверинца попал в яблочко. Выручка от продажи билетов составила значительную сумму. Подсчитав ресурсы, мой зверовод испытал полный восторг: на представление "незабвенной" Амаль Меретук явится более сотни зрителей. Ни самого генера Юденича, ни кого-то из его свиты я увидеть на своём представлении не ожидала, ведь подобные высокопоставленные особы зверинцы не посещают.
Пошлый провинциал не напрасно радовался. Всё вышло по его разумению. На представление действительно явилась казачья сотня. Точнее, две полусотни двух разных казачьих полков со своими командирами во главе. Средь военных затесалось и несколько местных обывателей – обычные турки в фесках и несколько полукровок в традиционных ермолках, сопровождаемые своими некрасивыми жёнами. Одетые в черкески и папахи бородачи, с орденами на грудях и при узорчатых ножнах, одобрили моё исполнение на гитаре так бурно, что напуганные их восторгом фески и ермолки покинули представление задолго до его окончания. Их бегство сопровождалось троекратным, повторенным несколько раз "ура" и звоном шпор. А стрельба по тарелочкам и голубям обернулась импровизированным стрелковым турниром, по окончании которого авансцена тонула в пороховом дыму. В конце представления глаза мои слезились, в ушах звенело, а вместо букетов мне поднесли свежезабитого жирного барана.
Следствием моего выступления явился не только обильный ужин, приготовленный звероводом из барашка, но и достойный гонорар. А на следующий же вечер ко мне на квартиру явился пренеприятный и пронырливый собиратель сплетен – слуга генера Юденича. "Вас ждёт награда", – проговорил этот новоявленный "Труффальдино", подмигивая самым скабрезным образом. Помимо своих двусмысленных улыбок, он вручил мне пакет с приказом явиться в такой-то час по такому-то адресу. Признаться, я была обескуражена, ведь ранее мне никогда не доводилось получать письменных распоряжений, подписанных генералами. Я медлила с визитом, обдумывая наряд до тех пор, пока за мной не явился генеральский лакей, или денщик, или вестовой, или как его там. Этот плутоватый и самонадеянный тип по фамилии, кажется, Лебедев, объявил мне, что в Эрзеруме приказы генерала от инфантерии Юденича обязательны к исполнению для всех. Мне пришлось подчиниться домогательствам "Труффальдино", ведь к эфесу шашки сопровождавшего его казака был примкнут грозный трёхгранный штык.
Конвоируемая ледяными ветрами по улицам Эрзерума, я брела в сторону штаба с тяжестью неизбывного сиротства на сердце. "Труффальдино" и казак с его ужасным штыком следовали за мной. Командующий прав – в каком-то смысле я действительно пропала без вести, ведь Ковших мёртв – и этот факт обязывает меня к обретению каких-то новых смыслов. Но где их сыскать? Моим практическим размышлениям всячески мешал Лебедев, весьма навязчиво кормивший меня какими-то фантастическими байками о герое мусульманского вероисповедания, проведшего долгое время во вражеском тылу, но не предавшего дело русской победы.
С такими-то мыслями я вступила в генеральские сени, где с самым виноватым видом отирался тот самый герой тайного фронта. Он квохтал и цокал языком, принимая у меня манто. Всё повторял: "Ай, виноват, виноват, виноват". Кто виноват? Чем виноват? Разве возможно понять человека, который едва разумеет по-русски? Я поблагодарила его на турецком языке, а в ответ услышала всё то же: "Виноват".
Командующий встретил меня приветливыми словами:
– Я обязан был сделать это раньше, но мне не передали вашей записки. Это оплошность Галлиулы. Я уже выговорил ему…
Командующий выглядел одновременно и величественным, и виноватым. Я сделала книксен. Он смутился, потребовал чаю. Чай подали, и он снова смутился скромностью закуски. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, а также желая по мере сил хоть чем-то отблагодарить этого человека, я достала из ридикюля колоду.
– Позволите?
Генерал поморщился. Смущение как рукой сняло. Он сорвал с носа пенсне, но возражать против моей "женской слабости" не стал, только перекрестился и вздохнул, намереваясь под конец вытерпеть ещё и это испытание.
Я раскладывала карты небрежно, ведь ответ на вопрос был мне заведомо известен.
– Вижу долгую войну, – проговорила я, адресуясь к генеральской спине.
Спина эта выражала пренебрежительную скуку и острое желание остаться в уединении, поскольку отеческий долг героям эрзерумской операции уже отдан. Тогда я зашла с козырей:
– Вижу революцию. Великокняжеские дома, аристократия, генералитет, замышляют против царя, которого называют "Николаем Кровавым", не иначе. Хотят посадить другого царя. Но выйдет всё не по их замыслу. Плодами их каверз воспользуются другие. Многие заговорщики разделят участь своего государя.
Генерал обернулся, нацепил на нос пенсне самым пренебрежительным жестом. Сейчас станет морозить меня взглядом своих светлых глаз. Однако он, против моего ожидания, оседлав стул, уставился на разложенные карты. Смотрел в молчаливом внимании несколько минут.
– Ничего в этом не понимаю. Как десять потрёпанных карт могу сказать столь много? – проговорил он наконец. – Ваши слова можно было бы расценить как ересь, если бы в них не присутствовала своеобразная логика…
– Человеку видящему многое откроется и в трёх картах, – ответила я. – Вот вы смотрите на всё по-своему, видите не так, как я, но видите то же, что и я. Оттого мои слова и не кажутся вам пустой фантазией.
– Как же так? Вот это вот, – он указал на мой расклад, – сочетается вот с этим? – И он ткнул указательным пальцем в потолок.
– Как у любого русского человека вера сочетается с суеверием? Так и у меня. Я русская, как и вы.
– Неужели?
В его вопросе не было ни иронии, ни, тем более, гнева. В его вопросе присутствовала вопросительная интонация, но самого вопроса не содержалось. Тем не менее я ответила:
– Да, я черкешенка, актёрка, лицедейка, пока в мире мир. Но если наступает война – а война наступает время от времени, как наступает шторм на море, или засуха, или лесной пожар, – я, все мы становимся русскими, братьями и сёстрами. Тот солдатик-татарин, Галлиула. Знаю, вы оставили его при себе, и я видела его, а ваш лакей… как, бишь, его, Павел… Пашка…
– Лебедев, – напомнил он.
– Ваш Лебедев рассказал мне о подвиге татарина. Разве Галлиула не мой брат? Разве ваш Пашка не мой товарищ по оружию?
– Ну, стреляете вы намного лучше Лебедева. Наслышан… наслышан… – усмехнулся генерал. – В этом аспекте он вам не вполне товарищ.
Генерал поднялся, и я последовала его примеру.
– Перед тем как проститься, хочу спросить: нужна ли помощь, поддержка. Большими деньгами я не располагаю, но на дорожные расходы мог бы помочь.
Я сделала книксен, а он положил в мою раскрытую ладонь большой толстый кошелёк и медаль с портретом государя императора на двухцветной планке.
Юденич проводил меня до прихожей, где внимательный Галлиула накинул мне на плечи манто.
– Я не прощаюсь. Мы увидимся, – проговорил командующий. – Завтра пришлю за вами Галлиулу. Нам предстоит торжество, но советую одеться потеплее. Кстати, вы забыли вашу колоду…
– Для того, чтобы видеть, мне карты не нужны. Оставьте себе на память… До свидания, выше высокопревосходительство, – я ещё раз поклонилась. – Прощай и ты, Лебедев.
– Колдунья! – едва слышно, но вполне внятно произнёс мне вслед Галлиула.
Наверное, они подумали, будто я исчезла, растворилась в морозном воздухе, как Снежная королева из сказки. Смешно! Забавно! Многое бы я дала, чтобы посмотреть на их растерянные лица!
Однако меня ждало слишком много забот. Надо было решать свою дальнейшую судьбу: или нанимать провожатого до Трабзона, или сделать шаг навстречу собственной судьбе.
В ту ночь под свечу и особо сложный карточный расклад явился мне мой любимый подбесок и насоветовал всякого, и натолковал о предстоящем непростом и противоречащем житейской логике выборе…
* * *
Стоит ли говорить о фуроре, произведённом моим выступлением в эрзерумском зверинце? Одна и та же дама и поёт под гитару, и метко стреляет из пистолета: какому вояке такое не понравится? Вследствие этого на узких уличках паршивого городишки мне буквально не давали прохода. Каждый считал своим долгом выразить восхищение. Некоторые выражали его слишком бурно, предлагали помощь и защиту. Одним словом, приставали. Несколько раз приходилось ссылаться на близкое знакомство с самим командующим. Возникающее в таком случае восхищение имело лёгкий оттенок обиды.
Изюминкой моего пребывания в Эрзеруме стало одно интересное свидание, которое, впрочем, никак нельзя назвать интимным.
Несколько дней кряду я всецело отдавала себя подготовке к отъезду, и без сомнения покинула бы надоевший Эрзерум ещё до конца февраля. Однако планам моим не довелось сбыться, зато сбылось увиденное мною.
Началось всё с явления двух "русских богатырей". Выглядели оба весьма грозно. Каждый огромного роста бородач в черкеске, бурке и лохматой шапке.
У каждого помимо шашки, длинного кинжала и патронташа на поясе, за плечом ещё и ружьё. У обоих ясные, яркие и пронзительные синие глаза, но у одного выражение лица совсем злое, словно вот-вот вцепится зубами в глотку, а другой будто бы совсем простоват. Примерно так выглядит обожравшийся мёду медведь на полотне какого-нибудь русского анималиста. Они представились мне честь по чести: один – Александром Зиминым, другой – Матвеем Медведевым. Оба, как я и предполагала, оказались казаками. Зайдя в мою комнату, оба совершенно синхронно, словно много дней репетировали этот трюк, сняли свои лохматые шапки. Медведев, поискав глазами отсутствующие в моём жилище образа, перекрестился на занавешенное окно. Зимин перекрестился, глядя мне прямо в глаза. Лишенные лохматых шапок, их округлые шишковатые черепа выглядели несколько беспомощно, но сходство облика обоих с медведем, который, возможно, был их дальним прародителем, не пропало. При этом у темноволосого Медведева ёжик волос на голове уже посеребрился, в то время как золотистая поросль на голове Зимина создавала вокруг его лица иконописный сияющий нимб.
– А где же ваши пистолеты? – смеясь спросила я.
– Мы – строевые офицеры Кизляро-Гребенских полков. Мы водим в атаку наши полусотни. Атака, бой – это настоящее дело, а не цирковые шутки, – сказал один из бородачей, а другой выложил на стол из невесть откуда взявшегося мешка разную вкусно пахнущую снедь и большой глиняный запечатанный сургучом кувшин.
– В честь чего закуска? – спросила я, стараясь придать собственному голосу всевозможную строгость.
Мне ответил казак по фамилии Медведев, и голос его звучал, как медвежье рыканье:
– Сватовство! У вас – товар. У нас – купец.
Я позвала слугу и веселилась от души, пока тот расставлял перед нами приборы и раскладывал снедь по тарелкам:
– Провидение представило мне на выбор двух равнопрекрасных казаков. Какого же из вас выбрать? Прежде чем принять какое-либо решение, я всегда советуюсь с картами.
Не давая им опомниться, я извлекла свою любимую колоду – родную сестру той, что недавно подарила Юденичу. Потрёпанные картонные прямоугольники упали на несвежую скатерть. Офицеры смотрели на моих дам, королей и валетов с недоверием, а при виде джокера, выполненного в виде эдакого забавного чертёнка с рожками и хвостом, торчащим из-под фрачных фалд, Медведев даже перекрестился, но упрямо повторил:
– У вас – товар. У нас – купец.
– Я хочу жениться, – в тон товарищу с офицерской прямолинейностью заявил Зимин.
Медведев глянул на него с пока непонятной мне неприязнью, а Зимин продолжал:
– Третьего года я овдовел. Жена померла… – Он помедлил, смущённый самим собою, прежде чем продолжить. – Словом, не важно, как она померла. Но ты не волнуйся. Господь прибрал всех деток моей жены, и потому я остался бездетным вдовцом. А тут и война началась. В окопах и кавалерийских атаках жены не сыщешь. Не до женитьбы, стало быть. Посматривал я на турчанок. И на армянок посматривал. А что до евреек…