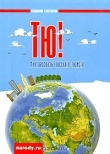Текст книги "Университетская роща"
Автор книги: Тамара Каленова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Самосвет-трава
Груженный берестяными коробами и корзинами обоз, подпрыгивая на засохших кочках, еще не разровненных под скатерть специальными катушками, медленно тянулся по Великому Сибирскому тракту. До вечера еще было далеко, но лошади и люди шагали так притомленно, что казалось: они вот-вот остановятся, упадут от усталости в пыльную придорожную траву и уж более не поднимутся.Но это лишь только казалось. Все тринадцать подвод, повторяя колесами дорожные нырки, продолжали двигаться ниткой, одна за другой, все вперед и вперед, и возчики, бородатые мужики в потрепанных суконных армяках, терпеливо шли рядом. Так было и вчера, и позавчера, и десять дней назад. Так будет и завтра, до тех пор, пока не придет обоз на место, к положенному сроку, и подрядившаяся в извоз артель не выполнит всех кондиций по уговору.Крылов ехал с головной подводой. На ней помещались его личные вещи – сундучок, обитый по углам кожей, палатка, чемодан с бельем и книгами, – а также кое-какая необходимая походная утварь и узелки с провизией, принадлежавшие артели. С этой же телегой следовал обычно передовик, старшой ямщик, которому и подчинялись остальные обозные.Впереди показались избы.– Успенка, – поворотил широкое, изрытое оспинами лицо Семен Данилович, старшой, и ожидающе посмотрел на Крылова. – Хорошее место, Никитич, все наголе. Люд смирный, мужичошки неудачливые. Одно слово, кислороты.– Это как понять?Крылов соскочил наземь – размять ноги. Он еще не решил, поддаваться ли на скрытое предложение об остановке, прозвучавшее в голосе передовика, или требовать двигаться вперед, до вечера. С одной стороны, мысль об отдыхе и ему была приятна, с другой – надо было спешить…– А так и понимай. Кислорот – трава такая. Злючая. Скулу воротит, слюну прет. Ан здешние наловчились стряпать из нее напитки-наедки, жить как-то надо… За то и прозвали их кислоротами. Да вот глянь-ка, травка эта самая лопушится. Хорошая травка. Чесотку отводит, ожог снимает, кровь из кишков отсасывает.Крылов нагнулся, отхватил пальцами у корня пучок остреньких стебельков.– Rumex acetosa, – сказал радостно.– Чаво? – удивился Семен Данилович.– Латинское название кислого щавеля.– Ого, – с уважением глянул вниз возчик. – Я-т думал, кислорот и кислорот, а он, глянь-кось… ацетоза… Не наш, поди?– Наш, наш, Семен Данилович, – улыбнулся Крылов. – Все, что в природе есть, наше, для общего блага. Только нужно знать и уметь пользоваться.– Ты грамотяга, тебе видней. А я – обозный человек. Мое дело конюшить да грузы по тракту гнать. Нанял – я везу.– Ну уж, зачем на себя наговаривать? – не согласился Крылов. – Твоя грамота поценней иной будет. Приметливый ты, Семен Данилович, много видел, о многом рассказать можешь.– А толку што?– Для меня толк есть. Учусь от тебя и товарищей твоих, чему возможно.– Учишься? – изумился старшой.– Учусь, – повторил Крылов, заметив недоверчивый взгляд Семена Даниловича.На секунду он увидел себя в этих глазах… Здоровый, не изработавшийся в свои неполные тридцать пять лет человек, одетый в незаштопанную рубаху, темно-синюю куртку, напоминающую китель инженера-путейца, при новой фуражке с лакированным козырьком, на ногах прочные яловые сапоги, шитые по мерке. Модная короткая борода, на переносице очки-защипы в серебряном станочке. Не зря другие возницы, несмотря на сердитые упросы, и по сей день величают его барином. Барин и есть, считают они. Ученый барин. Только и радости, что не злоязык, прост в обращении, на кормежные деньги не скуп да курнос и скуласт, как обыкновенный мужик. А там поди разбери, что у него на уме. Ученый ум – он простому человеку недоступен, в нем всякая утайка может быть. Хорошо, кабы не пакостная, не переворотливая…Семен Данилович спохватился, увел маленькие зеленоватые глаза в сторону, неопределенно сказал: «Ну-ну».Сбоку из канавки выставились розовые щитки тысячелистника, и Крылов, забыв о недоверчивом взгляде Семена Даниловича, спросил с детским любопытством:– А эту траву как у вас прозывают?– Деревей. Белым цветет – значит, мужицкая сила в ём. Розовый цвет – женская теплость. Примета такая: увидел женский цвет – делай ночевье. Хорошо встретят, хорошо проводят. Опять же нонче пятница. Время баньку наведать, передохнуть, припасец пополнить. А встать и по заре можно. Наверстаем, Никитич, не сомневайся. Поболе отдохнем, поране встанем. Как считаешь?– Ну что ж, – согласился тот. – Я не против. Ставь лагерь.Семен Данилович сделал знак, ямщики оживились, защелкали ременные кнуты, лошади потянули сильнее, так, что у Крылова привычно сжалось сердце в тревоге за свой драгоценный груз, и обоз шумно втянулся в Успенку.Великий Сибирский тракт рассекал ее на две части. Черные от непогоды, растрескавшиеся от лютых морозов бревенчатые дома по-острожному сурово смотрели на мир крохотными оконцами, кое в каких избах, что победнее, затянутых бычьим пузырем. Всё вокруг было подернуто серым налетом пыли. Казалось, деревня соседствовала с гигантской мельницей, которая невидимо вращала свои тяжелые крылья, без устали посыпая округу белесым сеевом. Да Сибирский тракт и был такой мельницей…У редкозубых покосившихся отгородок копошились дети. Двое увязались за обозом: не обронят ли чего проезжие люди. А то, может, потребуется им какая-никакая услуга, и тогда расщедрятся они на скупое угощение… Тявкнула было худая пятнистая собачонка, но тут же умолкла, спряталась от сердитых вожжей. Дети тоже отстали, наткнувшись на хмурое молчание уставших путников.Семен Данилович провел обоз через всю деревню, заприметив на выезде заведение. Это была неказистая избушонка, из стен ее неопрятными космами торчали клочки мха. (Вот она, Сибирь немшоная! Так и не научилась мшить, конопатить избы…) О том, что сие невзрачное сооруженьице служило заведением, в котором путник мог получить желанную осьмушку и щи, свидетельствовала высохшая ветка пихты над дверью и погрызенная коновязь на небольшой площади перед домом.Лошади повернули к молодому кедрачу у обрывистой речушки. Семен Данилович строго проследил за тем, чтобы мужики поставили подводы на чистине, тесным полукольцом. Мало ли что может ночью случиться: лихоимцы или гулящие люди забредут, на упрятанный в корзинах груз польстятся. Береженого бог бережет. Без дозора и обзора на большом тракте нельзя.Привычное и приятное для возчиков дело – ночной лагерь ставить. Каждый свою работу без подсказки знает: этому лошадей зарепьившихся почистить, свести на водопой; этому за водой бежать; этому полог развернуть и сушняка заготовить. Всем хлопот хватит.Крылов тоже без дела не сидел. Короткой лопаткой, похожей на солдатскую, расчистил место для костра. Дерновины с этой площадки сложил в штабелек под кедром: снимется лагерь, затопчут мужики последние искорки бивачного костра – вот и пригодятся дерновинки прикрыть выжженную плешь, залатать мирную лесную поляну.Поначалу возчики посмеивались меж собой над чудачествами барина: лишнюю работу приискивает, и так-де лес не в обиде, эвон каким дуром прет… А потом привыкли. Пусть себе тешится. Ямки для мусора копает, плешины заделывает, в тетрадочку пописывает.Над крыловским костром ямщики тоже попервости усмехались. Что за охота выкладывать березовые полешки торец к торцу, семиугольником?! То ли дело обыкновенный таежный кострище! Навалишь побольше сушняка, пару бревен под низ – и горит жарко, и одёжу сушит быстро. Но вскоре убедились, что и костер барина тоже имеет свои удобства. Ночью, когда нужно сторожить обоз, достаточно лишь подпихнуть бревешко к центру, и огонь стоит до самого утра.В этот раз семиугольник получился особенно ловко. Березовые поленья, ровные и длинные, оставшиеся еще с прошлой ночевки, красиво белели на земле, и огонек уж домовито вился по скрученной сухой бересте. Вбить пару кольев, подвесить на перекладине котел… Вот так. Теперь и другими делами заняться можно.Управившись с костерной постройкой, Крылов заспешил к подводам. Выискал опрокинувшийся поутру воз, ослабил веревки, стал осторожно снимать помятые корзины.Помощники тут как тут – пегий дедок, числившийся объездным (ямщик, следящий за порядком в обозе), лёля Семена Даниловича, крестный отец значит, и щуплый костлявый отпрыск Акинфий, приблудившийся к обозу еще на выезде из Казани.– Ц-ц! Как размахонились, бедные корзиночки-те! – сочувственно зацокал дедок.– Побыстрей шараборься, – подстегнул его Акинфий. – Долго возжаешься. В деревню смотаться надо, посмотреть на ихние пугалища.– А мне што, эт-мы живой рукой.По говору Крылов давно определил – лёля из могилевских переселенцев: слова языком катает, словно оглаживает. Акинфий – коренной уралец; этот не гладит слова, а ломает, нарочно согласными чиркает, будто искру высекает. Скрытен парнишка. Скрытен и пролазчив. От такого всего ждать можно.– Латать корзины придется, – объявил лёля озабоченно. – Вот энти четыре штуки. И короб. Дозволь прутье нарезать, барин?Я в этом понимаю.– Будь ласков, нарежь, – благодарно кивнул Крылов и обратился к Акинфию: – А ты холстину достань да вот здесь расстели. Я из корзин на нее выкладывать стану.– Ваша воля, – вихрем снялся быстрый на ногу парнишка.Без промедления вернувшись, он разбросил ряднину, для видимости потоптался минуту-другую – и затем исчез, будто провалился.– Никитич, а и де ты? – из-за деревьев донесся зычный голос старшого.– Здесь я, здесь, Семен Данилович. Что случилось?– Вопрос есть, – подошел тот вразвалку. – Как насчет отлучки будет? Отпустишь в деревню похарчевать и помыться, али при тебе сядем?– Зачем же сидеть? – Крылов проморгал от соринки голубые глаза, воспаленные от многодневного раздражения жарой и пылью, улыбнулся дружески. – Ступайте. По сменам.Он понимал, что не харчи и не банька волнует сейчас мужиков, приспела охота выпить, гульнуть. Силой их не удержишь, крадком уйдут. Лучше уж по-хорошему…– Ясное дело, по сменам, – радостно сопнул Семен Данилович. – Дозор оставлю. Лёлю свово, он за лошадьми присмотрит. Опять же Акинфия – у него глаз молодой. А в баньку мы тебя кликнем, Никитич. Побаловаться парком кому не охота?– Не откажусь.– Я и говорю!Возчики собирались в отлучку шумно, спешно, боясь, как бы не передумал барин. Кряжистые, широкоплечие, неуклюжие в ямщицких армяках, с обветренными прокаленными лицами, заросшими косматыми бородами, они сейчас походили на школьников, счастливо избежавших субботки, традиционного дня расчетов за всю неделю розгами. Грустно и забавно было наблюдать за ними.Акинфий поглядывал на мужиков с завистью. Дедок-лёля, напротив, не обращал никакого внимания. Вился возле Крылова, выговаривался после долгого молчания. О чем? О лошадях, конечно. Конскую тему объездной мог развивать без устали, до бесконечности. Казалось, он знал о лошадях все: как принять затянутого жеребенка, выходить задохлеца, распрячь-запрячь, чем и как лечить ноготь или, к примеру, мышьяки – конские болезни, во время которых в ноздрях и горле животного делаются завалы и лошади невозможно дышать… Попутно дедок сообщал сведения о том, что конский дух полезен от чахотки, что мужик-корень лечит у лошадей чесотку, что тоболяки считаются очень плохими ямщиками, их нанимают только по большой нужде, и, напротив, томские гужееды или тюменцы – люди хожалые, опытные, им довериться можно… Что нельзя кормить коней сухарями – потеют… Что всякие переселенцы из России наввозили в Сибирь разных лошадей, которые и перепутались; поднялись ноне в цене местные породы: кузнецкая и чумышская…– Лошади у нас особые, сибирские, ишшо татарами ученые. Всякая ли скотинка Великий тракт сдюжить? А томская порода – хоть бы што! И в лето, и в зиму. От нее разору нет, ежели питать по методе.– Что еще за метода такая?– Обнаковенная, – показал пустые синие десна лёля. – Не кормить вовсе. Пущай идеть, как бог на душу положить. Помирать-те ей не хочется! Лошадь на жилах должна иттить, в узел себя скручивать. Тогда в ей сила разовьется, норов. А вволю кормить – не сдюжить. Не-а. Сытую скотину на мясо бьють, в обоз не ставють.– Невеселая наука, – перебирая в руках прутья, добытые стариком, покачал головой Крылов. – Неправильная.Волосы его, еще не седые, цвета темной кедровой коры, освобожденные от фуражки, подсохли, закудрявились. По сравнению с выгоревшей бородкой они кажутся чужими.– А у нас уся жизнь такая, – печально согласился объездной. – Неправильная. Да ты не бери в голову, барин! Мало ли што я тебе набураню. Давай-ка лучше ужин примем. А потом и за плетенье можно браться, на горячий живот. Вечера ноне долгие, световые. Куды с добром…Крылов послушно оставил корзины, пошел к костру, над которым призывно ухал котелок с толстыми штями – густой просяной кашей, булькал кипяток для чая.Покойно у реки, просторно. Негромно возятся в ветвях птахи. Всплескивает в воде рыбица. Изредка перекликаются полевые кобылки. Ласкает прохладный ветерок шершавую кожу, пьянит запахами. Красота – словами не выскажешь, раздолье.– Опять дрыхаешь, лежебок? Эх ты, калина худая!Лёля походя подергал за рогожку, на которую успел завалиться Акинфий. Сонлив отрок безмерно. Как затаился, не вертится под ногами, значит, кемарит в каком-либо закутке. Песий сын… Ежели б не сиротство горькое, артель давно его из своего ряда вышугнула бы.Акинфий воровато оглянулся, – на остром веснушчатом лице появилась недетская злоба, – и сунул под нос старика костлявый кулак:– Во, видал?Но заметив взгляд Крылова, тут же разулыбался, послушным голосом возвестил:– Здеся я! Али куда сбегать? – и зелеными пройдошистыми глазами преданно уставился на барина.– Иди к нам, Акинфий. Ужинать пора, – пригласил тот.Еще одна причуда у барина – с возчиками кушать, будто с ровней. Хитрит, а может, и верно, от хорошей души старается?Парнишка ждать себя не заставил, умостился рядом с лёлей, нетерпеливо обшмыгал руки о траву.Крылов сполоснул в ведре пучок собранного еще по дороге дикого лука, бросил в котел, размешал.– Отведай, брат Акинфий, первым, – сказал. – Горячее сыро не бывает. Я, к примеру, не любитель размазни. А ты?Акинфий неопределенно мотнул кудлатой головой, цепко взял ложку. Сколько помнил себя, ему все время хотелось есть, так что рассуждения барина о каше-размазне показались ему пустыми.Ну, коли желает, пусть поговорит. Так-то он ничего, не вредный. Только не настоящий какой-то… Обозные мужики сказывают: научный человек, в Томск едет учить студентов какой-то ботанике. Большой груз с собой везет, по ученой части… Вот ему, дескать, и интересно, как да что местные жители прозывают. Дерябка на его языке выходит незабудкой, мышья репка – клевером, дуботыльник – полынью, ломовая трава – мятой, а бархатник – татарником… Будто с иноземного языка перетолмачивает. А какая разница? Все одно – трава и трава! Ученый барин то беседлив не в меру, то по целым дням молчит, во все глаза на тайгу пялится. То вдруг подступит ни с того ни с сего: как-де, Акинфий, ты без отца-матери остался? Чем кормился? И что он в этом нашел интересного? Один Акинфий, что ль, без родителев мыкается? Эка невидаль, сиротство на Руси! А кормился – чем бог пошлет, что люди отнять не успеют. Тут сноровка нужна – успеть до рта донести. Его бы, барина, на место Акинфия – враз бы с голоду запух, потому как тетерев тетеревом, свой кусок непрочно держит…Крылов исподволь наблюдал, как паренек с жадностью, обжигаясь, глотает кашу, ломает зубами сухарь, и сердце его томилось жалостью. И ленив Акинфий, и сонлив, и соврет, как споет, и исподтишка старика-лёлю ткнет, – а смышлен и приметлив. Есть в нем память особенная: на камни. Кварцы, ониксы, змеевики, шпаты… Обо всех-то он слышал, видел, запомнил, где, на каком берегу той или иной речки повстречал. «Кто рассказывал тебе о камнях, Акинфий?» – «А никто. Папаня одно время в Заводе работал, камни тесал. Может, он сказывал. Не помню. Мал был, годов шесть…»Выждав, когда возьмется за ложку барин, принялся за кашу и старик. Неторопливо поел. Собрал в мешок посуду, понес на реку мыть. Акинфий сунул в угли молоденькую мелкую картошку и озорно посмотрел на барина: мол, это я для тебя угощение раздобыл. Тот хотел было усовестить его за воровство, но передумал: все равно назад не понесет. Да и повторять не раз уж говоренное не хотелось. Укорами мальца не проймешь.– Учиться тебе надо, Акинфий, – сказал Крылов и сам почувствовал, что не к месту сказал.– Эт еще зачем? – изумился Акинфий. – Я и так ученый. Ползимы к попу бегал, хватит, – и добавил доверительно: – Ну ее к лешему, грамоту! Мне ба в хорошую артель войти, котора в тайге зверя промышляет али золото моет. Ямщичить не люблю, скучно. Хочу ферсом жить! Нашел ба самородок – с кулак! – закатился ба в Екатеринбург… с мужиками… в ресторацию… Пожил ба по-человечески…– Ошибаешься, дружок. Счастье не в гульбе, не в развлечениях, – не удержавшись перебил Крылов.– Ну да?– Правильное место в жизни найти, грамотным стать, таланту своему дорогу открыть – вот в чем счастье. А ты талантлив, поверь мне. Только не знаешь пока об этом.– Талант? Что эт такое?– Способность человека к хорошему. Талант – это, брат, как самородок. Природа, матушка наша, для всех людей его готовит, а одному в руки отдает. Как распорядиться эдаким подарком? Один, себялюбец отпетый, на себя истратит, во зло другим употребит. Второй людей одарит. А третий поглядит-поглядит, да и зашвырнет от себя куда подальше. Так вот, по моему рассуждению, третий-то и есть самый никудышный распорядитель. Потому как глуп. В голове реденько засеяно.– Дурак – божий человек, – лениво возразил Акинфий, всем своим видом показывая, что не намерен глубже влезать в рассуждения.– Что значит божий? – вскинул бородку Крылов. – Так, брат, все оправдать можно! А где же твоя совесть? Где разум? Разве правильно свои способности, силы духовные в землю зарывать? Непростительно это и… земле противно. Не для того она ростки вверх гонит, чтобы их обратно… головами…– А по мне, так дураком лучше жить, – решил поддразнить его парнишка. – Маманя моя, когда помирала, наказывала. Не будь, гыт, Акинфий, горьким – расплюют, и сладким – проглонут. А дураком, гыт, в самый раз.– Не прав ты, ой не прав! И маманя твоя, царствие ей небесное, тоже ошибалась. Человека нельзя расплевать. Он сам себе строитель. Сам обязан судьбу вершить, – заволновался Крылов, понимая, что Акинфий сейчас вполне искренен.– Да-да, хорошо говорить, коли ты барин, а не мужик, – с завистью возразил парнишка.– Что это ты, однако, заладил: барин, барин… Нехорошо, брат. Просил ведь…– А не барин?– Ну, что тебе сказать? – замялся Крылов. – Это как понимать.Не мужик, конечно, не пашу, не сею… И в Заводе не работаю. И – не барин. Ты думаешь, моя жизнь патокой обмазана? Ошибаешься, и мне полыни довелось перепробовать. Учился на медные гроши…– Как это? – с притворным интересом посмотрел на него Акинфий и гибко, по-кошачьи потянулся всем телом.– Да так. Не вспомнил бы, да грешно забывать. Что было, то было…И Крылов – сначала без охоты – начал рассказывать о своем детстве. О печнике Никите Кондратьевиче, отце своем, из крепостных. Как мечтал он всю жизнь на волю откупиться. Откупился. В Пермь с семьей переехал. Думал пожить на воле, жизни порадоваться. Не пришлось. Ослеп и умер. И остались они с матушкой Агриппиной Димитриевной в большой нужде. Сильный зверь – нужда человеческая. Самому страшному учит: унижению. И вот тогда для человека главное – устоять, не пасть на четвереньки…Вернулся с речки лёля, поддакнул:– Правильно говоришь, барин, с пониманием. Потому как сам, видать, лямку тянул. Ладно хоть щас из нашей подклети на свет выцарапался. Теперь других тяни. Може, нашего остолопа к делу пристроишь, а?Он хотел было узнать на этот счет мнение Акинфия, но того и след простыл. Только что лежал тут, хмурился – и на тебе, снова сбежал!Заметив исчезновение парнишки, Крылов насупился, потерял настроение.– Пойду поищу глины на обмазку, – сказал старику. – А ты, отец, отдохни. Намаялся небось за день?– Намаялся, – сознался тот. – Годы-т у меня плешивые. Куды от их деться?Крылов взял кожаное дорожное ведро и пошел на плеск воды.Тихая, словно бы замершая в долгом испуге, безымянная речка медленно перекатывала по белому песку коричневые волны. Неглубокая и неширокая.Полюбовавшись мирной картиной густого тальника, полощущего длинные зеленые пряди в реке, – так бабы, заговорившись, возят бельем по воде, – он пошел вверх по течению, внимательно оглядывая береговые обнажения.Растревоженные воспоминания, отлетевшие было из-за досады на Акинфия, снова закружились над ним…В двенадцать лет матушка Агриппина Димитриевна, скопив вдовью копейку, отдала Порфирия в гимназию. Так уж хотелось ей видеть сына образованным, не хуже других! Поначалу, в первых трех классах, дела у гимназиста шли недурно. Он полюбил естествознание и географию. Но сухость и бессмысленность прочих предметов оттолкнула его, а грубые окрики надзирателей «на колени! как стоишь?!» да горячие молитвы сверстников по ночам: «Только бы перенес боженька через субботу!.. Что угодно, только не розги…» – внушили к учебе отвращение.И он стал убегать в лес. Это была пора какого-то бурного увлечения птицами. Маленькая квартирка – вся в клетках. Порфирий часами мог лежать где-нибудь на краю поля и слушать незамысловатую песенку залетного солиста-зяблика, позабыв обо всем на свете. В результате – неявка на экзамен при переходе в пятый класс – отчисление с оценками «хорошими» и «достаточными» и лишь по латыни «отличными».Матушка в слезы. На пороге все та же непрошеная гостья-нужда. По-юношески самолюбивый, Порфирий принял безумное решение: в одиночку сплавлять лес по Каме. Как жив остался, одному Господу известно… В канун восемнадцатилетия одумался, поступил учеником в одну из пермских аптек. Прошел все должности – сторожа, ассистента, лаборанта, рецептариуса. Заинтересовался химией.В аптеку часто приходил один пермский любитель ботаники, у которого имелась небольшая коллекция растений. Он показал ее молодому рецептариусу и, сам того не ведая, заронил в его душе новую страсть. Порфирий на время позабыл о птицах и жадно занялся коллекционированием. Через небольшое время он обогнал своего наставника и создал гербарий в четыреста растений. В то время эта цифра кружила ему голову. Еще бы! Автор знаменитых книг «О причинах растений», отец ботаники, великий Теофраст описал всего пятьсот видов!..Раздобыв «Флору Московской губернии» Кауфмана, Крылов лихорадочно принялся устанавливать названия собранных им растений. И скоро понял, что Теофрастовы достижения не так-то легко обогнать: одно дело собрать гербарий в четыреста растений, другое – описать четыреста видов! Новые виды, еще никем не описанные, на дороге не валяются, их отыскать надо – и научно защитить.Это препятствие в виде малой подготовленности удручило, но не остановило упрямого аптекарского ученика. Спустя три года он поехал в Казань и выдержал экзамен на помощника провизора. Затем поступил на двухгодичные курсы провизоров при Императорском Казанском университете. Получил диплом с отличием и остался при университете на сверхштатной должности лаборанта по кафедре аналитической химии. Затем перебрался в Ботанический сад ученым садовником.Счастливое, невозвратное время. Вдвойне счастливое оттого, что согрето ровным и сильным чувством мужской дружбы. Именно в эти годы судьба одарила Крылова знакомством с Николаем Мартьяновым и Сергеем Коржинским. Ни разница в возрасте: Мартьянову под сорок, Крылову тридцать, а Коржинскому двадцать лет; ни большая несхожесть жизненного опыта: в отличие от Коржинского, сразу ставшего студентом Казанского университета и обратившего на себя внимание профессуры благодаря своим блестящим способностям, Крылов и Мартьянов бились с самого низу, шли против течения, полагаясь только на свои силы и работоспособность, достигая знаний потом и кровью, – ничто не помешало им объединиться в страстном увлечении ботаникой. Может быть, благодаря именно этой дружбе, Крылов стал тем, кем был в настоящее время: доцент, ботаник, приглашенный на службу в первый Сибирский университет……Глина попалась отменная. Целый уступ, усеянный ноздрями выемок: видать, и местные жители брали ее отсюда бить печи. Довольный находкой, с полным ведерком, Крылов вернулся в лагерь.Дозорные исправно несли службу. Акинфий обосновался на телеге. Лёля, ссутулившись, мирно подремывал у прозрачного костерка.Первым делом Крылов решил сплести новую корзину, а уж потом залатать старые. Он любил это занятие. Руки в работе – и подумать можно, и повспоминать. А заодно и передохнуть от нелегкой дороги, от текущих забот.Он разложил на траве длинные ивовые прутья, крест-накрест, восемь штук. Связал в середке, чтоб не распались. Вот так. Теперь надо выбрать пруток пожиже, погибчее – и вперед, косоплетка…– Тю! Глянь-кось! – раздалось вдруг откуда-то сзади.Крылов не спешил оборачиваться. Он сразу догадался, что к подводам тайком подобрались ребятишки – только у них может быть такой звонкий шепоток.Шорох, сопение, возня.Пора дать о себе знать, дескать, я здесь, я вижу и слышу. А то как бы нежданные гости не натворили чего…Он отложил в сторону готовую узкогорлую корзинку и встал.– Ну, все высмотрели? Что нашли интересного? – спросил, стараясь, чтобы голос не звучал сердито. Деревенские дети пугливы, как воробьи, от любого неосторожного движения вспархивают.И все-таки слова его произвели впечатление грома, раздавшегося в безоблачном небе. Ребятишки сначала замерли, а потом стреканули врассыпную – только босые пятки замелькали. Лишь девчушка лет трех-четырех не поспела за ватагой. Упала на четвереньки – и в рев.Крылов поднял ее на руки.– Ну, ну… Ведь и не ушиблась даже. Ах они, проказники, бросили маленькую девочку! Убежали. Ну, так мы им зададим феферу… Пусть только вернутся.Мягкий низкий голос успокаивающе подействовал на малышку. Она затихла. Замурзанное личико ее просохло и даже как будто высветилось. Девочка доверчиво прильнула к широкому плечу бородатого дяденьки, совсем не страшного и не злого. Тронула ручонками крепкую загорелую шею. Пальчики были слабые, холодные, липкие…– Дя-нька, отдай Нюшку, – из-за кедра несмело выступила девочка постарше, с такими же, как у малышки, глазами-незабудками.– Что же ты сестренку бросила? – строго посмотрел на нее «дя-нька». – Она маленькая, плачет, а ты спряталась. Нехорошо.Рыжеватенькая девчушка потупилась: ей и вправду было стыдно за свое бегство.– Мы больше не будем, – сказала она и, готовясь заплакать, гнусаво протянула: – Отда-ай Нюшку…– А вот как не отдам? – вздумалось Крылову пошутить.– Мужиков покличем! – угрожающе пообещал мальчишеский голос, задрожавший от собственной храбрости.– Ладно, – сказал Крылов. – Забирайте свою Нюшку. Да выходите. Не бойтесь.Один за одним к нему потянулись дети – из-под телег, из кустов, из-за деревьев. Им вроде бы и не по себе было, опасались, как бы чего не вышло, – и любопытство одолевало… Ватажка набралась человек в десять. Худенькие, нечесаные, немытые, на руках и ногах цыпки, одежонка заношена, с третьего или четвертого плеча, просторная, в прорехах ветер гуляет. Двое золотушные, болезненно кривят опухшие губенки, чешутся. Воробьи, воробьи…Крылов бережно опустил с рук девочку, но она не захотела пойти от него – обхватила руками сапог.– Только, чур, без спроса ничего не трогать! Уговорились? – предупредил Крылов, почувствовав, что дети успокоились и начали осваиваться в лагере.– Ага, – за всех ответил мальчишка, посуливший кликнуть на помощь успенских мужиков. – Поглядеть интересно! – и тронул рукой ближнюю к себе корзину.– Что ж, посмотрите, – разрешил Крылов. – А ты у них за главного показчика будешь. Как зовут-то тебя?– Федька я. Дупловский.– Дуплов Федор, значит?– Ну.Подчеркнуто осторожно ребятишки сунулись к корзинам. Отбросили крышки – и разочарованно замерли.– Тю! Трава напхана…– А ты думал, тут пряников под закрутку? – рассмеялся Крылов.– Зачем она вам, дяденька? Эвон в лесу сколь, – подала голос Нюшкина сестренка.– Это не простая трава, – пояснил Крылов, опускаясь на корточки рядом с детьми. – Растения тут – особенные. В лесу вы их не найдете. В нашем, я имею в виду, лесу. Редкие это растения. Заморские. А ну, давай-ка во-он ту плетенку… Так. Сейчас лечить будем, – и он положил на холстину расколотый горшок с иглистым растеньицем и начал выбирать глиняные черепки из кома земли, перевитого белыми, причудливо изогнутыми корнями.Больше всего он опасался за эту хрупкую неженку – и надо же было так случиться, чтобы пострадала именно она! Бедная квинслендская елочка! Вид ее нездоров. Кожистые листочки, похожие на хвоинки, обмякли. Ветви, горизонтально простертые от самого основания, провисли. Верхушка свернулась запятой. Нужно было сразу ею заняться, как только лагерь поставили, а он заговорился, пошел за глиной, отвлекся от главного.– Это араукария, – задумчиво рассматривая растение, сказал он притихшим детям. – Из далекой страны Австралии. За океаном которая. Не слыхали? Ну, ничего. Жизнь долгая, еще услышите.А, может, кто из вас и путешествовать станет. Как наши знаменитые путешественники Николай Михайлович Пржевальский и Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Представляете, Миклухо-Маклай не побоялся отправиться к дикарям, к папуасам, и долго жил там и стал их другом… «Таморус» называли его папуасы, которых все считали людоедами, и никогда не обижали нашего путешественника. А знаете почему? Потому что он показал им свои мирные намерения. Пришел в деревню, где жили людоеды, без оружия. Улегся на траву и заснул. Дикари обступили его и долго смотрели, как он спит. И поверили ему, – рассказывая, Крылов продолжал работать: обрезал сломанные корешки, размял комочки земли; дети слушали его, притаив дыхание. – Так вот, эта елочка зовется араукарией… Хотя местные жители, австралийцы, называют ее «буния-буния». Смешно, говоришь, Федя? Верно, смешно. Буния-буния. А вырастает она могучая да красивая. Любо-дорого поглядеть! В Австралии той тепло. Можно сказать, даже жарко. Снега не бывает. Вокруг теплый океан. А у нас в России зима, холодно. Как сделать, чтобы такие вот бунии-бунии и у нас росли? И надумали люди большие стеклянные дома для растений строить. Оранжереи называются. В таких домах заморские цветы, деревья и живут. Тепло. Земля хорошая. Воды вдосталь. Отчего не расти?Он заметил, как изменилось отношение детворы к содержимому корзин, и вновь загорелись интересом внимательные глаза.– А ты откуль будешь, дяденька? – солидно спросил длинноногий Федька.– Из Казани.– Там стеклянные дома есть?– Есть.– Куда ж ты сейчас? Продавать ли чо ли?– Нет, – улыбнулся Крылов. – Не продавать. А везу я их всех, – он сделал широкий жест, как бы обнимающий обоз, – в город Томск. Слыхали про такой?– Ага! Это знаем! – обрадованно замотали головами ребятишки. – Ну еще бы! Город Томской не Австралия, о которой, конечно же, никто и слыхом не слыхивал, а свой, сибирь-город. Сосед, можно сказать. Случалось, успенские мужики-кислороты в извоз к томским купцам нанимались. Воротясь ко двору, рассказывали: мол, большущий город, на улицах сальные свечи в фонарях горят, городовые стоят. А купцы томские бога-а-тые да чудные люди! Один, сказывали, себе терем построил. На берегу реки. А из подполья – ход такой. Кто с золотишком зайдет, того топором по голове тюк – и в подкоп. А золотишко – себе…– Ну, это сказки, – рассмеялся Крылов. – Вы, не больно-то всему верьте. Даже вашим бывалым-хожалым. Город Томск – хороший город. Там живут, конечно, разные люди, но много добрых и умных. Вот и университет скоро там откроется…– А кто это? – спросила Нюшкина сестра.– Университет? – озадачился Крылов, как бы половчей объяснить непонятное слово. – Университет – это школа. Большая школа.Для взрослых. Поучатся они годов пять – и врачами, докторами сделаются. Вас лечить смогут. Понимаете?– Понимаем! Только у нас дохтура нет. Бабка Швейбиха есть. Дед Балюк зашоптыват. Я однова серпом ногу срезал, дак он зашоптал. «Кров, кров, бегла через ров. Рова не стало – и кров перестала», – сказал Федька, доверчиво глядя Крылову в глаза. – А еще он с лешими говорит.– Ваш дед Балюк не лечит, а сказки рассказывает, Федя, – ласково тронул мальчика за плечо Крылов. – Тем более про леших и про чертей.– А что, леших и чертей не быват? – замирающим голосом спросила стриженая девочка, застенчиво натягивая белый платочек на лысенькую, как после тифа, голову.– Не бывает.– А бабушка говорит – есть. В доме – домовой али дедушка-суседушка. В лесу – лесной. В воде – водяной, а в поле – полевой! Если огороды начнешь зорить, то придет полудница, старуха в лохмотьях и с клюкой, и уташшыт.– А еще ходит Шулюкин, – несмело поддержала ее другая девочка, некрасивая, с застывшей в неестественном положении кривенькой шеей.– Это еще кто такой? – весело удивился Крылов. – Что-то не встречался он мне раньше. Расскажи, милая.– Он это… молодой такой, – послушно начала девочка. – Парень такой… В красной рубахе и синих штанах. Где хочет, там и вскочит. Когда святки, в куклы играть нельзя. Шулюкин-наряжунчик уташшыт. Все девчонки его боятся!Крылов с жалостью смотрел на детей, сидевших полукружком возле него. Качал головой. Добро бы сеять в этих сердцах, а не сорняки предрассудков. И семена уж взращены, и светильники разума возжжены, да пахарей не хватает… Немного ныне наберется желающих нести светильник во тьму. Велика Россия, необъятна, сотней плугов не вспашешь, десятком светильников не разгонишь мрак…«Бог даст, может, для этих-то ребятишек хоть что-нибудь переменится к лучшему. Им еще расти и расти», – попробовал утешиться Крылов, в который раз чистосердечно и неопределенно надеясь на светлое будущее. Без надежды, без веры он не мог существовать, иначе сама жизнь делалась непосильной, бессмысленной.– Шулюкин – это тоже сказка, – вздохнул он. – Да вы не гневайтесь на меня! Я не против сказок. Только не надо всего на свете бояться. Человек сильный. Он силен разумом. Знаниями. Он сильнее Шулюкина, потому как сам же про него и сочинил, придумал. Уразумели, воробьи?Дети нерешительно переглянулись; речи доброго дяденьки казались непонятными, пугали.– Давайте я вам лучше кое-что покажу, – предложил Крылов. – Однако условимся: не только глядеть, но и помогать!«Кое-что» оказалось для ребятишек чрезвычайно интересным занятием. Они охотно копали ямку, закладывали в нее угли из костра, сырой глиной обмазывали сплетенную барином узкогорлую корзинку, сажали ее в разогретую ямку, накрывали дерновиной…Когда прутья сгорели и дым перестал клубиться, Крылов посмотрел на часы и торжественно сказал:– Приготовьтесь, господа!И лопаткой поддел дымящуюся дерновину.Нетерпеливым ребячьим взорам открылся… обыкновенный горшок. Не очень ровный, не очень ладный. И все же они смотрели на него, как на чудо. Этот горшок был, конечно, лучше и пригожей, чем расписные городские, которые привозили с ярмарок в Успенку мужики. Потому что он был сделан их собственными руками.– Ну как, нравится? – спросил Крылов, вынимая теплое издельице из ямки.– Хороший! – хором воскликнула, как выдохнула, ватажка, и горшок заходил по рукам.– Вот и добро, – потеребил бородку довольный Крылов. – Берите себе на память. А для бунии-бунии мы сейчас еще слепим. Да, Нюша? Повыше да пошире…Второй горшок получился не хуже первого. Буния-буния укрепилась в нем удачно, словно век там сидела.Дети помогли и с поливкой. Все подводы быстренько облазили, напоили растения. Даже маленькая Нюшка старательно ковыляла вслед за старшими, прижимая к груди кружку с водой.– Спасибо вам, дорогие помощники, – похвалил Крылов. – А теперь давайте-ка поближе к костру. У меня каша знатная осталась, хлеб… Чай с душицей да с сахарком попьем!Ватажка окружила обмякший костер, и на лесной поляне сделалось уютно, как в просторном доме.Дети ели нежадно, степенно, как и положено в гостях. Деликатно поскребли дно котелка и, облизав струганые ложки-щепочки, отодвинулись от костра, показывая хозяину, что сыты и довольны.Маловато каши, конечно. На девятерых-то. Крылов прикинул, чем бы еще угостить ребятишек. Вспомнил! Достал из узелка остаток колониального товара – кишмиша, подаренного ему на прощанье казанским аптекарем. Отсыпал каждому поровну в протянутые ковшичком ладошки.И тут заметил ревнивый взгляд подошедшего незаметно Акинфия.– Держи и ты, – сказал ему Крылов. – А это старику отнесешь. Да смотри, не обижай его. Я вижу. Старых да малых обижать грешно. Запомни, Акинфий.Федька стоял рядом и внимательно слушал. В другое время Акинфий не преминул бы щелкнуть мальчишку по носу за чрезмерное любопытство, но в присутствии барина не посмел.Неожиданно стало темнеть. Сначала пропали очертания дальних кедров, потом размылись фигурки на поляне, ярче сделался костер.– Пора и домой, – напомнил ребятишкам лёля. – Там вас, поди, уж обыскались.– Не-е! Не хочется… Не пойдем, – забунтовали те. – Пусть барин расскажет еще что-нибудь!– А расскажу – пойдете?– Тада пойдем.– Хорошо, пусть будет по-вашему. Идите сюда, от огня подальше.Крылов отвел ребятишек за кедр, велел зажмурить глаза, а сам скользнул к подводе, где в стеклянных банках и картонных коробках хранились лекарственные растения и прочие редкие находки, собранные им по пути. Вынул из-под рогожки какой-то предмет и накрыл его широкими ладонями, как птенца.– Смотрите…Развернул руки – и в густых сумерках на его ладонях возникло нежное свечение, бледное и загадочное. Свечение завораживало, околдовывало.– Самосветы! – внезапно охрипшим гоосом выдал свое волнение Акинфий.Словно очнувшись, дети враз потянулись к мягким кудрям холодного огня.Дав им полюбоваться, потрогать, – на ощупь огонь действительно мягок, сыроват, – Крылов сказал:– А вы знаете, дети, это мох. Обыкновенный мох. Я нашел его верстах в тридцати отсюда, на прошлой стоянке. Вот вырастете, в тайгу пойдете… Станете смелыми охотниками, будете свой край изучать. Может статься, вечером или ночью повстречается и вам такая свет-полянка. Не топчите ее. То мох самосветящийся растет. Редковато встречается… Про него тоже сказки складывают. Будто бы маленькие лесные жители, лесовички, зажигают по ночам фонарики-огоньки. Стерегут свои зачарованные сокровища… А на самом деле это мох, дети. Травка такая, которая днем лучи солнца как бы в себе накапливает, а ночью светиться начинает.– Самосвет-трава, – прошептал Федька.– Можно и так сказать, – поощрил его Крылов. – Понравилась сказка? Вот и отлично. Возьми, Федя, эту травку. От меня на память. Может, когда-нибудь встретимся. Вырастешь, выучишься, приедешь в Томск, в Сибирский университет – меня спроси… И ты, Акинфий… И вы все…– А как спросить-то? – поинтересовался Федя, принимая светящийся комочек.– Спроси Крылова. Ботаник Порфирий Никитич. Запомнил?– Ага.– Вот и ступайте. С Богом!Ребята попрощались и нехотя побрели по домам. Они шли через поляну гуськом, о чем-то переговариваясь. Их было долго видать, особенно Федю с самосвет-травой.Крылов проводил ребятишек, постоял в темноте. Грустное томление, печаль, разлитые в недвижном ночном воздухе, завладели и им. Хотелось сокровенной беседы, дружеского участия…Прежде времени осина пожелтела.Лист широкий осинушка обронила.Стояла осинушка на отбросе…Стараясь не хрустнуть веткой, Крылов сделал несколько шагов вперед. Так и есть, не ошибся: пел старик-лёля. Он сидел у догоравшего костра; вздернутая бородешка его, похожая на пучок степного ковыля, легко шевелилась, трепетала в горячем потоке, шедшем от красноватых пыхающих углей.Ветром осинушку качнуло,Сучья у осинушки приломило,Листья дождиком обстегало,Вершинушку красным солнышком подсушило,Кору зайки белые обглодали…То была старинная песня сибирских обозников. Крылов уже слыхал ее прежде, но дребезжащий тенорок старика сообщал ей нечто новое, сокровенное. Глубочайшая мужская печаль о нескладной судьбе, о невозвратной поре недолгой и неяркой молодости звучала в песне так обнаженно, что делалось не по себе.Прежде времени головушка поседела.Прожила головушка на чужбине,На послугах ты у вязниковца,У приезжего купчины-ковровца;Тридцать лет головушка служила,Золотой казны она не накопила,Силу крепку в обозах надорвала,По большим дорогам силу растеряла.Накопила только, голова, ты долгу,Выслужила только грубое ты слово:«Ах, мужик, дурак ты, неотес сибирский!»Старик умолк. Опустил голову, задумался, глядя на угли. Издали казалось – задремал.Крылов неслышно прошел к своей подводе, лег на расстеленную палатку и долго смотрел в темный клочок неба с одной-единственной звездой над головой. Ему было грустно и… радостно. Счастливо от мысли, что все у него в жизни идет как полагается. У него есть жена, дорогая Машенька, обещавшая тотчас приехать к нему из Казани, как только он устроится на новом месте, не убоявшаяся Сибири. У него есть будущее – любимая работа на благо Отчизны. Он чувствовал в себе силы нерастраченные, жажду самоотречения жгучую; он стремился в неведомый Томск, словно к заветной цели…А грустно было потому, что он один, и кругом особая ночная тишина, что умолк старик, а его песня еще продолжает звучать в ушах: «Выслужила только грубое ты слово: «Ах, мужик, дурак ты, неотес сибирский!..»