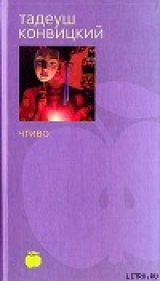
Текст книги "ЧТИВО"
Автор книги: Тадеуш Конвицкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Пан комиссар, тысячелетие на исходе, и мне понятна ваша тревога, но после этой дикой истории я ни о чем другом не могу думать.
– Была эпоха римлян, потом германцев, а теперь наступает эра славян. Мы искупили все грехи мира, мы сойдем с креста…
– Пан комиссар, мне ужасно холодно, я едва держусь на ногах.
– Молчать! – рявкнул Корсак. – Весь этот комиссариат – рассадник слабаков.
Тонут в демократии, как в навозной яме.
На ветках деревьев я видел начинающие набухать бугорки почек. Какая-то припозднившаяся белая туча неслась напрямки над крышами домов. Два библейских голубка сидели на железной ограде и, не шевелясь, внимательно на нас смотрели.
– Что со мной будет, пан комиссар?
– Больно уж вы чувствительны. Откинулась одна шлюха, то ли дочка, то ли внучка высокопоставленного деятеля сдохшего и забытого режима. Чего вы так дрожите?
– У меня перед глазами все плывет. Вы меня даже врачу не показали.
Но Корсак не слушал. Отломав прутик от оживающего куста, раздраженно похлопывал им по джинсовой штанине.
– Любопытный был ваш самоанализ,– наконец произнес он негромко. – Жалко таких людей, как вы. Ну ладно. Пошли обратно.
Время скоропалительных обращений в новую веру, подумал я. Или эпоха изобретенных в нервной спешке религий. Мы меняемся, но и мир не стоит на месте. Мне-то что до этого. Что я делаю в этом городе, похожем на оскверненный склеп. Откуда меня вырвало и занесло сюда, как тополиный пух.
Опять нам пришлось пройти по коридорам, которые я помнил с давних времен, по мрачным туннелям, полным тайн и угроз, – непременной принадлежности ревнивой и самолюбивой идеи, придуманной, дабы превратить обветшалую планету в алмазный самородок, летящий в пустом пространстве без Бога. Но теперь здесь все по-другому. Полицейские упорно продолжают отмечать именины дежурного офицера, того самого, показавшегося мне похожим на Гиммлера человечка с выцветшими усиками и в очках в металлической оправе.
Царицей бала была Анаис, не то гостья, не то арестантка, бродившая в расшитом пончо по закоулкам комиссариата, прижимая к себе, точно неживого подкидыша, свой узел.
Корсак куда-то пропал, и я стал стучаться в разные комнаты, но почти все были заперты. В одной, правда, меня радостно поприветствовали:
– Добро пожаловать, пан депутат!
А во мне постепенно нарастал гнев. Вокруг страшный хаос, как перед надвигающейся бурей. Ужасающий гул перед взрывом. Что я, сам себя должен допросить, осудить и наказать. Если б я мог наступить огромной ножищей на этот старый дом, нашпигованный бессмысленным движением и воплями дебилов, моих так называемых братьев.
– Малыш, – подскочила ко мне Анаис, – на, прочти кусочек про Господа Бога, – и стала совать мне свой засаленный манускрипт.
– Я когда-то прогнала
Бога, как бешеного пса, а теперь ищу потерю, брожу по кабакам, канавам, кутузкам. А может, хочешь, чтобы я сама прочитала?
– Отцепись! Отстань и от меня, и от Господа Бога, – грубо сказал я, хотя намеревался выразиться интеллигентно, с использованием философской терминологии.
Анаис расплылась в демонстративно сладкой улыбке – видно, привыкла к хамству своего окружения.
В коридорах вдруг поднялась кутерьма, тщедушные полицейские забегали взад-вперед, на ходу застегивая ремни. А я наконец отыскал дверь своей камеры.
Президент делал гимнастику, поглядывая на окно, по которому ползли поблескивающие капли весеннего дождя.
– Кошмар, – отдуваясь, прохрипел он, как старая фисгармония. – Через полчаса начинается моя демонстрация.
– К черту все. Провались вы пропадом. Я больше не выдержу.
– О, о, хорошо говоришь, – обрадовался президент. – Да, наступает, а быть может, уже наступила новая эра. Ты заметил, что в нынешнем году две девятки? Девятка – это одухотворение. Девятка – это тирания духа.
– А я все вижу увеличенным. Окно огромное, нос огромный, капли дождя огромные.
– Европа пухнет. Европа собирается еще раз родить. Постучи в дверь. Пускай нас выпустят. Внимание, я падаю в обморок.
И повалился на свою койку. Пролежал минуту, раскинув руки, на скомканном одеяле. В непролазных дебрях его бороды отчаянно моргали черные, налитые кровью глазки.
– Президент, – сказал я, – у меня на этот год потрясающий гороскоп. Я могу совершить фантастический подвиг или сделать эпохальное открытие.
– Задыхаюсь, – простонал президент. – Разбей окно.
Как много раз в жизни, так и в ту минуту, в тот час я балансировал на грани сна и яви. Отрезвили меня, вернув к реальности, взрывы смеха в коридоре. Издавна знакомый хохот – я его слышал на железнодорожных вокзалах, за стеной у соседей, в каких-то ситуациях во время войны, а потом, привыкнув к веселью ближних и успокоившись, стал возвращаться сквозь невидимую летнюю тень в свой старый сон, где мой дедушка шел садом к нашему дому в деревне, вернее, в маленьком городке у восточной границы, шел, облитый красным заревом заката, и, как мне казалось, нес что-то в вытянутых руках, но он ничего не нес, просто шел в белой рубашке и черном жилете, а на плечах у него, на этом жилете, краснели огромные, будто у российского генерала, погоны, но то были не погоны, а пятна кровавого зарева, и позади него мерцал этот красный свет, и из-за белых стволов фруктовых деревьев просачивался густой свет заходящего солнца. Дед никогда не доходил до дома, я напрасно ждал его у окна или на крыльце, и в конце концов просыпался, и думал: а может, мой дедушка существует и останется во Вселенной, раз я так отчетливо, так ясно его вижу и воссоздаю на краткий миг в своих снах, в своей памяти, в своем пульсирующем сознании.
Грохнула дверь: в камеру вошел один из здешних многочисленных юных и тщедушных полицейских. По деревенскому обычаю поманил меня пальцем:
– Вещи захватите.
– У меня нет вещей.
– Значит, без вещей.
Опять мы шли по коридору, огибая козлы и баки с известкой. Сейчас тут было тихо, пусто и только на застеленном газетами полу еще валялась бутылка из-под советского шампанского.
В дежурке двойник Гиммлера, подозрительно румяный, с мутными глазами, подсунул мне какой-то листок:
– Распишитесь в получении бумажника.
– У меня не было никакого бумажника.
– Расписывайтесь, спорить будем потом. Я расписался. За открытой дверью сыпал крупный весенний град. Где-то монотонно бормотала полицейская рация.
– Можете отправляться домой.
– Вы меня отпускаете?
– Отпускаем. Под залог. Ошеломленный, я стоял перед деревянным барьерчиком, который помнил по былым временам.
– Значит, ничего не случилось? – пробормотал я, и в висках у меня застучало.
– Случилось, что должно было случиться. А за вас уплачены большие деньги.
Попрошу никуда не уезжать и каждые три дня отмечаться в комиссариате.
Я вертел в руках незнакомый, потертый, во многих местах распоровшийся бумажник.
– А она?
– Какая еще она? Идите и не морочьте людям голову.
Может быть, меня взяли просто за то, что я надрался, подумал я. Как хорошо сидеть в тюряге за невинное, безгрешное пьянство. Да, я бы, вероятно, стал алкоголиком, если б не слабое здоровье. Отгородиться от неудобств мира четвертинкой водки, отсечь тяготы повседневности, накачаться наркотиком до неожиданной, быстрой агонии. Боже, Боже.
Я спустился по ступенькам к выходу. В лицо ударили шершавые ледяные градины. Откуда-то вынырнул замкомиссара Корсак. Описал локтями полукруг и энергично выдвинул вперед подбородок, словно пытаясь проглотить крутое яйцо.
– Вам известно насчет неразглашения? Следствие еще не закончено.
– Но домой я могу идти? – спросил я, и по спине у меня побежали мурашки, потому что я вспомнил свой дом – большой, как Монблан, и свою маленькую квартирку, в которой ни от чего нельзя спрятаться.
– Идите и забудьте о наших неофициальных беседах. Или нет, не забывайте.
Они вам вскорости пригодятся. Два слова: Славянский Собор.
– Я уже ни на что не гожусь, пан комиссар. Меня занесло на вершину горы, и теперь всё вместе со мной кубарем катится вниз.
Он показал мне два растопыренных пальца – знак победы – и скрылся в коридоре, где кто-то завыл; прежде такой вой говорил о пытках, а сейчас мог означать, что кого-то тоска заела.
Я вышел на улицу и остолбенел. Перед комиссариатом впритирку к тротуару стоял гигантский автомобиль с длинным капотом, казалось, достающим до перекрестка. В черных и словно бы жирных стеклах я увидел свою осунувшуюся физиономию. Шофер, как будто из довоенного фильма, то есть во френче цвета маренго, брюках-галифе и облегающих икры крагах, молодой человек с форменной фуражкой в руке приоткрыл передо мной дверь этого лимузина не из нашего мира. А вокруг клубилась толпа с помятыми и разорванными транспарантами. Демонстранты, завороженные видом заграничной машины, позабыли, зачем собрались.
– Мне садиться? – спросил я пересохшими губами.
Шофер кивнул и шире открыл дверцу. Я влез в сумрачный салон. Какой-то человек с лицом далай-ламы сидел, развалясь, в углу машины и смотрел на меня со странной усмешкой.
– Ну и что? – спросил он.
– Знаете, у меня ужасные неприятности, я совершенно раздавлен.
– Слыхал, слыхал. Не узнаешь?
– Простите. Не узнаю.
– Мицкевич.
– Что Мицкевич?
– Мицкевич. Из гимназии. Мы вместе учились с первого до третьего класса.
– Минутку. Мицкевич… Мицкевич из еврейского квартала?
– Нет. Я караим. Антоний Мицкевич. Меня опять начало мутить. Я уже не поспевал за жизнью.
– Да, узнаю, хотя… столько лет.
– Тони Мицкевич. Это я тебя выкупил.
– Ты меня выкупил?
– Да. Из участка. Возвращаюсь через черт-те сколько лет на родину, и на тебе – единственный приятель сидит. Прокатимся?
– Можно прокатиться, хотя меня тошнит.
– Не беда. Включим кондиционер.
Он что-то сказал по-английски в микрофон, и заокеанский лайнер мягко поплыл, прихватывая в затемненные окна разинутые рты демонстрантов и мокрые маркизы магазинов. Салон начал наполняться прохладным лесным воздухом.
– Приятно так ехать, правда?
– Да, приятно.
– Люблю эту машинку. В моем самолете для нее есть специальный отсек. Я ее всегда беру с собой.
Матерь Божья, Матерь Божья, подумал я. Не иначе, скоро конец света. Всю жизнь, стоило мне скопить немного денег, происходила девальвация.
– Как поживаешь? – спросил Мицкевич, и только тут я заметил, что он говорит с иностранным акцентом. – Ох, прости. Шерше ля фам. У тебя неприятности. Не горюй, я выпишу из Америки адвокатов.
– Да. Что-то произошло. Что-то идиотское и абсолютно непонятное. Как черепица с крыши или гром с ясного неба. А у тебя как дела? Извини, сам вижу. У меня уже сутки болит голова.
– Помнишь, в конце войны меня отправили к белым медведям. Десять лет Воркуты, слыхал про такой лагерь? Нет, погоди, одиннадцать, а потом я слинял в Америку. Брался за все без разбору. Наконец обзавелся небольшой строительной фирмой возле Чикаго. Но меня это не устраивало. Все делают деньги, а я чем хуже? В общем, думал, думал и придумал. Я заметил, что у американцев проблемы с опорожнением кишечника. У них со всем проблемы. А мы с тобой у себя на востоке кое-чему научились. У нас срали в лесу, в кустах, на жердочке, на неоструганной доске, даже стоя, кто половчее. И я сочинил на эту тему трактат. Никто не хотел его печатать, все надо мной смеялись, соседи показывали пальцем. Но я не сдался. Купил бумагу, договорился с типографией и напечатал сам. Не поверишь – разошлось пять миллионов экземпляров. Год я не слезал с первого места в списке бестселлеров. А дальше пошло автоматом. Я запатентовал одну позицию, так называемое противогрыжное испражнение на корточках. Мы тут с тобой лясы точим, а в эту минуту десять миллионов американцев срут и платят мне проценты.
И задумался, уставившись на темный экран телевизора. Антоний Мицкевич.
Караим из нашей гимназии. Такова жизнь.
– Выпьем? – внезапно спросил он и потянулся к холодильнику.
– Нет, спасибо. У меня жуткое похмелье.
– Хочешь колы? Отлично помогает.
Мы чокнулись стаканчиками, и он потрепал меня по плечу:
– Выше нос, старик. Какой-нибудь выход всегда найдется.
Я молча потягивал колющий десны напиток. Громадный автомобиль плавно преодолевал повороты. Мы не слышали уличного шума, вообще ничего не слышали, и на меня вдруг почему-то накатил страх.
– Что происходит, дружище? Ты мне тут сказки рассказываешь, а у меня беда, и я не знаю, чем все это кончится.
– Я рад, что тебя отыскал. А другие живы? Я помню какие-то фамилии, какие-то лица. Куда бы меня ни заносило, постоянно кажется, что я вижу кого-то из нашей школы или с моей улицы. А ты с кем-нибудь встречаешься?
– Нет. Сейчас нет. Раньше встречался. Кругом все больше новых людей.
– Да. Это не наш город. Наш остался на том берегу. Ты хоть иногда туда ездишь…
– Нет. Не хочу. Не могу. Предпочитаю помнить.
Автомобиль незаметно остановился. Просто пейзаж за темным окном в какой-то момент замер, и услужливый шофер с фуражкой в руке – ни дать ни взять кучер из прошлого века, – наш элегантный водитель помог нам выйти из лимузина.
Мы были на гигантской площади перед Дворцом культуры, на самой большой площади Европы и в самом центре Европы. В глазах рябило от киосков, ларьков, лотков, палаток. У подножья Дворца разноцветными гусеницами вытянулись два длинных крытых павильона. Тут торговали все народы Азии и Восточной Европы. Туда-сюда сновали корейцы и монголы, турки и армяне, арабы и казаки, индусы и уйгуры. Мелькали представители неизвестных древних наций в архаичных нарядах, возможно ассирийцы или хетты. И все объяснялись жестами, изредка издавая какие-то гортанные звуки – быть может, на языке эпохи ранних шумеров или позднего комсомола. Иногда сквозь толпу осторожно протискивался проржавевший легковой автомобиль с территории бывшего Советского Союза или из сегодняшней России. И купить здесь можно было все, что создали древние цивилизации, а также ядерная эпоха. На восточных ковриках высились пирамиды духов Диора и стояли глиняные горшки с кумысом из пустыни Гоби. Валялась японская электроника и березовые веники из русской бани, у бровок тротуаров дремали украинские грузовики и блеяли небрежно привязанные козы с Кавказа, в тени сломанных ограждений сверкали яркими красками порнографические журналы и ждали покупателей ракетные орудия типа «катюша». Мой приятель Мицкевич покачал головой.
– Мир сильно изменился с твоих времен, – сказал я.
Тони поднял голову.
– Видишь домишко? – Он указал глазами на Дворец, который, точно допотопный птеродактиль, заботливо склонялся над этим всемирным торжищем, похожим на опрокинутую Вавилонскую башню. – Собираюсь его купить.
– И что там будет?
– Пока не знаю. Может, музей лагерей или детский городок с аттракционами.
А скорее всего Диснейленд эпохи Иосифа Виссарионовича. Тебя назначу директором.
– Знаешь, Тони, я тебя плохо помню. А если честно, совсем не помню. Где-то на дне памяти вертится фамилия Мицкевич, одноклассник Мицкевич. Но, возможно, я тебя путаю с нашим великим поэтом, он ведь тоже всегда был с нами в школе, на городских улицах и в книгах.
– Как? Мы ведь с тобой даже раз дрались после уроков на Буффаловой горке.
– Знаешь, Тони, я несколько месяцев назад заболел. Подцепил вирус, который отбивает охоту жить. Физически, если не считать легкого сотрясения мозга, я в полном порядке, довольно энергичен, склонен к педантизму, рассудителен и деловит, но утратил жизненный импульс.
– Это что же такое?
– Раньше я тоже не знал, что это такое. Мир теряет объемность и становится плоским, как фотография. Думаю, в конце концов выяснится, что это за вирус.
Но я до тех пор не доживу. Я уже обречен.
И тут вдруг откуда-то выкатилась Анаис. В подоле пончо она несла свой сверток, из которого во все стороны торчали какие-то диковинные предметы, вероятно ее движимое имущество. Остановившись возле нас, она приторно-сладко улыбнулась Мицкевичу:
– Этот прелестный автомобильчик ваш?
– Да, мой,– в некотором замешательстве ответил Мицкевич.
– Приятно, должно быть, в нем ездить,– еще слаще заулыбалась она. – У одного моего знакомого в Лондоне точь-в-точь такой же.
– Брысь, – голосом президента прохрипел я.
Анаис не обратила на меня внимания. Достала зеркальце и принялась жуткой коричневой помадой мазать губы, которые когда-то целовали диктаторы этого привислинского края. Тем временем подошел какой-то кочевник в сером ватном халате, вытащил из-за пазухи толстенную пачку измятых долларов и стал черным пальцем указывать то на лимузин, то на деньги. Но Мицкевич отрицательно покачал головой.
Из-за мертвого обелиска Дворца вылезло красноватое солнце и уставилось на эту площадь без начала и конца, на тысячи молча жестикулирующих землян и на нас, стоящих возле неправдоподобно длинного автомобиля, обитого изнутри то ли настоящей шкурой леопарда, то ли искусственным тигровым мехом.
– Знаешь, Тони, спасибо тебе за все, но я пойду домой. Хочу прилечь. У меня были очень трудные дни.
– Нет проблем. Могу тебя подвезти.
– Спасибо. Мне недалеко. Я должен собраться с мыслями.
– Хорошо. Я объявлюсь – ведь я к тебе приехал.
– Ко мне?
– Да. Сорок лет я о тебе думаю. Вернее, не могу забыть.
– Но почему?
– Скажу в следующий раз.
– А сейчас не можешь?
– Нет. Это сложно. Отдыхай, собирайся с мыслями, надеюсь, результаты следствия окажутся для тебя благоприятными.
– Да. Спасибо. Пока.
– Приветик, – сказал он; когда-то мы так здоровались и прощались в школе.
Я зашагал по извилистым улочкам этого города, который вырос здесь неведомо когда и неведомо когда исчезнет, сметенный так называемым ветром истории.
Ветер истории, ветер космоса, ветер или ураган гиена Господня.
Мир вокруг был залит горячим красным светом, а меня пробирала дрожь.
Вернуться домой. Значит, в ту комнату, где это случилось. Но ведь я не могу там ночевать, я уже не сумею там жить. Хорошо бы дом сгорел дотла прежде, чем я до него дойду. Ее, наверное, давно унесли. Но ведь осталась смерть. И частица ее души, если душа существует. Она знает, что я не виноват, нисколько не виноват. Что происходило с того момента, когда я оставил ее спящей, с белой грудью, клонящейся к полу, до страшной минуты появления полиции. Помню, что занавески не были задернуты и уличный фонарь освещал нашу пьяную возню на грани эротики и тягостного полусна. Но когда я встал, чтобы впустить полицейских, окна были затянуты шторами. Кто их закрыл в лунатической летаргии. Я или она.
Меня передернуло. Огромные окна универмага пылали багровым заревом.
Кончался день – как в кошмарном сне или хмельном забытье. В ее красоте было что-то зловещее. Почему именно меня она высмотрела в этой веселой и скучной компании, меня, с моим разладившимся механизмом жизненных импульсов. Она, эта роковая незнакомка, неизвестная молодая женщина, зловещая варшавская сирена.
На кирпичной стене современного здания – мемориальная доска: здесь во время последней войны было расстреляно несколько десятков заложников.
Красная лампочка в фонаре. Вечный электрический огонек нашей ненадежной памяти. А над доской огромная надпись черной краской из пульверизатора:
«Славянский Собор». А дальше на столбах, на стенах, на балконах – плакаты, рекламирующие индийских философов и российских знахарей. Мир кишит целителями душ и врачевателями тел.
Перед моим домом по опустевшей к этому времени улочке носились дети – на досках, на роликах, на велосипедах. Как ласточки, вылетевшие перед наступлением ночи из гнезд.
В туннеле подворотни стоял пожилой мужчина в белой рубашке и коричневых брюках. Я давно знал его в лицо. Он жил в одном из многочисленных подъездов нашего дома. Я подозревал, что этот тип служил в органах безопасности, поскольку при случайных встречах он неизменно сверлил меня злым взглядом, таившим неясную угрозу.
– Отпустили, – сказал он, и это были первые слова, которые я услыхал от него в жизни, в жизни большого варшавского дома.
– Да, отпустили.
– Я приглядывал за вашей квартирой. Пойдемте, надо сорвать печати. Буду свидетелем.
Мы наискосок пересекли двор, загроможденный трубами, обломками стен, разбитыми раковинами и унитазами.
В одной из квартир сантехники долбили стену. Из открытых окон летела вниз белая известковая пыль. Все старухи, сидевшие у подъездов на остатках скамеек, все эти опирающиеся на палки и костыли ведьмы, бдительно подняв головы, уставились на нас, как на патруль особого назначения, строевым шагом направляющийся на исполнение важного служебного задания.
– Знаете, это я вас увидел на рассвете,– сказал мой спутник. У него были кудрявые рыжие, чуть осветленные сединой волосы, точно ореолом окружавшие пухлое, но отнюдь не добродушное лицо. В детстве он был, вероятно, похож на ангелочка, некрасивого и злобного ангелочка. – Услышал, как кто-то грохнулся на тротуар. Встал с кровати и подошел к окну. То ли вы ее поднимали с земли, то ли она вас. Ух, здорово поддатые были. Оба.
– Я, пожалуй, уеду из этого дома. Но куда податься? – тихо простонал я.
– Вот именно. Сейчас капитализм, на капризы деньги нужны.
Мы поднимались по лестнице, по моей лестнице, знакомой с незапамятных времен. Таинственный сосед, которого я всегда боялся, пыхтел рядом очень по-человечески и понятно.
– Это вы позвонили в полицию?
Он пропустил мой вопрос мимо ушей. Где-то под крышей, на седьмом или восьмом этаже, работала дрель. Кто-то из жильцов собирался открыть частное предприятие – посредническую контору или фабрику по производству зубочисток.
– Я всегда думал, что на пенсии отосплюсь за целую жизнь. И нате вам: теперь по ночам глаз не могу сомкнуть. Постоим, я передохну. – Громко сопя, он остановился на площадке между этажами.
– Честно говоря, вы мне раньше не очень-то нравились. Смотрели так, точно убить хотели взглядом.
– Не буду скрывать, вы у нас не вызывали доверия. Подозрительные личности к вам ходили, наверняка вы якшались с оппозицией, а мы тогда спуску не давали. Кто знал, что так получится. Все наши труды кошке под хвост.
– Чьи?
Он заколебался и посмотрел в окно, за которым нежничали наши библейские голубки.
– Сами знаете,– произнес заговорщически. – Сейчас другое время, незачем ворошить былое.
– Вы не жалуетесь?
– Я никогда не жалуюсь. Пирог, оставшийся от социализма, мы аккуратно порезали, и каждый получил свой кусок. Дети у меня устроены, все, доложу я вам, фабриканты или банкиры.
Мы тяжело потопали наверх; идти уже оставалось немного. Моя дверь была крест-накрест перечеркнута коричневыми бумажными лентами с синими печатями.
– У вас есть ключи?
– Есть.
– Давайте сюда. – Ловко содрав печати, он отпер дверь и вернул мне ключи.
– Желаю успеха на новом пути. Не бойтесь. Ее увезли сразу после вас.
Я сунул ключи в карман, где лежал бумажник, выданный мне при освобождении.
Преодолевая страх, захлопнул дверь перед носом соседа, который не спешил уходить.
Глядя прямо перед собой, затаив дыхание, я чуть ли не на цыпочках вошел в свою комнату. Занавески были раздвинуты, солнце уже лежало на крыше с нашлепками слуховых окон, похожими на сгорбленные фигуры людей, невесть чего ищущих под небом. Красный закат.
К ветру, подумал я. Но какая мне разница – будет завтра ветер или не будет.
Резко обернувшись я посмотрел на кушетку. Она была пуста. Сверху лежал клетчатый плед, свешиваясь одним концом на пол. Вся мебель была переставлена, картины на стенах перекосились, воздух пропитан чужим запахом табака. Я распахнул окно и посмотрел на нашу улицу. Матери звали домой детей, с грохотом раскатывающих па досках и самокатах. Голые деревья замерли в ожидании ночи. В открытой телефонной будке болталась на шнуре трубка, которую кто-то поленился повесить. Я вынул из кармана потертый распоровшийся бумажник. Не мой, подумал. Пускай лежит. И положил на стол.
Потом сел на незастланную кровать. Солнце уже скрылось. Осталась только огромная полоса красного неба Когда-то я знал, отчего вечерами краснеет небо и увеличивается солнечный диск.
Почему-то я побоялся принять душ. Только, раздевшись до пояса, тщательно умылся, поглядывая в сторону комнаты, где царила сонная неподвижность.
Опять сел на кровать, разворошенную полицейскими. Что делать дальше.
Ничего, ждать ночи. Сантехники в соседнем подъезде все еще долбили стену.
Ремонт. Капитальный ремонт после неудавшегося эксперимента. А, не важно.
Кто так говорит. Не важно.
Надо попытаться уснуть. Другого выхода нет. Я лег лицом к стене. И все равно спиной ощущал присутствие этой кушетки, которая тыщу лет стояла на своем месте, безымянная, ничья, возможно, даже ненужная в этой квартире. А теперь вдруг стала чем-то, а скорее, быть может, кем-то. Неожиданно обрела пугающее лицо. Я не мог, не в состоянии был не смотреть на нее, не коситься в ее сторону, не проверять, так ли уж она неподвижна.
Перевернулся на другой бок и теперь видел ее, дремлющую в розовом, а вернее, кирпичном полумраке, и видел выцветшую черноту соседней комнаты, бывшего гнездышка моей жены, которая год за годом от меня отдалялась, а я отдалялся от нее, хотя мы жили под одной крышей, ели одно и то же на завтрак и на ужин, вместе оплачивали счета, стирали семейное белье, горевали над судьбой ребенка-инвалида, чья неполноценность не была заметна, но существовала, как постоянная угроза жизни. Жена уехала с сыном за океан, и когда мы нежно прощались, оба знали, что, если представится возможность, она останется в том далеком краю, останется навсегда, и это будет лучше для нее, для меня и, пожалуй, даже для мальчика. Мы уже исчерпали весь внутренний запас, данный нам для совместного употребления.
В нас уже угас тот огонь, который когда-то казался пожаром, его место занял пепел обыденности.
Нет. Не могу. Не дает мне покоя эта кушетка. Я не в силах удержать взгляд, который со злобным упорством ежеминутно возвращается, ежесекундно подкрадывается к этому невзрачному и враждебному предмету. Она еще здесь, незнакомая девушка с редким именем Вера. Над кушеткой еще витает ее неизрасходованная энергия, возможно, ее оборвавшаяся мысль, внезапно рухнувшие надежды, неосознанное отчаяние. Она ведь стонала во сне, борясь с памятью, с неизвестным мне прошлым или дурными предчувствиями.
Я не могу поверить, что это произошло тут, на расстоянии вытянутой руки, что это случилось во время моего недолгого отсутствия, пока я барахтался в проклятой трясине полусна, полуяви. Но – случилось. Где-то здесь затихает ее шепот, замирает дыхание, остывает тепло и выцветает стройная белизна ее объятого сном тела, стирается темнотой идеально округлая, поражающая своей безукоризненностью нагая беззащитная грудь, склоненная ко мне, мучимому внезапно вспыхнувшим вожделением и предощущением плохого конца.
Все-таки я встал и передвинул кушетку. Заскрипели ее хилые ножки, и я увидел на полу светлые пятна не натертого пола. Отдуваясь, вернулся на свою кровать. Так будет лучше.
Однако лучше не стало. Любили ли меня в жизни. Что значит быть любимым.
Может, чья-то любовь спасла меня от каких-то неприятностей или катастроф.
Да, люди меня любили. Вначале больше, потом меньше. Я был любим, но не избежал краха.
Правильнее всего было бы убрать эту роковую кушетку. Запихнуть в другую комнату, склад прошлого, кладовую минувшего.
Я перетащил кушетку в комнату жены и бросил посередине. Хотел закрыть дверь, но раздумал. Пусть остается открытой. По крайней мере буду знать, что там происходит, если вообще в комнате, где обитают ночные призраки, может что-то происходить.
Видимо, я все же заснул, потому что меня разбудили пугающе громкие выстрелы, точно снова была война. Я подбежал к окну, но уже все стихло.
Где-то на поперечной улице зафырчал и смолк мотор проехавшего автомобиля.
Я открыл балконную дверь, испятнанную непросохшими каплями дождя. Внизу пустая улица и спящие на тротуарах машины. В окне дома напротив мерцает мертвенно-зеленый экран телевизора. Какой-то полуночник глушит бессонницу.
И тут я увидел возле нашей подворотни мужчину. Того самого кудрявого пенсионера, которого я столько лет ненавидел.
– Кто стрелял? – спросил я.
Он поднял голову, вглядываясь в мою перегнувшуюся через перила балкона фигуру.
– Мафии между собой разбираются. Небось русская с чеченской или итальянская с немецкой. Все у нас пошло наперекосяк Знаете, мне иногда кажется, что здесь, в центре страны, торчит верхушка, кончик, острие невидимой оси. Возможно, вдоль нес распространяется какая-то еще не опознанная энергия. Другой конец вылезает где-нибудь в Тихом океане, и там рыбы сходят с ума, море встает на дыбы, а из воздуха улетучился кислород.
Только никто об этом не знает – кому охота совать туда нос. А у нас результаты давно уже налицо. Мы живем в воронке. В чудовищной центрифуге.
Неудивительно, что у людей мозги набекрень, жизнь ненормальная и история свихнулась. Может, уже кому-то известно об этой польской аномалии, но все помалкивают, чтобы не вызывать паники. А те, кому надо сводить счеты, предпочитают заниматься этим здесь – все равно тут уже ничего не вызреет.
Ни социализм, ни капитализм, ни то, что родится в будущем.
– Возможно, вы отчасти правы, но мне не до того, мне бы со своей бедой разобраться.
– Вам все сойдет с рук, можете мне поверить. Сейчас и полиция сбрендила. А у меня есть для нас предложение. – Он подошел поближе к балкону, понизил голос, словно собираясь поделиться каким-то секретом.– Я организую в нашем доме Дворовый Театр Абсурда. Что вы на это скажете?
– Ничего. Странновато, правда.
– А знаете, какой будет первый спектакль?
– Нет. Откуда мне знать.
– «Истинный конец света».
– Впервые слышу про такую пьесу.
– А я ее сам сочинил. Над нами висит истинный конец света. Повисит, а потом втихаря опустится, как туман.
– Вы верите в Бога?
Кудрявый даже охнул от изумления:
– Чего-чего? И придет же такое на ум! Вы небось еще в шоке. Раньше я считал, что Бога нет. А сейчас, на старости лет, когда по ночам не спится, иной раз под утро накатит страх, и начинаешь думать: а вдруг Бог есть? Но все равно, ту жизнь, что прожил, я уже не изменю.
– И я не изменю, – шепнул я самому себе, но он, видно, услышал.
– Вам-то чего менять? По-вашему вышло. А я что могу сказать? – и, опечалившись, замолчал. Но быстро себя утешил: – Мне грех жаловаться. Дети устроены, я тоже живу не тужу. Работа, правда, вся пошла насмарку. Знаете, для меня работа была как наркотик.
– Вы людей мучили.
Он там, внизу, задохнулся от негодования и чуть не бегом бросился к подворотне. Однако остановился, вернулся под балкон, поднял казавшуюся странно красной в свете нашего фонаря руку и словно бы через силу сдавленным голосом произнес:
– Я хотел, чтобы люди стали лучше, – потом вздохнул и махнул высоко поднятой рукой. – Не получилось. Натуру не переделаешь.
Небо над крышами с правой стороны медленно светлело. Из глубины улицы прилетел ветер и зашуршал валяющимся в водосточной канаве обрывком транспаранта. Город с тяжелым вздохом просыпался. Кто это сказал.








