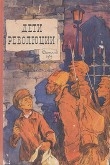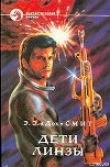Текст книги "Блудные дети"
Автор книги: Светлана Замлелова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
А ещё через несколько дней в Институте у нас созвали общее собрание. В центральной аудитории, устроенной по принципу амфитеатра, собрали завсегдатаев нашего заведения, и ректор, диссидент и либерал, обратился к слушателям с речью:
– Друзья! – сказал он, и голос его дрогнул. – Все вы, конечно, знаете о недавних событиях в Москве.
Зал оживился – ещё бы, мол, не знаем.
– С чувством глубочайшего удовлетворения, – продолжал ректор, – сообщаю вам: Советы в столице распущены и уж более в своём старом, коммунистическом, обличье они не возродятся!
Зал взорвался аплодисментами.
– Да здравствует свобода! – крикнул кто-то из райка.
Счастливый наш ректор крутил головой во все стороны, кивал меленько, расточал улыбки, а дождавшись, когда наконец аплодисменты иссякнут, продолжил:
– Люди, посмевшие называть себя «защитниками Белого дома», оказались на деле бандой красно-коричневых мерзавцев, спровоцировавших в столице бойню. И президент Ельцин был вынужден применить всё, что имелось в его распоряжении, дабы подавить силу фашиствующих, экстремистских и бандитских формирований, собравшихся в Белом доме. Увы, по вине этих преступников пролилась кровь. Президент проявил максимальную жёсткость и твёрдость. Но такова была ситуация момента. Все, кому небезразличны оказались свобода, права человека, Конституция, гражданское общество – все вышли в те дни на улицы Москвы защищать завоевания демократии. Среди них было много известных актёров, политиков, общественных деятелей. Но много было и простых людей, как, например, паренёк из Сыктывкара, которого я встретил на Красной площади. Он специально приехал защищать демократию и Бориса Николаевича Ельцина...
Тут ректор снова заулыбался, и на лице его засветилось умиление. По залу пробежал добродушный, растроганный смешок. Я тоже засмеялся.
– Худенький паренёк с большими голубыми глазами, он не мог оставаться дома, когда разгулялся русский фашизм. Как сказал один выдающийся деятель современной культуры: «Когда на свет поползла чума, обеззараживать её должны специалисты». Пусть паренёк из Сыктывкара не специалист, но он, как и многие другие россияне, вышедшие в те дни на улицы, просто не смог усидеть дома, когда нужно было защищать демократию.
– Слушай, – шепнул я Максу, – мы с тобой, оказывается, защитники демократии.
В ответ Макс вытянул лицо, отчего стал похож на лошадь, и энергично закивал.
– Как смогла, – патетически произнёс ректор, – как смогла безоружная толпа противостоять вооружённым и натасканным бандитам? Я до сих пор этого не понимаю...
Зал оживился – ну как, мол, не понять!
– К счастью, получив от своих командиров оружие, боевики из Белого дома разбрелись кто куда. Эти трусы не хотели рисковать своими жизнями, а полученное оружие распродали тут же, на прилегающих улицах.
– Надо было купить, – шепнул мне Макс.
– Среди них, – продолжал ректор, – были и такие, что всю жизнь мечтали о личном оружии, они бы и чёрту присягнули, лишь бы заполучить его!
– Это про тебя, – толкнул я Макса.
Одобрение последним словам оратора зал выразил довольным смехом.
– Перед лицом беснующейся оппозиции власть обратилась за поддержкой к своему народу, и народ поддержал власть. Жители улиц, на которых разворачивались главные события, приносили участникам обороны чай и кофе. Добровольцы привозили с хлебозаводов мешки белого хлеба. «Никуда не уйдём отсюда, пока не победим!» – сказал мне тот паренёк из Сыктывкара. И я понял: демократия в России сегодня в надёжных руках. Если в августе 91-го удалось только лишь надломить преступную систему, то сейчас, в октябре 93-го, мы одержали окончательную победу!
Зал снова взорвался. Кто-то встал со своего места, продолжая аплодировать стоя. Следом поднялся ещё кто-то, потом ещё и ещё – грохочущая людская масса вдруг вздыбилась и ощетинилась.
– Господа! Господа! – воззвал ректор, вытянув перед собой руки вперёд ладонями. – Господа!
Аплодисменты постепенно стихли, все расселись по местам.
– Господа! Я предлагаю почтить память защитников российской демократии минутой молчания.
Зал, не сговариваясь, как по команде, дружно поднялся и замер.
– Ненавижу коммуняк! – услышал я у себя за спиной сдавленный женский голос и почему-то обрадовался.
Ничего я не понимал тогда. Я знал только, что демократия – это хорошо, а коммунизм – враньё, плохо. И радовался, что демократия победила, а «коммуняки» низложены. Мне жаль было тех погибших, о которых говорил ректор. Меня распирало от удовольствия и умиления, вызванных ощущением единства с каждым, кто был тогда в центральной аудитории и кто защищал где-то там демократию. Но вместе с тем, глубоко в сердце сидело ещё одно чувство, которое неприятно щекотало меня.
Это неприятное чувство потом не раз возвращалось ко мне. Заключалось оно в том, что я всегда безотчётно и безошибочно различал фальшь свою и чужую. Это чувство мучило меня: в глубине души я понимал, что довериться ему значило бы остаться в одиночестве. Ведь я немедленно оказался бы в оппозиции ко всему, что окружало меня. А я не хотел быть один.
Когда ректор наш заговорил о «худеньком пареньке с голубыми глазами», притащившимся будто бы из Сыктывкара в Москву «защищать демократию», я умилился вместе со всеми. Именно потому, что хотел быть вместе со всеми. Но, умилившись, тут же поморщился и от фальшивого пафоса рассказа, и от фальшивого своего умиления.
Уже гораздо позже я узнал, что же на самом деле произошло тогда на площади Свободной России. Узнал я и о раненной в ногу девочке, моей сверстнице, которую снайпер добил выстрелом в шею. Узнал я и о том, что внутренние стены Белого дома были сплошь забрызганы мозгами. Узнал, что изуродованные тела осаждённых увозили потом на грузовиках в неизвестном направлении. Узнал и о том, что разгромом Белого дома закончился ещё один период в жизни страны. Вскоре после тех событий, которые так развлекли меня и моих товарищей, в стране была запущена пресловутая приватизационная программа.
***
Вот уж исписал почти целую тетрадь, а только сообразил, что ещё не представился. Хотел было задним числом разместить в тексте свой имярек, но, не найдя подходящего эпизода и не имея ни малейшего желания переписывать всё с самого начала, решил представиться немедленно. Зовут меня Иннокентий Феотихтов. Фамилия моя, согласен, несколько странная. По правде сказать, я не знаю, что она значит. Но да мало ли на Руси странных фамилий. Это ещё Гоголь заметил. Мне рассказывали об одном человеке, фамилия которого была ни много – ни мало Шпрехензидейч. Называя себя, он каждый раз, точно оправдываясь, прибавлял: «Вот такая вот странная, в некотором роде даже немецкая фамилия»...
Теперь же, исправив свою ошибку и представившись, я со спокойной душой могу вернуться к своему рассказу.
Наверное, именно в то самое время, то есть когда я был уже третьекурсником, зародилась во мне моя теория. Очень скоро эта теория вызрела окончательно, определившись с целями и средствами. Произошло это под влиянием одного общества, в которое я попал совершенно случайно. Но об этом позже...
Сразу предупреждаю: не надо путать меня с небезызвестными литературными персонажами. Я вовсе не собирался убивать старушек и пускать их деньги на общее благо, тем более что мне не было никакого дела до общего блага. Я не собирался рядиться Наполеоном или Ротшильдом, уединяться и млеть втайне от сознания своего могущества. Нет, я уже говорил об этом и повторюсь: я не был одержим идеей, я хотел просто жить и быть свободным.
Помню, на занятиях по английскому языку нас как-то спросили, где бы, в каком уголке земного шара каждый из нас хотел бы поселиться. И вот первой вызвалась отвечать наша отличница.
Наверное, в каждом студенческом коллективе встречаются такие чудачки, что прочитывают и выучивают наизусть все учебники, забывают на время сессии про сон, а перед каждым экзаменом пытаются всех заверить, что ничегошеньки не знают. Заканчивают учёбу они, как правило, с красными дипломами, первыми среди подружек выходят замуж, первыми рожают детей и отдаются затем целиком домашнему хозяйству, благополучно забывая всё то, чему так тщательно выучивались.
– I would like to live in the USA, – объявила наша пятёрочница, – I love this wonderful country because of the freedom it bestows upon the people. Every person who comes to the USA can feel this great freedom just landing American soil. Even the air of America smells freedom. I love this free country, I love its free people, the Unated States is my favorite place on the Earth... [Я хотела бы жить в США. Я люблю эту прекрасную страну, потому что она одаривает людей свободой. Каждый, кто прибывает в США чувствует эту великую свободу, лишь только сойдя на Американскую землю. Даже воздух в Америке пахнет свободой. Я люблю эту свободную страну, я люблю её свободных людей, Соединённые Штаты моё любимое место на Земле... (англ.)]
Видели бы вы, как эта душка объяснялась в любви Американским Штатам! Ведь она разве что не плакала – до того сама себя растрогала.
Да и было от чего сбрендить. Наступало довольно странное время. Общество наше в очередной раз забилось в припадке какого-то истерического самобичевания, усмотрев в традиционных своих укладе и взглядах недопустимую отсталость и постыдное ретроградство. И даже всю родную историю заподозрили вдруг в оскорбительном для себя надувательстве. Одним словом, постановили снова перетряхнуть отеческие гробы и решительно всё подвергнуть ревизии. С этой целью и привезли к нам из заморских стран экстравагантные учения, пощупав и примерив которые, общество наше вдруг всколыхнулось в горячем порыве. Коммунизм или либерализм, или смерть! Вот такие примерно лозунги будоражили тогда умы. Во что бы то ни стало решено было доказать всему миру собственную восприимчивость к американской демократии. Правда, никто толком не знал, что это такое и почему нужно кому-то что-то доказывать. Но, прельстившись высокими заработными платами, обилием и доступностью товаров народного потребления, общество наше, как какое-нибудь стадо, понеслось вдруг галопом и, что закономерно, сорвалось в пропасть. Но это потом. А пока все только и делали, что говорили о свободе. Стоило включить телевизор или развернуть газету, как вас немедленно обволакивал флёр какой-то надрывной, припадочной радости по поводу наступившей будто бы свободы. Честно сказать, сначала я не понимал, что всё это значит. Я рос в самой обычной советской семье и понятия не имел о том, что несвободен. В нашей жизни хватало чудачеств – ну да где же их нет? Слышал я, что в одном из американских штатов закон запрещает ходить по улицам с лопатой. Ну и чем же, спрашиваю я вас, человек, не имеющий права ходить с лопатой, свободнее человека, не имеющего права спекулировать валютой? В любом нормальном обществе люди подчиняются законам этого общества. А законы, исходя из традиций и чаяний того или другого народа, могут сильно разниться.
Одна из современных писательниц возмущалась унижениями, какие довелось испытать ей в советское время, добиваясь разрешения на выезд за границу. Будто бы противные тётки с причёсками типа «вшивый домик» задавали ей самые глупые, самые оскорбительные вопросы. Сегодня нашей писательнице приходится частенько бывать в США – сбылась мечта. И вот мне интересно, неужели отпечатки пальцев в американском посольстве менее унизительны, чем все возможные бестактные вопросы советских комиссий? Эти комиссии опасались, как бы отъезжающие не опозорили державу. «Но разве Я могу опозорить?» – спрашивал себя каждый и обижался. А может быть, просто очень хотелось прикоснуться к тому миру вещей, что начинался за советской границей, и потому мешавшие тётки с «вшивыми домиками» не вызывали ничего кроме раздражения? Другое дело – отпечатки пальцев. Они нужны американским спецслужбам, чтобы лучше охранять права человека! Или что там ещё... Святое дело!
Но постепенно я не то, чтобы понял, а скорее почувствовал, что любые запреты, если и не отменены разом для всех, то могут быть отменены каждым для себя. То есть каждый человек отныне может делать ровным счётом всё, что ему хочется, и ничего ему за это не будет. Лёгкая, весёлая жизнь, когда никому ничего не должен, когда живёшь ради нехитрого удовольствия – вот мечта. Разумеется, если речь не идёт о преступлении. Законы, конечно, никто и не отменял, но как-то негласно отменили вдруг совесть.
Быть свободным оказалось заманчиво. Ведь свободный человек живёт, не отягощая себя запретами. Запреты – это стереотипы инертного сознания, это несовременно. И данные науки говорят совсем о другом. Наука доказала, что человек состоит из потребностей, которые приходится удовлетворять. Удовлетворение потребностей приносит с собой удовольствие. А удовольствие – главная составляющая жизни любого нормального человека. Запреты же отгораживают человека от удовольствия, другими словами, заставляют страдать. А зачем страдать, когда можно радоваться? На деле такая жизнь – пустота, но чтобы не произносить это страшное слово, звучащее приговором, её и называют свободой: «Живу так, потому что имею права и потому что свободен».
А теперь скажите. Что это за важнейшие удовольствия, запрещённые в СССР? Совершенно верно. Большие деньги и секс. Большие деньги дают множество удовольствий, секс – только одно. Вместе они, по-видимому, и представляют те самые кружку пива и два патрона, за которые мы так дружно и подло отдались бледнолицым друзьям с Запада.
Но сделка состоялась. И что же мы получили? Несколько человек получили большие деньги, все остальные – секс. Но выяснилось вдруг, что и сексу рады, что и секс большое достижение. Появилось даже выражение: «заниматься любовью». Я уверен, что его не было раньше. Заниматься можно спортом, иностранным языком или музыкой, то есть методически выполнять определённые действия с целью овладения мастерством или достижения желаемого результата. Но заниматься любовью – это то же самое, что заниматься равенством или братством. Оно бы и похоже, да уж мерзко очень – некрофилией попахивает.
Воображаю, что скажут господа фрейдисты в ответ на мои излияния! Впрочем, спешу разочаровать. Мне в удел, как и многим, достался секс. А я, как и многие, сексу обрадовался. Для себя я решил, что запретом или, лучше сказать, ограничением может быть только то, что не приносит мне удовольствия. Так, например, я не находил удовольствия заниматься этим не с женщиной и на виду. Поэтому я предпочитал уединяться с женщиной...
Но обо всём по порядку.
***
Первым моим институтским приятелем был Макс, человек неглупый и добрый, хотя и бесполезный. Ничего не любил он в своей жизни так сильно, как, по его же собственному выражению, «тусить». Для непосвящённых поясню, что «тусить» означает убивать особым способом время. Собственно, чтобы убить время ума или изобретательности не нужно. Достаточно просто не вставать с постели, плевать в потолок или не спускать глаз с телеэкрана. Тусить же – это совершенно иное. Тусовочное искусство заключается, прежде всего, в умении обмануть самого себя. Вам, например, кажется, что вы общаетесь. Увы! Искреннее общение в огромной компании ни у кого ещё не залаживалось. К тому же, если ваши компаньоны заняты целеустремлённым распитием крепких напитков или забиванием косяков, едва ли можно рассчитывать на приятную беседу.
Вам кажется, что вы свободны, вы просто опьянены тем, что совершаете самые невероятные, самые отчаянные и авантюрные поступки. Увы! Косяки, водка, пустословие и секс – такого сорта свобода очень скоро превращается в свою противоположность, обрушивая на ваши головы целый ушат неприятностей.
Вам кажется, что тусоваться – это клёво, что это прямо-таки неотъемлемая часть жизни современного молодого человека, что это так и надо и что, наконец, глядите вы молодцом. Увы! Глядите вы идиотом. И вовсе не оттого, что старшее поколение вас не понимает. Вы сами себя не понимаете. Чего стоит хотя бы ваш сленг, которым вы так гордитесь, и который слово в слово повторяет воровское арго.
Да, я никогда не любил этих тусовок, по которым носило Макса. Я не видел в них смысла, мне казались они атрибутикой стиля жизни и не более того. К тому же, меня откровенно пугала и отталкивала посредственность и слишком уж явная обезличенность их участников. Они не рассуждали, а точно играли спектакль, руководимый невидимым режиссёром. В зависимости от статуса, они говорили одни и те же слова, выполняли одни и те же действия. Им сказали: «Свобода – это вот что...» Они усвоили и стали кричать: «Мы свободны!» Им навязали состояние, особый образ жизни, кем-то иезуитски названный словом «свобода». Купившись, они проглотили обманку и очень скоро, незаметно для самих себя, приняли навязанное им толкование свободы за своё собственное.
Однажды они обрадовались возможности иметь собственное мнение и тот же час прочно усвоили чужое; захотели быть самими собой и немедленно нацепили на себя готовую униформу.
Помню, ещё в школе все мои товарищи были заядлыми меломанами. Не слушать никакой музыки считалось у нас чем-то неприличным. Предпочтения были самыми разнообразными. При этом любители рока, в особенности тяжёлого, изо всех сил презирали любителей популярной эстрадной музыки. Поэтому, чтобы не потерять уважение товарищей, приходилось довольно тщательно избирать любимых исполнителей. Мой друг, слывший поклонником группы «A-ha», как-то признался мне, что тайно и с удовольствием слушает песенки одной отечественной певички. Признаться в этом публично он не смел – его бы засмеяли.
Когда я понял, что мало просто слушать музыку, я решил выбрать себе любимых исполнителей, достойных уважения товарищей. Мне попались пластинки «Beatles» и «Rolling stones». Я внимательно прослушал их и решил, что это подойдёт. Основоположнички хоть и устарели немного, зато репутацию имели несокрушимую. Насмешники сами были бы осмеяны и уличены в невежестве. Так я решил заделаться поклонником «битлов» и «роллингов». Несколько песенок показались мне симпатичными, особенно после того, как я, чтобы войти в роль, прослушал их десятки раз подряд. Я стал собирать кассеты с записями, статьи, фотографии. Узнав о моём пристрастии, классная руководительница даже поручила мне провести классный час на тему «Английский музыкальный квартет „the Beatles“. И я целых сорок пять минут вещал перед своими одноклассниками о „знаменитой ливерпульской четвёрке“. Кое-кто хоть и ухмылялся со своего места, но возразить против моего утверждения, что „трудно переоценить значение творчества «Beatles“, ничего не мог.
Одним словом, я занял очень выгодную позицию. Только самое интересное заключалось в том, что к музыке вообще я относился довольно спокойно. То есть мне нравились разные песни и даже, например, ария Юродивого из оперы «Борис Годунов», но я не был меломаном в настоящем смысле этого слова. Мне даром не нужны были все эти кассеты, фотографии, статьи. Мне плевать было, о чём поётся в песне «Yellow submarine». Я совсем не хотел целыми днями слушать «любимую группу». Но я для чего-то делал вид, что меня всё это ужасно занимает и что я ни дня не могу прожить без «Yesterday». Иногда мне казалось, что и вокруг меня все также притворяются, изображая поклонников, кто «Deep Purple», кто «AC/DC», а кто ВИА «Неунывающие децибелы». Но кем-то раз и навсегда заведено: отрок обязан иметь музыкальные пристрастия. То есть вы можете интересоваться и увлекаться чем угодно, но не балдеть от какого-нибудь современного музыканта вы просто не имеете права. И когда я слушал, как мои товарищи рассказывают друг другу о какой-нибудь эдакой композиции, подражая голосом бас-гитаре или ударным, закрывая глаза, запрокидывая головы и размахивая руками, точно ударяя палочками по всем барабанам и тарелкам, мне отчего-то становилось стыдно...
Вот и теперь мне всё виделась фальшь, я не верил в их свободу, смотревшую каликой убогим. Главное, что меня всегда удивляло: у всех этих людей, называющих себя «свободными», вся свобода сводится, как правило, к самому банальному разврату. Как ещё употребить свою свободу они просто не знают, на большее они оказываются не способны. Творчество, сомнения, поиск не влекут их. Заявить свои права совокупляться как-нибудь наособицу – вот за это они готовы жизнь положить.
Всё это было не то. Всё это было мелко и не впечатляло меня. Мне хотелось чего-то великого, безграничного. Чего-то такого, что позволило бы мне подняться, воспарить и увидеть сверху эту шушеру, посвящающую жизнь мизерным радостям. Сам собой рисовался мне образ: взять бы посох да пойти по белу свету! Пусть всё катится, ничего не надо! Воды и хлеба кусок всегда раздобуду – не оставят люди добрые. Для ночлега постучусь в первый дом, пустят – заночую, а прогонят – отряхну прах от ног моих. И дальше отправлюсь. Я всегда видел себя на холме. У подола река распласталась, берега тут и там поросли кустарником. И вот иду я, а солнышко меня ласкает, травка ноги щекочет, птички на все голоса поют, запахи травяные да цветочные пьянят, в реке рыбка плещется, лесок в сторонке прохладой манит. А я иду себе, и ничего-то мне не нужно, ничего не боюсь я...
Но в то же самое время я, например, искренно верил, что стоит лишь перенять все западные чудачества – переженить между собой всех мужчин, раздать школьникам презервативы, признать права всех, кто только может их предъявить, – как немедленно сама собой возрастёт всеобщая покупательная способность, и все мы заживём припеваючи.
В отличие от меня, Макс не любил мудрований. Это был практик, ухитряющийся урывать у жизни одни только приятности. Детство своё он провёл взаперти – родители держали его в чёрном теле. Став же студентом и получив от родителей вольную, Макс точно с цепи сорвался, решив, очевидно, что пора навёрстывать упущенное. Из скромняги и тихони он в считанные месяцы превратился в бабника и гуляку. Стоит добавить, что в то же самое время родители его развелись, и каждый из них не замедлил обзавестись собственным семейством. И у Макса вдруг объявились отчим с мачехой. Ни с тем, ни с другой Макс, однако, делить кров не пожелал, отчего и перебрался к бабушке. Старушка жила совершенно одна в Земледельческом переулке. Против воссоединения с внуком она не возражала. И даже позволила Максу перекроить своё жилище. Так что из однокомнатной с просторной кухней и внушительной передней, квартира вскоре сделалась двухкомнатной. Кухня, правда, оказалась проходной, а передняя превратилась в тамбур, но бабушке и самому Максу всё очень нравилось. Старушка осталась в своей прежней комнате, Макс же устроился в новой. Сюда он перевёз диван, полки с книгами и пианино – получился уютнейший закуток. Но более всего другого Макса радовало, что в его комнату можно было попасть только из прихожей. Отгородившись от бабушки проходной поперечной кухней, Макс оказывался предоставленным самому себе и совершенно беспрепятственно мог входить в дом и выходить из дома в любое время суток и в любом сопровождении.
– Вчера на ЛСД у меня закидывались, – рассказывал он мне как-то утром, бледный и с тёмными кругами вокруг глаз. – Зря ты не пришёл... Прикинь, Гена припёрся с психфака... Пришёл бы, постебались бы над ним...
– Нет, Макс, отвали с наркотой...
– Я не про наркоту, я про Гену... К ЛСД, кстати, не привыкают... Хотя, знаешь, рассказывали тут ребята, один кадр после ЛСД захотел «в солнце войти»...
– И что?..
– Ну что... Рухнул с балкона, соскребали потом с асфальта...
Макс был годом меня старше. Случился же со мной на курсе он потому, что целый год провёл в академическом отпуске. Ещё на первом курсе он до беспамятства влюбился в одну англичанку, бравшую в нашем институте уроки русского. Звали англичанку Рэйчел, пожаловала она к нам из Лондона, и это, по моему всегдашнему убеждению, было единственным её достоинством, покорившим сердце Макса. Чехов в одном из своих ранних рассказов написал, что англичане произошли от мороженой рыбы. Так вот, представьте себе мороженую рыбу с длиннющими, спутанными, бесцветными волосами и в джонленноновских очках на носу. Вот вам портрет Рэйчел. Я не знаю, как можно сойти с ума от такой женщины. А между тем, Макс бросил учёбу, бросил бабушку, наскрёб где-то денег и отправился в Англию. Хотел ли он жениться и принять подданство британской короны, а может, просто рассчитывал хорошо провести время, но через год он вернулся домой в Земледельческий переулок и зажил прежней жизнью. О причинах, побудивших его вернуться на Родину, Макс никогда не рассказывал.
– А чего там делать-то? – пожимал он только плечами и неизменно прибавлял:
– Серое всё кругом, мрачное какое-то... Холодно, сыро всегда... В домах даже простыни сырые...
Но в остальных случаях Макс, подобно многим соотечественникам, побывавшим хоть раз в Европе, предпочитал нахваливать и порядок, и чистоту, и организацию быта в Лондоне. Он охотно делился впечатлениями о своей жизни в Британии и демонстрировал всем желающим фотографии из огромной пачки. Одну увеличенную фотографию Макс даже вставил в раму и повесил у себя в комнате над дверью. Со снимка улыбался довольный Макс, стоящий на носу какой-то лодки и держащий в руках красное ведро. За спиной у Макса громоздилась неуклюжая рубка. Посудина, которую Макс называл яхтой, служила ему жилищем в Лондоне. Макс уверял, что отлично устроился тогда в рубке, где он спал, готовил пищу и принимал вечерами Рэйчел. Кстати, это именно Рэйчел подыскала ему жильё, договорившись с хозяевами ботика о помесячной плате. Она же через своих знакомых помогла Максу устроиться на работу. Так Макс оказался мойщиком посуды в небольшом лондонском ресторанчике.
Ботик с Максом на борту был пришвартован почти под окнами Рэйчел, еженочь спускавшейся к нему для свиданий. Макс утверждал, что рубка как нельзя лучше подходила для этого дела. Потом Рэйчел возвращалась домой, и Макс оставался один. Ботик покачивался в водах Темзы, а в ненастную погоду рвался как цепная собака. Макс скучал, смотрел в иллюминатор, а иногда отправлялся бродить по Лондону. К себе Рэйчел приглашала Макса только на вечеринки. Кажется, у неё был друг или вроде того, о котором Макс узнал только по приезде в Лондон. В общем, по моему мнению, Макс ожидал совсем иного приёма, а потому, охладев довольно быстро к возлюбленной, возненавидев лондонский общепит и, наконец, утомившись качаться в своём ботике, он и вспомнил о доме. Чем, кстати, несказанно удивил Рэйчел, по искреннейшему убеждению которой, жить в Лондоне, пусть даже и в лодке, несравненно лучше, чем в Москве в собственной квартире.
Но расстались они ненадолго. Рэйчел, готовившаяся стать журналисткой, в скором времени сама явилась в Москву и, недолго думая, приняла приглашение Макса поселиться в его комнате. Днём она бегала по городу, собирая материал для разоблачительного репортажа, а ночью, по старой привычке, прекрасно чувствовала себя в постели у Макса. Репортаж, который она собиралась писать, был её заданием, чем-то вроде курсовой работы. Объектом её внимания стали бездомные животные Москвы. Материала оказалось довольно, и очень скоро репортаж был готов.
Если Российскую Империю называют в западной историографии «тюрьмой народов», то Москва в репортаже Рэйчел представала прямо-таки концентрационным лагерем собак и кошек. Из репортажа явствовало, что в Москве практикуются массовые истребления несчастных бродячих животных, из шкурок которых шьются потом знаменитые «russian fur-coats». [русские шубы (англ.)] В доказательство того, что сами москвичи участвуют в зверских насилиях и за деньги сдают шкурки животных, Рэйчел прилагала фотографии. На одной из них упирающегося терьера, вцепившегося мёртвой хваткой в собственный поводок, тянул, пытаясь сдвинуть с места, мальчик лет двенадцати. На другой – немолодая, грозного вида особа в меховом капоре держала за шкирку кошку, растопырившую лапы и раззявившую пасть. На третьей фотографии был какой-то вольер, огороженный металлической сеткой. И опершись передними лапами на эту сетку, грустно смотрел в объектив жёлтый безродный пёс.
Все фотографии были прекрасные, даже, можно сказать, высоко художественные. Но какое отношение все они имели к «russian fur-coats», мы с Максом так и не поняли, о чём и заявили Рэйчел. Но в убеждениях Рэйчел оказалась непоколебима. Мы пробовали протестовать и долго объясняли ей, что времена, когда из кошек делали белок на рабочий кредит, слава Богу, давно миновали. Рэйчел стояла на своём как скала. Со слезами в голосе она уверяла нас, что мы, возможно, и не такие, как «those people» [те люди (англ.)], что мы просто многого не понимаем и не догадываемся, в какой стране живём. Что ею всё проверено, что доказательств довольно и что никто никогда не убедит её в обратном.
Потом Рэйчел уехала в Англию и вскоре сообщила Максу, что репортаж её отмечен высоко и даже опубликован в какой-то студенческой газете. Потом она ещё и ещё приезжала в Москву, каждый раз пользуясь гостеприимством и безотказностью Макса. А Макс водил её по тусовкам, представляя как «моя girl-friend». И то, что «girl-friend» Макса была родом из Великобритании, прибавляло ему весу в любой компании. Оба они – и Макс, и Рэйчел – довольно скоро научились извлекать выгоду из знакомства друг с другом.
Когда Рэйчел уезжала, Макс немедленно забывал о ней. У него было такое множество знакомых, что скучать он просто не успевал. Макс жил полной жизнью. Он решительно задавался тогда целью посетить как можно большее число молодёжных сообществ Москвы. Он не пропускал ни одного нашего институтского сборища, побывал у панков, у байкеров, у каких-то гопников в Люблино, посещал иногда окололитературную тусовку никому не известных снобов, собиравшихся где-то на Плющихе вокруг внучатой племянницы Бориса Пастернака. Потом его занесло в сборную команду теософов и последователей Гурджиева. Это было настоящее эзотерическое общество, занимавшееся поисками личных мистических откровений. Правда, Максу, я уверен, не было дела до мистических откровений. Тусовка – вот, что опять же занимало его.
– Слушай, какие там люди! – говорил он мне, брызжа восторгом.
Кстати, если быть точным, говорил он «сиповые пиплы», но я намерен сразу давать перевод, а потому хочу предупредить, что вынужденно опускаю основной колорит Максовой лексики.
– Стэнли Кейзи, например, – восклицал Макс. – Настоящий американец. По-русски не говорит ни слова. Рассказывал вчера про типы тела. Вот ты... знаешь, кто ты?
– Ну кто?
Макс мерил меня взглядом и объявлял:
– Меркурий.