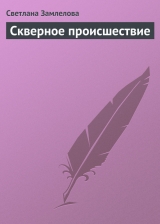
Текст книги "Скверное происшествие"
Автор книги: Светлана Замлелова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
А любопытно, что приход человека в мир бывает вызван самыми разнообразными причинами. Нередко дети появляются на свет случайно, просто потому что так уж вышло. А бывает, что рожают себе помощников и опору в старости. У таких родителей дети – своего рода капитал, предприятие, что-то вроде пенсионного фонда. Таких родителей не слишком волнуют чувства и мысли детей. Их идеал – оказаться под старость на содержании и полном довольствии у детей. К этому они идут всю жизнь, и велико их разочарование, если дети вырастают непутёвыми.
Бывает, рожают по необходимости. Ведь знала же я одну мать, интересующуюся антикварной мебелью. Рассуждала она примерно так: «А помру я, кому шкафы мои достанутся?.. А ломберный столик?.. С инкрустацией...» «Да мало ли... – смеялась я в ответ. – Вон хоть государству оставь». «Ну уж нет! – так и взвивалась она от негодования. – Ещё чего!» «Да ведь тебе тогда всё равно будет, кому бы они ни достались!» «Зато мне сейчас не всё равно!» – парировала она, уверенная в моей глупости. Эта особа родила дочку, чтобы завещать ей шкафы и ломберный столик.
Но самые смешные, по моему мнению, это те родители, что грезят продолжением рода. Сама мысль о том, что их род прервётся, кажется им нестерпимой. Точно важнее и лучше их рода нет ничего на свете, и если только он прекратится, человечество обеднеет и вздрогнет. До какой же нелепости доходит человек в своём самомнении!
Но в некоторых семьях рождение детей – истинная радость, потому что являются вдруг существа, требующие любви, подающие возможность любить, позволяющие от себя ради любви отречься. Это самые прекрасные семьи, в них вырастают гармоничные и здоровые личности...
Гармоничных личностей из нас с братом не получилось. Правда, у нас был дом, были родители, было множество родственников. Но семьи, настоящей семьи, у нас никогда не было.
* * *
Ещё совсем мальчиком, брат самым искренним и простодушным образом смеялся вместе со своими пересмешниками. Но в какой-то момент он как будто начал что-то понимать. Он перестал смеяться и, напротив, стал замыкаться в себе, превращаясь в какого-то дикаря. Насмешки он стал принимать болезненно. И сколько раз я замечала, что брат в одно и то же время тщится сорвать похвалу и почти мучительно для себя боится насмешек. Но чем более замкнутым и зажатым становился он дома, тем более развязным, шаловливым и непоседливым бывал во дворе и в школе. Развязность его была нарочитой, тяжёлой, навязчивой. Особенно это стало заметным в старших классах. Нельзя было сказать про брата «добрый малый» или «рубаха-парень», или ещё что-нибудь в этом роде. Уже тогда в нём появилось что-то злобное и высокомерное. Он по-прежнему производил вокруг себя много шуму, но не весёлого, легкомысленного шуму, за который так любят молодых людей. Скорее какого-то истерического, почти припадочного – без чувства меры. Становилось даже его страшно – а ну, как он края не знает? Ведь спрыгнул же он раз в подземный переход. То есть с самой высокой точки возьми да и прыгни вниз на лестницу. Да ещё за собой приглашал кого-то. Было бы ему не шестнадцать, а лет эдак десять-двенадцать, то, конечно, восхищение товарищей снискал бы. А так, раздражённое недоумение стало ему наградой. Неудивительно, что в старших классах появились у него неприятели, тяготившиеся общением с ним.
Из школы жаловались, говорили, что он мешает вести уроки, называли его «отпетым». Дома злились, негодовали, приписывали его выходки дурному нраву. Но никто никогда не пытался разобраться, что с ним происходит.
Брат всегда много читал. Подростком он полюбил читать о героях древности: об Александре Великом, о Цезаре, о Ганнибале. Более других нравился ему Александр, так что брат даже пытался подражать ему, переняв, например, его походку и манеру держать голову – как-то там Александр особенно держал голову. Узнав о том, что Александр знал на память всю «Илиаду», брат вознамерился во что бы то ни стало выучить её от корки до корки. Не знаю, удался ли ему этот замысел, но первое время он неизменно начинал своё утро с призыва к богине петь «про гнев Ахиллеса Пелеева сына». День за днём он продвигался всё дальше и дальше, и я с интересом узнавала, что этот проклятый гнев принёс ахейцам «страданий без счёта» и что виной всему был Агамемнон пространнодержавный, прогневивший сребролукого Аполлона, сына Лето и Зевса. Потом брат перестал декламировать по утрам, потому что однажды отец объявил, что устал слушать эту муть. И мне, чтобы узнать, к чему привёл ахейцев проклятый гнев Ахилла, пришлось самой засесть за «Илиаду»...
Тогда мне казалось, что брат мой, такой необыкновенный, такой интересный и непохожий на других мальчиков, которых я знала, подражает Александру Великому, чтобы и самому когда-нибудь сделаться кем-то вроде Александра Великого. Теперь же я думаю, что он, обделённый любовью и вниманием близких людей, бессознательно стремился научиться у великих завоевателей лишь одному – завоёвывать любовь и внимание.
Из детства, среди прочего, мне запомнились несколько эпизодов, которые могут показаться незначительными, неинтересными, смешными, но при воспоминании о которых, мне всякий раз бывает больно за брата и стыдно за отца. Раз, будучи лет семи или восьми, брат решил устроить домашний кукольный театр. Расставив в несколько рядов стулья и рассадив зрителей, то есть меня, маму и отца, брат натянул простыню между двумя стульями, помещавшимися перед «залом». Вскоре над простынёю показались куклы: мышь, заяц, петух и ещё кто-то. Куклы двигались, разговаривали на разные голоса. Сюжет, однако, не прояснялся. И вот в самый разгар этого беспорядочного представления, отец вдруг поднялся со своего места и заявил, что вся эта чушь ему надоела, что он не намерен терять время и что если брату вздумалось устраивать спектакли, то пьесу следовало бы выбрать заранее, а не сочинять на ходу. С тем и ушёл. Куклы над простынёй тотчас затихли, а там и вовсе исчезли. Через секунду брат показался в «зале». Бледный, испуганный, он напряжённо и боязливо всматривался в нас с мамой, опасаясь, что и мы насмеёмся над ним. Какое-то время все мы молчали: маме, очевидно, было неловко за отца, я страшно рассердилась и думала, что отец совсем нас не любит. Но смеяться мы не собирались. Брат скоро уловил это и мало-помалу оживился.
– Не хотите, как хотите, – как можно развязнее произнёс он и попытался даже улыбнуться. С напускным равнодушием он принялся демонтировать свой театр. Но было видно, что спина его зажата, как после удара, лицо бледно, рот покривился, а глаза потуплены и слишком уж часто мигают.
Отец, кстати, отправился смотреть телевизор.
Другой эпизод, который напечатлелся мне в памяти, относится к более позднему времени, когда брат был уже подростком. Во дворе как-то затеялась игра. Брат, нарядившись старухой, под дружный хохот ребятни подходил к случайным во дворе прохожим – двор был проходной – и обращался с какими-то пустяками. Он так ловко имитировал старческую походку и голос, что никто не признавал в старухе мальчишку. Но отец, возвращавшийся тогда домой и оказавшийся вовлечённым в эту игру, только презрительно выслушал брата, которого, конечно, тут же признал. При всех он объявил, что брат бездельник и бездарь. И что если уж он берётся пародировать кого бы то ни было, следует тщательно готовиться, чтобы не молоть всякую ерунду и не злоупотреблять терпением и вежливостью людей. Брат хотел было отшутиться, сказав, что импровизирует. Но отец только поморщился, велел брату не болтать того, в чём он не смыслит, ещё раз назвал его бездарем и направился к подъезду. По дороге он оглянулся и спросил у совершенно потерявшегося брата, дома ли мама.
Веселье было расстроено, игра разрушена. Все вдруг законфузились, избегая смотреть друг на друга, и понемногу стали расходиться...
Я не помню, чтобы отец когда-нибудь хвалил нас с братом. Наши успехи он принимал сдержанно. Под видом беспристрастной критики, а то и справедливого развенчания отец всячески стремился доказать нам нашу посредственность и никчёмность. Отец точно видел в нас своих конкурентов и тешил себя нашей мнимой заурядностью. Могло показаться, что отцом руководит зависть. Признаюсь, я и сама до недавнего времени думала именно так. Но один, казалось бы, незначительный случай заставил меня переменить мнение об отце. Вот как было дело. Как-то в субботу года два тому назад мы вдвоём с отцом ехали на наших стареньких «Жигулях» на дачу. Был разгар лета. На улицах толпились люди, сновали машины, на Первомайском проспекте возле вещевого рынка образовалась даже пробка, туда-сюда пёстрыми вереницами тянулись свадьбы. И вот уже на выезде из города мы заметили, как два или три свадебных кортежа остановились у «противотанковых ежей». Несколько белых невест, чёрных женихов и целая толпа пёстрых гостей рассредоточились вокруг памятника и с усердием, точно уж ничего важнее и не предвидели, принялись позировать перед фото– и видеокамерами.
В нашем городе все новобрачные почитают прямо-таки своим долгом отправиться к «ежам» в день бракосочетания. Обряд этот занимает и возмущает меня одновременно. «Ежи» изображают собой те события, что прокатились по нашему краю огненным колесом уже тому полвека назад. И для чего к этим суровым и неказистым на вид конструкциям, напоминающим о тех, кто отвёл страшные дни, для чего к этим корягам, подле которых больше пристало молчать, для чего едут к ним весёлые свадьбы?
Да и вообще, признаться, я никогда не понимала, что означают эти матримониальные катания...
Помню, что-то в этом роде я и выразила тогда отцу.
– Это наши предки... – назидательно ответил отец, бросив беглый взгляд в окошко на памятник.
– Да при чём тут предки! – удивилась я.
Отец грустно усмехнулся.
– При чём тут предки... – повторил он с горечью. – Если у тебя нет уважения к предкам...
– Ах, Боже мой, – перебила я в нетерпении отца, – да есть у меня уважение к предкам. У меня нет доверия к этим церемониям. Едут туда, потому что так принято, потому что все ездят. Скажи им завтра, что стало модным ездить к песчаному карьеру, будут ездить к песчаному карьеру...
– Да-а, – протянул отец. – Наше поколение ещё помнит войну. Мы не воевали, но мы помним. Да и как забудешь?.. А молодое поколение не просто не знает, что такое война – эта война их уже не интересует...
– Ты только что говорил, что эти брачующиеся приезжают почтить память предков, а теперь говоришь, что забыли про войну...
– Молодым теперь нет до войны дела. Так, наверное, и должно быть...
– Речь у нас с тобой шла о предках и свадьбах, – напомнила я отцу.
– Предков нельзя забывать, – отец как будто обрадовался. – Вот ветеранов всё меньше и меньше, скоро совсем не останется. Потом наше поколение уйдёт. А когда мы вымрем, не останется никого, кто бы помнил войну, и о ней сразу забудут. Так заведено в мире: старики уходят, у молодых своя жизнь. Но предков нельзя забывать...
Отец говорил уверенно, как о чём-то давно для себя решённом. Про себя я решила покориться и молча слушала его. Мы давно выехали из города, «ежи» и свадьбы исчезли из виду, остались где-то далеко позади. Отец всё говорил об ужасе забвения, а я думала: «Как странно! Я только сказала ему про свадьбы...» И тут мне совершенно ясно вдруг сделалось, что отец вообще не слышит меня.
Поражённая внезапной догадкой, я подняла глаза на отца. Он продолжал говорить, и вид у него был чрезвычайно довольный. В тот момент отец раскрылся передо мной и стал совершенно мне понятен. Бывают такие состояния ума, когда что-то, точно какая-то завеса, приоткрывается, и внезапно приходит понимание самых сложных явлений жизни. Невозможно объяснить, как и почему это происходит, но в истинности открывшегося не сомневаешься. К тому же в прошлом и настоящем немедленно отыскиваются доказательства, и тогда недоумеваешь: как же раньше не понимал вещей простых и очевидных...
Отец был слишком увлечён собой, чтобы замечать и понимать кого-то ещё.
Помню, мы с братом принесли в дом котёнка. Это был пёстренький и необыкновенно пушистый котёнок с жалким огрызком вместо правого уха. Мы подобрали его возле школы. Он сидел на заснеженном газоне, жался от холода и осторожно оглядывал пробегавших туда-сюда ребят. Весь вид его выражал смирение и готовность принять на себя любые удары судьбы.
Родители, хоть и с неудовольствием, но позволили нам оставить найдёныша. Но каково же было наше горе, когда, вернувшись из летнего лагеря, мы узнали, что наш питомец исчез. «Убежал», – объяснили нам родители. Но это не успокоило нас. Долго ещё мы с братом бегали по улицам, спускались в подвалы, заглядывали на чердаки и с надеждой звали: «Филька...Филька...» Но Филька не отзывался. А потом я случайно услышала, как отец рассказывал историю о надоевшем ему котёнке Фильке.
– Надоел он мне, чёрт его дери! – смеялся отец. – Пока дети в лагере были, в лес его отнёс... Если не сожрали его там, может, жив ещё...
– А что дети, переживали? – спросила какая-то гостья.
– Да поплакали немного, поискали, а там и думать забыли, – отвечал отец. – Ничего... Переживут...
Если бы я не слышала этого собственными ушами, я бы никогда не поверила, что отец может так жестоко обойтись с нами.
А ведь отец любил повторять, что семья составляет смысл его жизни, что ради своей семьи он живёт. И в то же самое время он выказывал столько нечуткости, столько равнодушия к своей семье, что и к постороннему человеку было бы неприлично выказывать.
Казалось, он только играет роль любящего отца семейства. Решив для себя, что подобает любящему или строгому отцу, хорошему хозяину, преуспевающему человеку, отец изо всех сил старался соответствовать избранному образу. Смотря по ситуации, он подбирал себе роль, а дальше заставлял себя думать и чувствовать, как пристало его «герою».
Нас с братом он старался заставить быть такими детьми, какими в его представлении должны быть дети. Я совершенно уверена, что он не знал нас, он просто не умел видеть, что отличает нас с братом от других ребят. К тому же, отец просто не мог освоиться с мыслью, что породил отнюдь не глуповатых и заурядных детей. Он сомневался не в нас – в себе.
Отец сумел кое-чего достичь в жизни: стал неплохим и уважаемым специалистом, построил свой дом, вырастил двоих детей. Да ведь служил-то он всего-навсего на нашем местном заводишке. Домишко выстроил не где-нибудь, а в Упырёвске – городишке до того дрянном и маленьком, что и не на всякой карте-то его отыщешь. Детей вырастил – ну да что ж тут удивительного. Достижения эти представлялись ему недостаточными для того, чтобы считаться человеком преуспевающим – я сама сколько раз слышала, как он называл себя неудачником.
Конечно, я нисколько не сомневаюсь, что отец любил нас и желал нам добра, но добро это в его представлении имело какой-то искажённый, уродливый контур – он не понимал, что нам может быть хорошо как-то иначе, нежели это представлялось ему. Когда нам с братом попеременно пришла пора определять дальнейшую свою судьбу, отец принял в этом активное и искреннее участие. Любые творческие профессии он отбросил без рассуждений, разъяснив, что претендовать нам не на что. Приметив во мне интерес к истории, выражавшийся в увлечённости историческими романами, он определил меня как будущего учителя истории. Отец долго и с большим чувством говорил мне, как это трудно, но вместе с тем почётно быть учителем истории – приоткрывать детям завесу прошлого, внушать уважение к предкам и любовь к Отечеству. На все мои возражения он только спросил насмешливо: «Ну и кем же ты хочешь быть?» Уже в одном только тоне, каким отец умел задавать свои вопросы, было столько иронии, столько высокомерия, что я побоялась и рта раскрыть. И, покорная, повезла документы в областной педагогический институт. А между тем, я давно уже мечтала попробоваться в театральный. Я даже подготовила к экзамену монолог Скупого рыцаря. Знаю, что это не женская роль. Но, признаюсь, это был один из моих любимых отрывков, особенно в исполнении Черкасова...
Но в то время я предпочла бы как угодно исковеркать свою судьбу, только бы не слышать насмешек отца, только бы заслужить его одобрение и спокойное, внимательное участие в моей судьбе.
Когда подошёл черёд брата, отец вознамерился отправить его по своим стопам. Но брат заявил, что хотел бы учиться в Москве в институте иностранных языков. Отец только очень удивился, но, как ни странно, препятствовать брату не стал.
– Ну-у!.. Это ты замахнулся... – только и сказал он брату в каком-то не то смущении, не то недоумении. Думаю, отцу было приятно, что брат так хорошо усвоил его завет насчёт иностранного языка.
Но на вступительном экзамене по языку брат с треском провалился. Хоть он и был первым учеником в классе, знаний его, в объёме школьной программы, попросту не хватило. Вступительная комиссия предложила ему приехать на следующий год. Брат с позором вернулся в Упырёвск.
Наши торжествовали. Никто не поддержал и не ободрил его. С ним избегали говорить, только поглядывали с любопытством, точно спрашивая: «Ну что, столичный студент?» Если уж они начинали клевать брата, то делали это сообща. Все они радовались возможности обрушиться на него.
Отец был совершенно разочарован. На этот раз он не смеялся и не трунил над братом, но обращался с ним так снисходительно, так свысока, что не оставалось сомнений: брат окончательно потерял во мнении отца. Всем своим видом отец показывал, что нисколько не сомневался в таком исходе, но, поддавшись слабости или чувствительности, только напрасно понадеялся на брата.
Брат, нуждавшийся в поддержке и добром слове, был раздавлен. Он чувствовал, что упустил что-то очень существенное, может быть, даже более существенное, чем высшее образование и учёба.
Пока брат готовился повторить попытку, намериваясь на другой год снова держать экзамен, в семействе нашем смаковались разговоры о его неудачах. Вокруг вздыхали и сентенциозно повторяли: «Ну что ж... Такой человек...» Тётя Амалия взялась даже разложить карты насчёт дальнейшей его судьбы. И вскоре она сообщила остальным родственникам, что ничего хорошего в этой судьбе не увидела. Но, вопреки ожиданиям, брат поступил в институт. Тот же час тётя Амалия, имевшая, кстати, своей склонностью мистицизм, оповестила весь город, что в этом поступлении не обошлось без её чудесного вмешательства. И что если бы не она с картами, приворотами и наговорами, не видать брату учёбы как ушей своих.
* * *
Брат уехал учиться. Но едва только о нём стали забывать, как в наш город явилась тётя Эмилия. Та самая бездетная наша тётка, старшая из маминых сестёр, что была замужем за каким-то чиновником в Москве. Кажется, это был чиновник от культуры. Пожаловав в Упырёвск, тётя Эмилия обосновалась в доме у тёти Амалии и с тех пор никуда из города не выезжала. Тётя Амалия одна занимала половину старого, но довольно большого одноэтажного деревянного дома по улице Урицкого. Давно уже облупившийся голубенький домик помещается прямо возле Крестовоздвиженской церкви – одной из немногих уцелевших церквей нашего города, недавно возрождённой и тоже выкрашенной в голубое. Прежде в церкви был клуб, и выходными тётя Амалия изнемогала от грохота музыки и сквернословного потока, который изливали на улицу шнырявшие туда-сюда подвыпившие весельчаки. Потом, когда в церкви начались восстановительные работы, тётя Амалия жаловалась на строительный шум, прерывавшийся только на ночь. Теперь же тётю Амалию донимает колокол, трезвонящий, по её словам, день-деньской.
На половину тёти Амалии приходятся три светлые и просторные комнаты с прихожей и кухней. Обстановка у тёти Амалии небогатая, но вполне добротная, в духе шестидесятых годов минувшего столетия: низкие полированные шкафы, столы и столики на растопыренных тонких ножках, всюду – на полах и стенах – красные ковры с диковинными узорами; массивные, тяжёлые люстры из металла, призванного напоминать бронзу; небольшая библиотека из подписных изданий с пёстрыми корешками и множество цветов в блестящих коричневых горшках.
Тётю Эмилию хозяйка разместила в комнате с книжными полками, посчитав, очевидно, что обстановка и атмосфера комнаты наиболее подойдут новой жилице. Почему тётя Эмилия вернулась в Упырёвск и куда делся её муж-чиновник, я не знаю. Прежде это был очень влиятельный человек, но к тому времени, о котором идёт речь, в стране уже произошли известные перемены, и новая власть как-то потеснила его. Слышала я, что он утратил своё былое влияние, но что с ним случилось дальше и почему тётя Эмилия уехала из Москвы одна – об этом у нас не принято было говорить. И всякий раз, когда я пыталась разузнать что-нибудь у мамы, она только резко обрывала меня, напоминая, что это не моё дело. Такая таинственность объяснялась, прежде всего, тем, что тётя Эмилия в среде нашего семейства была человеком особенным.
Мало того, что это была столичная, прогрессивная штучка, за время своей службы под началом супруга тётя Эмилия успела свести знакомства с довольно заметными личностями, известными нам только из газет. Появляясь, бывало, в Упырёвске, тётя Эмилия обрушивала на наши головы десятки пикантных историй о своих именитых знакомых. Тёте Эмилии были известны их настоящие фамилии, подпольные источники доходов, скрытые от всеобщих глаз пороки и многое другое, о чём не всегда можно узнать даже из «жёлтой» прессы. Тётя Эмилия казалась нам небожительницей, обладательницей тайного знания. Никто даже позволить себе не мог усомниться в её словах. И конечно, тётя Эмилия не могла отказать себе в удовольствии немножко побахвалиться и пофанфаронить перед своими жалкими родственниками. Но, кроме того, тётя Эмилия слыла у нас за человека незаурядной образованности. Она непринуждённо цитировала Пастернака, с изящною небрежностью ссылалась на Блока, иногда даже бросалась французскими словечками. Всё это приводило семейство наше в восторг. На самом же деле тётя Эмилия принадлежала к тому типу людей, которые, уважая образованность, талантливость и учёность, всю жизнь стремятся им приобщиться. Но избирают для этого окольные пути, вооружаясь вместо знаний красивыми обрывками на чуждых языках, десятком заученных строф и фактами из прославленных биографий. Нашпиговавшись подобными пустяками, они совершенно успокаиваются и обретают ту завидную самоуверенность, которая позволяет им комфортно чувствовать себя в любой компании. Случается, что они так искренно и простодушно начинают верить в собственную учёность, что и в характере их проглядывают вдруг новые черты. Откуда ни возьмись являются апломб, презрение к тем, кто не так блестяще образован, уверенность в своей непогрешимости и праве поучать.
Тётя Эмилия, перебравшись в Упырёвск, сделалась у нас проводником истины. Только от неё можно было узнать всё самое свежее и достоверное. Растеряв прежние знакомства и связи, тётя Эмилия не пожелала лишиться права первой сообщать интересные и важные новости, а равно и разъяснять, как к ним следует относиться. Это привело её вскоре к тому, что она начала пересказывать нам обыкновенные газетные сплетни, не ссылаясь, однако, на газеты, но намекая, что информация почерпнута ею из первоисточника. Сродники наши, привыкшие верить тёте Эмилии как себе, не замечали подвоха, и за тётей Эмилией навсегда закрепилась репутация посвящённой. То, что говорила тётя Эмилия, было и не ново, и не оригинально, и не всегда даже правда. Зато в слушателях её велико было желание знать от верного человека, как же оно всё там на самом деле. Не так как пишут в газетах – обманывают народ – а взаправду.
С некоторых пор тон её рассказов сделался неизменным. Ей вдруг понравилось пугать. Внушая своим слушателям какой-то неопределённый, почти мистический ужас перед неотвратимым концом и крахом, перед грядущими всенародными бедствиями, неизбежными морами и войнами, она как будто испытывала удовлетворение. Казалось, тётя Эмилия так жалела об ушедшем времени, так ненавидела потеснившую её новую власть, при дворе у которой ей не нашлось места, что подмечать изъяны и промахи этой власти сделалось её потребностью и доставляло ей сущее удовольствие.
И вот, теснимая новой властью, утратившая влияние, упустившая интерес к себе со стороны прежних знакомых, тётя Эмилия просто не смогла больше жить в столице. Она, по-видимому, смекнула, что уж если не в столичных кружках то, во всяком случае, в Упырёвске она сумеет играть первую скрипку. Точно Цезарь, предпочитавший оставаться первым в деревне, чем вторым в Риме, тётя Эмилия предпочла отныне верховодить на нашем скромном собрании. И в скором времени тётя Эмилия так освоилась, что любоначалие её стало принимать крайние формы. Над всем семейством нашим тётя Эмилия добилась беспримерного влияния, так что даже тётя Амалия считала для себя приятной необходимостью спрашиваться у неё и следовать её указаниям.
Как это получалось? Думаю, что наши обрадовались появлению тёти Эмилии. Тётя Эмилия привезла с собой убеждения, и нашим понравилось держаться всем вместе за одну соломину. Тётя Эмилия жаждала поучать и наставлять. А наши не возражали, чтобы кто-нибудь наставил и научил их. Но главное, тётей Эмилией гордились.
Я давно заметила, что огромному числу людей во что бы то ни стало потребно хоть чем-нибудь гордиться, иметь хоть что-нибудь, что бы отличало их от собратьев. Это своего рода пропуск в человеческую компанию, гарантия того, что не выставят, что в любой момент можно будет постоять за себя и кого угодно на место поставить, только намекнув на свои исключительные особенности. И выходит, что необходимо над собратьями возвыситься, чтобы с ними же в один ряд встать. Для этой цели кому-то нужны достижения посерьёзней, но кому-то вполне довольно жить в особенном месте – в Москве, например, – состоять в родстве или хотя бы в знакомстве с особенными людьми, а то и просто квартировать окнами на особенную улицу. Не имея ничего из подобной чепухи, такие люди теряются и чувствуют себя совершенными страдальцами. Отыскав же в себе подобного рода свойство, утолив тщеславный голод, они добреют, делаясь необыкновенно ласковыми, любезными и даже терпимыми. Но стоит взалкать тщеславию – и не найти людей более завистливых и злобных.
У большинства из наших не было ни отличительных талантов, ни выдающихся достижений. Зато была тётя Эмилия. Одна на всех. А тёте Эмилии того только и надо было. Она ничего не искала и не требовала для себя, кроме одного: почитания и признания превосходства над всеми нами.
Возражений тётя Эмилия не принимала. С некоторых пор её даже стало забавлять, если кто-нибудь пытался возражать ей. Помню, речь зашла об одном довольно известном фильме, который тётя Эмилия одобрила.
Ведь тётя Эмилия предлагала нашему вниманию не только политические или светские новости, она взялась разъяснять нам, какая зубная паста лучше чистит, какой шоколад вкуснее и какой телесериал «можно смотреть».
– Это замечательно саэршенна, – говорила тётя Эмилия нараспев, прищуривая, как будто от удовольствия, глаза. – Сыграно замечательно саэршенна...
При необоримом желании первенствовать и назидать, тётя Эмилия зачастую мало, что могла сообщить. Суть её высказываний в таких случаях залегала в интонациях и тех разнообразных выражениях, которые она поминутно придавала своему лицу. Ещё это многозначное слово – «совершенно». Тётя Эмилия обожала его и ввинчивала на каждом шагу. Произносила она его с лёгкой небрежностью: «саэршенна». И одно это умело выговоренное слово, распространяло вокруг тёти Эмилии такой богемный флёр, что никто из наших никогда бы не решился сказать «саэршенна». Думаю, это вышло бы даже смешно...
– Да. Это, конечно, замечательно саэршенна...
Наши, точно соревнуясь друг с другом, немедленно принялись нахваливать картину.
– Шикарный фильм!..
– Просто супер!..
– Да-а, это... действительно!
– Главное, акценты стоят правильно...
– А мне не нравится, – вмешался вдруг брат. – Режиссёр этот снял несколько отличных фильмов, а потом, по-моему, понесло его куда-то... Смотришь и не понимаешь: для чего всё это? Зачем все эти предметы, зачем истерика у женщины – что за галлюцинации?..
Речь шла об одном довольно известном фильме. В кино есть множество жанров: мелодрама, детектив, комедия. Но есть жанр, который я назвала бы «непонятно, но здорово». В такого рода кинокартинах обыкновенно кто-то появляется, затем исчезает безвозвратно, клубится туман, трещит пожар, какие-то вещи проплывают в ручье.
Главная мысль, несмотря на то, что тщательнейшим образом завуалирована, обычно понятна и заметна вполглаза. По глубине и новизне, как правило, она ничего не стоит. Но зато дорогого стоит сама вуаль, заставляющая на протяжении всей картины сомневаться в себе и действительно подозревать создателей в гениальности. Но на последнем кадре сомнения тают, и хочется сказать: «Стоило огород городить»...
Но тётя Эмилия ни за что бы так не сказала. За всё время своей столичной жизни она отлично научилась распознавать, что именно следует ей хвалить, а что – ругать. Даже новинки, ещё не заслужившие ни похвалы, ни порицания общественности, тётя Эмилия оценивала безошибочно. И конечно, она только доводила до нашего сведения, не сомневаясь при этом, что делает благо.
Брат был единственным, кто смел возражать ей. И возражения брата всегда так удивляли тётю Эмилию, что она не сразу находилась с ответом и только молча, широко распахнув глаза, принималась разглядывать его.
– ...Простота, изящество и ясность – вот, по-моему, основной принцип настоящего искусства, – продолжал брат. – А тут ведь поневоле скажешь: «Не верю!»...
Господи! Да разве гордым умам нужна простота? Нет, им подавай абракадабру: абракадабра льстит гордецам. Гордецы тешат себя, разбирая несложные путаницы. Простоту они презирают, потому что ищут не истины, но удовольствия. А излюбленное удовольствие людей, получивших зачатки образования – упражняться в мыслеблудии. Ведь любая, самая несносная абракадабра может претендовать на скрытый смысл, постижение коего равняет со Спинозой. А и нужно-то всего: научиться читать между строк да разгадывать причудливые аллегории. И готово дело: вы уже в числе избранных, вы – интеллектуал. А это, знаете ли, всё равно, что в тайное общество записаться: поглядываешь вокруг и млеешь от собственного превосходства. Вот потому-то мало-мальски образованная публика, склонная утверждать себя через мыслеблудие, всегда так расположена к абстрактному в искусстве.
К тому же сегодня подобного рода произведения искусства окружены ореолом мученичества в виде запретов к обнародованию в былые, тиранические времена, резкой оценки критики, непризнания за творцом очевидной гениальности и т. п. Всё это возбуждает к ним особенную, трепетно-ревностную, доходящую иногда до поклонения, любовь со стороны иных интеллектуалов, а более интеллектуалок. Нипочём не согласятся они, что художества эти запрещались зачастую вовсе не потому, что угрожали государственному порядку и строю, а потому что возбуждали в цензорах недоумение...




