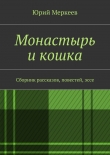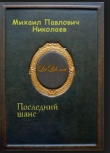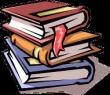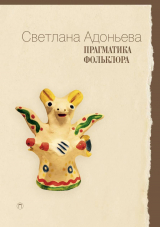
Текст книги "Прагматика фольклора"
Автор книги: Светлана Адоньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Светлана Адоньева
Прагматика фольклора
Svetlana Adonyeva
Pragmatics of folklore
This book is an academic research of folklore as a special form of speech by which definite order of life is assumed and retained. It is based on incantations and magical practices, lamentations and funeral practices, ditties, recorded during folklore fieldwork expeditions from 1980s to the beginning of 2000-ies in Vologodskaya oblast.
© Адоньева С. Б., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии», 2018
Введение
Имеющиеся на сегодняшний день в распоряжении фольклористов описания фольклора в большинстве своем основываются на определении фольклора как особой формы творчества: «Советская наука под фольклором понимает обычно не все народное искусство, а только словесное, устное поэтическое художественное творчество, для которого употребляет термин „фольклор“ без определения „словесный“»[1]1
Русское народное поэтическое творчество//Учеб, пособие для филол. ф-тов пед. ин-тов. М., 1971. С. 5. Такое определение сохраняется и в более поздних учебных изданиях.
[Закрыть]. Наиболее близким к фольклору феноменом, использующим тот же материал (язык), является литература. Современная классификация фольклора базируется на принципах, заданных еще Аристотелем: фольклорные жанры группируются в виды, последние – в роды, по аналогии с литературными родами. Основой для такой классификации служит определение творчества в качестве родового понятия по отношению к фольклору[2]2
Критический обзор литературоведческих подходов в отечественной фольклористике см. в: Путилов Б. М. Фольклор и народная культура. СПб., 1994. С. 4–14.
[Закрыть]. Вместе с тем вряд ли кто усомнится, что значительная часть фольклора является творчеством не в большей мере, чем любая другая человеческая деятельность. Направление фольклорного действия противоположно направлению действия творческого: творить – значит создавать новое, в то время как фольклор ориентирован на старое, на канон, на поддержание традиции[3]3
Спеть песню, построить забор, соткать полотно – все это действия, направленные на создание новых вещей, но по известным технологиям. Творчество в традиционной культуре может быть определено как творчество в пределах известной технологии (или мастерство).
[Закрыть].
Представляется в большей степени соответствующим природе явления признать родовым понятием по отношению к вербальному фольклору не творчество, но речь, точнее – речевую деятельность. Фольклорное произведение может не быть творческим актом, но не быть актом речевым оно не может. В данном случае мы не утверждаем ничего нового. Общим для фольклористики является представление о том, что фольклорное произведение в реальном своем бытовании есть не только текст, но также высказывание, или речевой акт, который наряду с текстом предполагает наличие говорящего, слушателя и их взаимодействие по поводу данного речевого события.
Определение нашего предмета может звучать следующим образом: фольклор есть особая форма устной речи[4]4
См.: Чистов К. В. Устная речь и проблемы фольклора//История, культура, этнография и фольклор славянских народов / X междунар. съезд славистов. М., 1988. С. 326–340; Артеменко Е. Б. Структура фольклорного текста в ее отношении к языку и речи//Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. С. 95–107.
[Закрыть]. Но как охарактеризовать эту особенность, в чем специфика фольклора по отношению к общему полю устной речи? К. В. Чистов предлагал рассматривать фольклор в качестве одной из форм устной речи, формы, которая в своих наиболее развитых жанрах не является спонтанной[5]5
Чистов К. В. Указ. соч.
[Закрыть].
Исследователи, занимающиеся анализом устной речи, определяют следующие ее характеристики: неподготовленность речевого акта; неофициальный характер общения; устность; спонтанный характер протекания диалога; персональный характер общения[6]6
Русская разговорная речь. М., 1973.
[Закрыть].
Дополняя характеристики, предложенные Е. А. Земской, Б. М. Гаспаров выделяет также факторы, связанные с визуальным каналом передачи информации: кинетический (характеризующий перемещение говорящего относительно слушающего); спациальный (определяющий расстояние между различными точками тела говорящего и слушающего); тактильный, парафонический[7]7
Гаспаров Б. М. Устная речь как семиотический объект//Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1978. Т. 442. С. 63–87.
[Закрыть].
Нетрудно заметить, что все выделенные факторы, за исключением устности, не охватывают фольклорную речь в целом. Так, определение официального или неофициального статуса речевого события для фольклорной речи скорее составит проблему анализа, нежели его исходную точку; то же можно сказать и относительно характеристики подготовленности/ неподготовленности[8]8
Чистов К. В. Указ. соч. С. 332–333.
[Закрыть]. Установка на персональное или публичное общение будет характеризовать различные формы фольклора.
Факторы, отмеченные Гаспаровым, специфицируют устную речь по отношению к речи письменной и, несомненно, важны для определения типов устной речи, как фольклорной, так и нефольклорной. Но они не позволяют выделить интересующую нас область из общего поля устной речи, что заставляет определить особый показатель, который разграничивал бы устную спонтанную и фольклорную речь принципиально.
В качестве такого показателя мы примем признак, сформулированный П. Г. Богатыревым и Р. О. Якобсоном, а именно «установка на традицию»[9]9
Богатырев П. Г., Якобсон Р. О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев Я. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 369–383.
[Закрыть], – ввиду того, что этот показатель характеризует специфику фольклорной речи функционально[10]10
Типологическим отношениям фольклора и устной речи уделялось достаточно много внимания. См., например: Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993; Чистов К. В. Указ. соч.; Bartmiński J. O języku folkloru. Wrocław, 1973.
[Закрыть]. На формальном уровне этот признак проявляется в повышенной, по сравнению со спонтанной устной речью, стереотипности фольклорных высказываний, или их урегулированности, как определил это качество фольклорной речи К. В. Чистов[11]11
Чистов К. В. Указ. соч. С. 339.
[Закрыть].
Стереотипность охватывает все уровни фольклорного текста – от просодики до синтаксиса. На уровне интонации она проявляется в ориентации на повторы ритма, на уровне лексики – на устойчивость тропов, на уровне синтаксиса – на воспроизведение ограниченного количества конструкций и т. п.[12]12
С. Ю. Неклюдов связывает упорядоченность фольклорной речи, дополнительную по отношению к разговорной, со стремлением этого типа речи к расподоблению с речью профанной (см.: Неклюдов С. Ю. Живая речь и язык фольклора // Славянская этнолингвистика и проблемы изучения традиционной народной культуры. Материалы междунар. конф. к 80-летию со дня рождения акад. Н. И. Толстого. М., 2003).
[Закрыть]. По данному параметру фольклорное явление оказывается в одном классе с другими создаваемыми человеком культурными формами – орудиями, социальным поведением, постройками, воспроизведение которых с течением времени сохраняется в рамках неизменной технологии. Эти формы представляют собой набор технологий, наиболее устойчивых к энтропийным процессам, и, следовательно, наиболее затратных в энергетическом смысле. Сказанное предполагает, в свою очередь, тот факт, что для социума сохранение этих технологий является жизненно важной задачей.
Смена технологий – изменение общественной практики, какой бы ее части это ни касалось, – своим следствием всегда имеет социальную реорганизацию[13]13
Мы приводим этот тезис без аргументации, ограничиваясь ссылкой на общественные науки, в которых на протяжении последних 150 лет – от К. Маркса до П. Сорокина, П. Бурдье и М. Фуко – социальные отношения определяются в зависимости от типа практики.
[Закрыть]. Если это так, то верным должен быть и обратный тезис – сохранение технологий без изменения есть способ консервации социальных отношений. Воспроизведение, ориентированное на канон, контролируемое обществом с точки зрения допустимых новаций, есть проявление традиции. Традиция являет себя в самых разных сферах практики, и практика речевых актов, регулируемых традицией, – одна из них[14]14
О связи технологического переворота с формой социальной организации в связи с историей греческой культуры см. в: Зайцев А. И Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. СПб., 2001.
[Закрыть]. В этом отношении фольклор представляет собой особый социальный институт управления человеческим поведением.
Специфика фольклорной речи состоит в том, что она организована в соответствии с определенными принципами, задаваемыми традицией. Соблюдение этих принципов является жизненно важным условием воспроизведения социума во времени, поскольку традиция речевых практик, практик коммуникации, напрямую связана с закреплением определенных социальных отношений.
Стереотипность фольклорной речи, проявляющаяся в каждом конкретном речевом акте в виде его дополнительной по отношению к спонтанной речи упорядоченности (интонационно-ритмической, лексической, синтаксической, тематической), есть внешняя форма проявления этого социального механизма. Его внутренняя форма, императив, наделенный облигаторной силой, есть традиция.
Такое определение фольклора никак не отменяет категории жанра. Речевая деятельность представляет собой не непрерывный речевой поток, но совокупность отдельных речевых актов. Имея определенное речевое намерение, человек реализует его посредством того набора языковых инструментов, который обычно используется в аналогичных ситуациях. Совокупность принципов, позволяющих в заданной ситуации строить высказывания определенного типа (т. е. социальная технология речи), и может быть названа жанром. В данном случае мы лишь повторяем одно из определений, данных фольклорному жанру Б. Н. Путиловым[15]15
Народные знания. Фольклор. Народное искусство (Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 4). М., 1991. С. 36.
[Закрыть].
В чем же тогда состоит различие между фольклорными жанрами и жанрами речевыми? Для лингвистических словарей они неразличимы: словарные статьи, описывающие диалектные слова, не учитывают различий спонтанных и фольклорных контекстов[16]16
Например, лексема «дроля», описанная в словарях как диалектная, имеет функциональные ограничения. Это лексема частушечного речевого регистра, в спонтанной речи имеющая синонимы «ухажер», «любушка» и проч. (см.: Словарь русских народных говоров. Вып. 8. СПб., 1972. С. 198–199; Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 10. СПб., 1994. С. 6–7).
[Закрыть]. С позиции говорящего такое различие, безусловно, есть: мы принципиально иначе относимся к своим и чужим словам (высказываниям). «Каждый говорящий прекрасно понимает, – писал Р. Якобсон, – что любая пословица, которую он употребляет, – это речь, цитируемая внутри речи, и часто использует голосовые средства для того, чтобы эти цитаты выделить. Они воспроизводятся дословно, но отличаются от других цитат тем, что не имеют автора, к которому бы относились. Таким образом, в каждом, кто использует пословицы, развивается интуитивное чувство устной традиции, имеющее особую природу, и в своем дискурсе он обращается с этими готовыми формулами как со своей личной собственностью»[17]17
Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996. С. 97–98. То, что Якобсон отметил в отношении пословицы, может быть, на наш взгляд, в определенной степени распространено на фольклор в целом.
[Закрыть].
Например, предлагая «народную мудрость» в качестве резюме той или иной жизненной ситуации, мы ссылаемся на авторитетное суждение, но при этом не берем на себя ответственность за истинность этого суждения[18]18
О прагматике речевых клише см.: Николаева Т. М Загадка и пословица: Социальные функции и грамматика//Исследования в области балто-славянской культуры: Загадка как текст. Вып. 1. М., 1994. С. 154–155. Анонимность фольклорного высказывания как способ отказа от ответственности рассматривалась на примере частушки в традиционной культуре в сопоставлении с современным анекдотом (см.: Рюхина С. Б., Васильева О. В. Анекдот и частушка (словесный текст как способ поведения) // Учебный материал по теории литературы: Жанры словесного текста. Анекдот. Таллинн, 1989. С. 95–99).
[Закрыть] [19]19
Левин С. Прагматическое отклонение высказывания //Теория метафоры. М., 1990. С. 346.
[Закрыть].
Представляется, что различие между фольклорными и нефольклорными формами речи для носителей традиции лежит в значительной степени в области прагматики. В лингвистике прагматический аспект речи исследуется посредством выделения тех механизмов, которые связывают язык с контекстом его употребления. Контекст включает в себя говорящего, слушающего и внеязыковую обстановку общения. Наиболее значимыми для лингвистической прагматики областями служат речевые акты и индексные выражения. Главная мысль, лежащая в основе теории речевого акта, состоит в том, что, помимо собственно смысла, предложение может также совершать определенные действия: оно может утверждать нечто, спрашивать о чем-либо, приказывать, предупреждать, обещать и т. п.; все это суть акты, которые совершает говорящий, высказывая то или иное предложение. Индексное выражение – это такое выражение, смысл которого определяется контекстом; примерами индексных выражений могут служить личные местоимения, указательные местоимения, наречия времени и места, показатели глагольного времени и т. пА
Прагматический аспект языкового явления в качестве необходимого условия для исследования предполагает анализ ситуационного контекста, но невербальная природа контекста делает его непрозрачным для лингвистических методов описания[20]20
Это не означает, что лингвистика не создала своей традиции описания контекста речи. Этнолингвистические и социолингвистические исследования, ориентированные на прагматические аспекты языка, затрагивают и проблемы описания ситуационного контекста.
[Закрыть]. Изучение прагматики фольклора оказывается в этом отношении занятием достаточно перспективным, поскольку контекст фольклора уже достаточно долгое время является самостоятельным предметом фольклорно-этнографических исследований. Таким образом, у фольклористики в этом отношении есть определенные преимущества по сравнению с лингвистикой: она располагает и текстами, и в достаточной степени описанным наукой контекстом. Вместе с тем анализ прагматики фольклорного текста в значительной мере опирается на лингвистику, выработавшую на настоящий момент эффективный аппарат для подобных исследований. Описание функций фольклора, интерес к которым устойчиво сохраняется на протяжении всего времени существования фольклористики как науки, с привлечением методов лингвистической прагматики получает дополнительный инструментарий.
Определение специфики фольклорной речи и ее места в контексте социального взаимодействия может пролить свет на понимание смысла фольклорных высказываний, в отличие от семантики фольклорных произведений, привлекавшей всегда наибольшее внимание исследователей[21]21
Нельзя тем не менее не отметить, что семантическое исследование фольклора, с учетом прагматического аспекта, также получает дополнительные возможности, как это произошло в литературоведении с появлением интертекстуального метода анализа: «Интертекстуальный подход, далеко не сводясь к поискам непосредственных заимствований и аллюзий, открывает новый круг интересных возможностей. Среди них: сопоставление типологически сходных явлений (произведений, жанров, направлений) как вариаций на общие темы и структуры; выявлений глубинной (мифологической, психологической, социально-прагматической подоплеки анализируемых текстов)» (Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 8).
[Закрыть].
Единицами, образующими фольклорный жанр (в наиболее распространенном его значении – жанр как совокупность фольклорных произведений), оказываются, в случае принятия предложенного выше определения предмета исследования, уже не тексты, но речевые акты или, в традиции М. М. Бахтина, законченные высказывания как единицы речевого общения: «В отличие от значащих единиц языка – слова и предложения, – которые безличны, ничьи и никому не адресованы, высказывание имеет и автора (и, соответственно, экспрессию) и адресата… Кому адресовано высказывание, как говорящий ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на высказывание – от этого зависит и композиция и, в особенности, стиль высказывания. Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет свою концепцию адресата»[22]22
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
[Закрыть].
М. М. Бахтин выделяет два уровня специфики жанра – внешний и внутренний: «Произведение занимает определенное, предоставленное ему место в жизни своим реальным звуковым длящимся телом. Это тело расположено между людьми, определенным образом организованными»[23]23
Медведев П. М. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928.
[Закрыть]. Тело формы существенно определяет тему, характеризующую внутренний уровень специфики. Каждый жанр обладает своими способами видения действительности: «…существует действительность жанра и действительность, доступная жанру»[24]24
Там же. С. 290–291.
[Закрыть].
Нас будет интересовать действительность фольклорного жанра – его «длящееся тело», расположенное между людьми, не просто организованными, но, как мы постараемся показать, организуемыми им.
Разработка концепции речевого жанра в эстетических работах М. М. Бахтина имеет лингвистическую параллель в виде теории речевого акта[25]25
Остин Д. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17: Теория речевых актов. С. 22–129; Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
[Закрыть], лингвистической теории, основывающейся на акциональном характере речи. Вследствие этого подхода сформировалось представление о высказывании как о речеповеденческом акте, который одновременно включен и в контекст речи, и в контекст жизни: он ориентирует адресата и влияет на его действие[26]26
Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 14.
[Закрыть].
То, что является общей характеристикой речи, может быть отнесено и к одной из ее областей – речи фольклорной. Так, Б. Н. Путилов отмечал: «Фольклор выступает – в определенных условиях и обстоятельствах – равноценным участником прагматических действий, функционирующих социальных институтов, бытовых ситуаций»[27]27
Путилов Б. Н. Указ. соч. С. 50.
[Закрыть].
Важность подобного аспекта рассмотрения фольклора отмечена и в новейших теоретических работах по фольклору: «Фольклорные тексты… не только некие объекты „фольклорного дискурса“, но и те средства, благодаря которым реализуются социативные (контактоустанавливающие), эмотивные, волюнтативные, апеллятивные, репрезентативные и другие возможности речевого общения»[28]28
Богданов К. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 51.
[Закрыть]. Ссылаясь на исследования Д. Хаймса, К. Богданов далее отмечает, что клишированные формы коммуникации выступают в функции символического регулятора социальных связей и связываемых с ними поведенческих тактик[29]29
Там же. С. 53.
[Закрыть].
Вопрос о том, каким образом это происходит, требует привлечения дополнительных информационных ресурсов, позволяющих восстановить контекст фольклорного высказывания. «Социальные институты» и «бытовые ситуации», в которых «работает» фольклор, нуждаются в отдельном описании.
В заданной прагматической перспективе фольклорное высказывание (т. е. произведение фольклорного текста) будет рассматриваться в следующих аспектах:
1. В отношении к социальной ситуации, спровоцировавшей данное высказывание; к намерению говорящего, его базовым социальным характеристикам, а также к идеологическим и ментальным установкам, составляющим область пресуппозиции. К этому же аспекту относится рассмотрение целей, которые манифестирует говорящий в данном высказывании[30]30
«Под речеповеденческой целью мы имеем в виду не передачу информации, а задачу (или сверхзадачу), поставленную действием, направленным на другое лицо (или на других лиц) и предполагающим ответное действие – речевое, поведенческое или ментальное» (Человеческий фактор в языке. С. 47).
[Закрыть], а равно и способы их подмены в том случае, если высказывание используется в социальной игре. Последняя ситуация для фольклора в высшей степени характерна, в силу того что здесь прагматика закреплена за формой и известна до высказывания.
2. В отношении к сообщаемому в высказывании факту, а именно к характеру отношений между сообщаемым фактом и фактом сообщения (Якобсон) или «планом истории» и «планом речи» (Бенвенист).
3. В отношении к результатам данного высказывания (область перлокуции) или, в теории Бахтина, – к ответной реакции слушающего. Постановка вопроса о социальной эффективности фольклора представляется необходимой, поскольку в силу естественного отбора традицией закрепляются только те социальные инструменты, использование которых дает оптимальные результаты. Избираемый подход позволяет рассматривать фольклорные речевые акты с точки зрения качества их социального результата.
4. В отношении к используемым для создания данного высказывания языковым средствам; сюжетам и мотивам, стилистическим приемам и проч., т. е. к тому фонду возможностей, который предоставляют человеку культура и язык в качестве инструментов для здесь и сейчас осуществляемого строительства своей и общей жизни.
Мы будем рассматривать фольклор как особый семиотический аппарат, созданный для конструирования времени, пространства и социального взаимодействия в заданных традицией рамках. При этом предмет анализа будут составлять различные сферы практики, в которых этот аппарат используется.
Для того чтобы продемонстрировать эффективность избранного исследовательского ракурса, покажем на ряде примеров, что привносит определенный выше угол зрения в описание фольклорного феномена.
Одним из факторов, относящихся к первому из выделенных аспектов (говорящий / высказывание), является количественная характеристика говорящего. Все фольклорные жанры могут быть по этому принципу разделены на следующие группы: жанры, предполагающие только одного говорящего (к этой группе относятся заговоры, сказки, приговоры свадебного дружки, частушки, севернорусские былины и все формы фольклорной прозы); жанры, предполагающие только коллективного говорящего (к этой группе относятся традиционная лирика, обрядовые свадебные песни, весь календарный и игровой песенный фольклор); жанры, возможные в пределах одной традиции и как сольные и как хоровые (к этой группе относятся причитания, которые могут быть и сольными, и хоровыми в пределах локальной традиции, баллады и романсы, духовные стихи).
Примечательно то, что тексты, исполняемые группой, в наибольшей степени контролируются с точки зрения их правильности / неправильности – «из песни слова не выкинешь». В современной речевой практике существует не так много форм группового говорения, но их перечень заставляет особым образом отнестись к прагматике такого говорения.
За исключением профессиональных хоровых форм (эстрадных, театральных и проч.), современная русская речевая культура «знает» следующие формы «говорения» хором: хором прихожан произносится «Символ веры» и «Отче наш» во время Божественной литургии; хором поются застольные песни и песни компаний (туристических, студенческих и проч.); хором произносят текст военной присяги; и, наконец, зажжение новогодней елки в качестве обязательного условия требует хорового «Елочка, зажгись!»[31]31
Анализ идеологии совместного говорения как формы идентификации, формы подтверждения единства, «мы», был проведен О. Розенштоком-Хюсси: Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.
[Закрыть].
Этот ряд достаточно явно демонстрирует то, что совместное говорение имеет специфический социальный статус перформативного акта — высказывания, являющегося исполнением определенного действия[32]32
Остин Д. Избранное. М., 1999. С. 13–138.
[Закрыть].
Жанры коллективные и сольные принципиально различаются в отношении их информационной характеристики. Хоровые жанры представляют собой информационный парадокс: информация известна всем участникам коммуникации до начала коммуникативного акта. Можно предположить, что новым в таком высказывании является сам факт совместного говорения – социальный акт, подтверждающий общее знание общего текста.
Фольклорные жанры специфицируются в зависимости от того, как в них выстраиваются временные отношения между фактом, о котором сообщает высказывание, и фактом самого высказывания.
Общеизвестно, что обрядовая свадебная песня комментирует обрядовое действие; следовательно, можно считать, что описываемый в высказывании факт синхронен акту высказывания. При этом используются глагольные формы прошедшего времени несовершенного вида со значением длительности или процессуальности:
Отставала белая лебедушка
От стаду лебединого, от стаду лебединого.
Приставала лебедушка, приставала лебедушка,
Ко серым ко чужим гусям, ко серым ко чужим гусям[33]33
Адоньева С. Б. Белозерская свадьба // Белозерье: Краеведческий альманах. Вологда, 1998. Вып. 2. С. 234.
[Закрыть].
То не я́понец по горнице катался,
Не бел жемчуг по блюду рассыпался,
То Иван-то жениться сподоблялся.
То Васильевич снаряжался[34]34
Там же.
[Закрыть].
Преобладание таких глагольных форм оказывается характерным также для былины, хотя факты, описываемые в былине, – факты отдаленного прошлого:
События ритуального настоящего и события абсолютного эпического прошлого описываются посредством одной и той же грамматической формы. Следует отметить, что подобная форма исключительно редко встречается в устной спонтанной речи и всегда воспринимается как стилистически маркированная. Вопрос о семантике грамматической формы оказывается связанным со статусом излагаемой в фольклорном высказывании истории. Можно предположить два варианта объяснения – либо данная грамматическая форма полисемантична, либо жанры, обычно не сопоставляемые, оказываются обладающими какими-то общими прагматическими характеристиками.
Сообщаемый факт может быть сдвинут в будущее по отношению к факту высказывания. Такой дейксис характерен для заговорных текстов:
Встану благословясь, выйду перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, пойду я в чисто поле… (ТРМ, № 313).
Я пойду к заутрене, вы, клопы-тараканы, – вон из избы. Пасха идет в дом, вы – из дому. Аминь. Христос воскрес, а моей семье – здоровья, моему дому – богатства, моему полю – урожай. Аминь (Роксома, 2001).
Эти же формы свойственны причитанию:
Это обстоятельство дает основание для сопоставления столь различных во многих других отношениях ритуальных форм. Выявление характера временных отношений между моментом речи и описываемым в речи событием оказывается фактором, обнаруживающим несколько различных уровней взаимодействия жанровой формы и того социального контекста, в котором эта форма разворачивается.
Употребление той или иной личной формы глагола и местоимения в фольклорной речи определяет характер отношений между участниками описываемого события, реальным говорящим и говорящим, манифестируемым в высказывании. Синхронность порождения и восприятия фольклорного текста относится к базовым признакам фольклора, поэтому, на первый взгляд, не может быть ничего более естественного в отношении фольклорной коммуникации, чем ситуация обращения «я» говорящего к «ты» слушающего. С другой стороны, отнесение фольклора к «вторичным моделирующим системам» делает возможным рассмотрение «автора» / говорящего фольклорного текста по аналогии с образом автора / рассказчика в литературоведческой традиции, где говорящий и «я» в тексте a priori не рассматриваются как идентичные лица.
Специфика фольклора состоит в том, что он обладает всей парадигмой отношений между «я» личности и «я» говорящего: от идентичности (в устных меморатах) через рассказчика-посредника (в сказке)[37]37
О медиативной роли сказочника см., в частности: Герасимова Н. М. Фигура медиации в русской волшебной сказке // Кунсткамера: Этнографические тетради. 1995. Вып. 8–9. С. 241–249.
[Закрыть] до роли-маски (в святочных играх).
Отношение «высказывание / слушающий» в фольклорной традиции проявляется в феномене, определенном Р. О. Якобсоном и П. Г. Богатыревым как явления малой и большой цензуры[38]38
Богатырев П. Г., Якобсон Р. О. Указ. соч.
[Закрыть].
Все фольклорные жанры можно разделить на две группы, определяемые в зависимости от того, на что направлен контроль слушающих. Говорение не своих, принадлежащих «общественному достоянию» слов, что и составляет специфику фольклора, определяет особые отношения, в которых говорящий состоит как с содержанием высказывания (правда / ложь), так и с его формой (правильно / неправильно)[39]39
Типологическое исследование ритуальной речи позволило увидеть специфические черты в содержании. По мнению Дж. Дю Буа, ритуальное высказывание сходно с аналитическим, «аналитическая правда» не требует свидетельств – она самоочевидна (Дю Буа Дж. В. Самоочевидность и ритуальная речь // Кунсткамера: Этнографические тетради. 1998. Вып. 12. С. 198–223.).
[Закрыть].
Контроль слушающих может быть направлен как на само высказывание, так и на сообщаемый в высказывании факт. В первом случае исполнение оценивается по критерию «правильно / неправильно»: так оцениваются все обрядовые жанры, былина, сказка, все песенные жанры, заговоры, духовные стихи. Можно предположить, что события, описываемые в этих жанрах (в некоторых случаях и те, которые отнесены к неопределенному прошлому), ценны и значимы для исполнителей и слушателей как актуальное настоящее, становящееся в акте совершаемого здесь и сейчас высказывания, и поэтому вообще не подлежащее истинностной оценке. Рассказанная сказка – не сообщение о некоем бывшем в прошлом событии[40]40
Герасимова Н. М. Севернорусская сказка как речевой жанр // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Приложение № 6: Сказки Русского Севера. СПб.; Бохум, 1997. С. 7–27.
[Закрыть], само сказочное сообщение и является событием, а поскольку оно есть событие жизни и, следовательно, связано с прошлыми и будущими событиями жизни исполнителя и слушателей, оно должно быть правильным.
Исполнение может оцениваться по критерию «истинно / ложно» – так оцениваются жанры несказочной прозы. Представление о норме, с которой соотносится текст, касается именно описываемого события, но не способа его описания. Именно это обстоятельство и определило выбор темы, а не поэтики, в качестве основного классификационного признака этих форм фольклорной прозы[41]41
См. систематизацию мифологических рассказов, предложенную В. П. Зиновьевым в: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1984.
[Закрыть]. Устная проза свидетельствует об устойчивости определенных жизненных норм, сообщая о конкретных фактах, ту или иную форму воплощающих. В этих текстах проявляются стереотипные формы жизни, но не стереотипные формы речи.
Даже такой скромный ряд примеров достаточен для того, чтобы счесть продуктивным анализ фольклорных явлений в избранном аспекте – в качестве одного из существенных элементов, составляющих социальное действие.
Предлагаемый подход к рассмотрению фольклорных форм сложился в результате многолетнего наблюдения жизни локальной фольклорной традиции Белозерского края (северо-запад Вологодской области) в качестве включенного наблюдателя. Эта позиция обеспечивала необходимость постоянного сопоставления того, что узнавалось «кабинетно» из изданий материалов и исследований, и того, с чем приходилось сталкиваться в процессе живого взаимодействия с носителями традиции в ситуации полевого исследования.
Опишем некоторые факты, определившие возможность поставить вопрос о прагматике фольклора как самостоятельном предмете исследования.
В 1988 г. экспедиция работала на юго-западе Белозерского района Вологодской области (на территории Георгиевского сельского совета). Традиция, с которой мы столкнулись, значительно отличалась от той, которую приходилось наблюдать на других севернорусских территориях – в Архангельской области и на востоке Вологодчины; одно из отличий состояло в чрезвычайной скудости песенного репертуара. Наши информанты откликались на упоминание тех или иных песен, подтверждали знакомство с ними, но не пели. Отказ исполнения часто мотивировался так: «Ой, девки, у меня столько горя было – не пою», или объяснялся тем, что «она в горе живет». Мы склонны были считать такой ответ вежливой формой отказа от контакта с посторонними, пока не получили более развернутое объяснение приводимой при отказе мотивировки. Не пели те женщины, которые похоронили кого-то из своих близких – мужа или детей (иногда указывались и родители – сироте петь неприлично). Отказ от пения после понесенной утраты не определялся каким-либо сроком, – такая форма траура была пожизненной. Этот факт заставил внимательнее относиться к контекстным характеристикам исполнения фольклора: когда, кому и при каких обстоятельствах (в чьем присутствии, в каком месте и в какое время) уместно или неуместно исполнять то или иное фольклорное произведение – причитать, сказывать сказки, заговаривать, петь. Вопрос об уместности исполнения привел к необходимости рассмотрения фольклорной формы в отношении социального поведения исполнителя.
Запрет на пение действовал на потенциального исполнителя «снаружи», через контроль социума: «…сижу, плачу, да вдруг и запою. Посмотрю в окно: не услышал бы кто». Но возможна и другая форма принуждения к действию, метафизическая – контроль со стороны «сил». Так, в том же году нам объясняли, почему столь распространенной оказывается ситуация напущенной порчи. «Люди бывают злые и добрые. Злые не могут злое не делать, их к этому принуждают те силы, с которыми они знаются» (Георгиевское, 1988). В этом случае также присутствует некоторое облигаторное действие, мотивирующее совершение ритуального (магического акта) и, соответственно, магического текста. И в том и в другом случае речевое поведение обусловлено наличием определенных отношений, в которые включен носитель традиции.
Следующий эпизод заставил нас регулярно фиксировать гендерные и возрастные характеристики фольклора. В экспедиции 1994 г. (восточная часть Белозерского р-на) в разговоре с женщиной 57 лет о частушках мы заговорили об уместности или неуместности воспроизведения тех или иных фольклорных форм. Так, выяснилось, что исполнители частушек различают тексты как подходящие им и неподходящие. То, что подходит женщинам, не может быть исполнено девушкой; то, что подходит парню, смешно из уст мужика и бабы и невозможно из уст девушки. Пол, возраст и социальный статус определяют распределение фольклорного материала. Можно знать текст, но не иметь социального права оглашать его публично или использовать в ритуальной практике. Можно знать и иметь такое право. Можно не только иметь право, но и быть обязанным оглашать тексты определенного типа. Все модификации индивидуального репертуара носителя традиции в течение его жизни сложно связаны с набором статусов, накладываемых на него сообществом, и социальных ролей, которые он сам на себя принимает в рамках того или иного статуса. Индивидуальный фольклорный репертуар оказывался одним из маркеров социального места человека.
Факты, которые стали накапливаться в результате дополнительных вопросов, задаваемых в процессе полевых исследований, привели к необходимости рассмотрения поведенческого и коммуникативного аспектов бытования фольклора[42]42
См. например: Voigt V. On the communicative system of folklore genres // Genre, structure and reproduction in oral literature / Ed. by Honko V. L., Voigt V. Budapest, 1980. P. 171–179.
[Закрыть]. Такой подход к исследованию фольклора имеет достаточно долгую традицию, основные вехи которой были рассмотрены Б. Н. Путиловым в его монографии «Фольклор и народная культура»[43]43
Путилов Б. H. Указ. соч.
[Закрыть].
Так, рассматривая принципы американской дескриптивной фольклористики в работе Д. Бен-Амоса[44]44
Ben-Amos D. The Context of Folklore: Implications and Prospects // AAAS Selected Symposia Series. № 5. Boulder. Colorado, 1977. P. 36–53.
[Закрыть], Путилов отмечает следующее: «Понимая фольклор как реальный общественный процесс, они стремились взглянуть на него „внутри реальной социальной жизни“, через анализ категорий сообщения, исполнения, правил… Дескриптивная фольклористика опирается на достижения структурно-семиотического метода. Среди ее целей – объяснение существующих в фольклоре различий и сходств (в рамках целостного простора фольклорных коммуникаций) в понятиях саморегулируемых правил, со ссылками на социальную структуру, культурную космологию, символику и общие нормы вербального поведения»[45]45
Путилов Б. Н. Там же. С. 112.
[Закрыть].
Рассмотрение фольклорных текстов как речевых действий, регулирующих определенную практическую деятельность, нуждается в выявлении и описании контекстов, социального, ментального и собственно коммуникативного, в рамках которых осуществляется фольклорная акция.
Если на уровне общего знания фольклорная форма может быть доступна всем членам социума, то на уровне практики доступ к речевым стратегиям, навыки их использования и общественное позволение на подобное использование (легитимация) обеспечивается динамикой перераспределения социальных позиций (ролей и статусов).
Вопрос о том, как это происходит, определил необходимость обратиться к изучению того материала, который зачастую оказывается побочным продуктом фольклорных полевых исследований: толкований информантов относительно тех или иных правил социального поведения, представленных в общих формулировках или в качестве конкретных примеров; личных наблюдений и наблюдений коллег над теми социальными ситуациями, которых мы становились свидетелями, а иногда и участниками. Подобная беллетристическая составляющая – ценное следствие встречи с другой культурой лицом к лицу. Исследователь в этом случае выступает в классической антропологической позиции. Он одновременно участвует в социальном событии и рефлексирует по его поводу, занимая позицию наблюдателя. Понимание современной русской крестьянской культуры как «другой» оказывается необходимым условием для обнаружения семиотического плана жизни. Семиотичность поведения становится заметной в тех случаях, когда в одном социальном пространстве сталкиваются разные стратегии социальной игры, неуспешность таких социальных процедур, проигрыш, обычно достающийся «чужаку», оборачивается выигрышем в отношении понимания принципов игры[46]46
Этот эффект антропологической позиции описывали многие, важно указать на то, что подобный принцип применим и в случае исследования «своей» (т. е. этнически и лингвистически близкой исследователю) культуры.
[Закрыть].