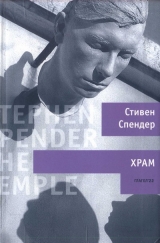
Текст книги "Храм"
Автор книги: Стивен Спендер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Очень медленно Эрнст подтянулся на ремнях и с точностью часового механизма исполнил сальто. Казалось, при этом заскрипели его руки и ноги. Взор сделался мертвенным. Меж коричневых ремней вращался желтый скелет.
Возвратившись в пять утра в резиденцию Штокманов и поднявшись к себе в комнату, Пол не стал ложиться спать, ибо сделал открытие, одновременно и огорчившее его, и польстившее его самолюбию. Оказалось, что Дневник с черновиками его стихов и заметками о застольной беседе по поводу его первого вечера у Штокманов, а также довольно яркой характеристикой «Ханни», кто-то достал из чемодана, куда он всегда его прятал, и положил под стопку рубашек в ящик комода. На этом основании он заключил, что Дневник читал Эрнст – несомненно потому, что очень интересовался стихами, которые Пол писал в доме Штокманов. Пол написал в своем Дневнике письмо – рассчитывая, что Эрнст не преминет его прочесть, – которое приводится ниже.
Дорогой Эрнст!
После ночи, проведенной в Санкт-Паули, я все еще несколько пьян, чем, вероятно, в значительной степени объясняется то, почему я не ложусь спать, а пишу тебе это письмо, которое оставляю раскрытым на своем письменном столе, где ты, несомненно, его прочтешь.
Вчера вечером ты заставил меня пообещать, что я поеду с тобой на Балтику. Если это письмо не обидит тебя и, прочтя его, ты не дашь понять, что не желаешь больше со мной общаться, я сдержу свое обещание. Если же ты обидишься, дай мне знать, в противном случае, наверное, лучше вообще не упоминать об этом письме, поскольку мы с тобой не договаривались, что ты будешь рыться у меня в чемодане, дабы читать мой Дневник. Должен признаться, мне страшновато проводить выходные вдвоем с тобой. Хочу объяснить тебе, почему я этого так боюсь. Дело в том, что когда ты рядом, ты каждую минуту имеешь обыкновение напоминать мне о том субъекте, каковым, по твоему мнению, я являюсь и о каковом мне отнюдь не хотелось бы вспоминать. Ты привязался ко мне, как моя собственная тень, неотделимая от подметок моих башмаков, или как зеркало, прибитое передо мной, зеркало, в котором я вынужден видеть твое представление о моем отражении. Ты никогда не даешь мне забывать о себе (вернее сказать, о твоем представлении обо мне). Ты постоянно заставляешь меня сознавать, что я такой, каким в действительности себя не считаю – то есть невинный, простодушный и беспрестанно разыгрывающий перед тобой, своей публикой, спектакль о своих невинности и простодушии.
Даже будь я таким невинным, каким ты меня считаешь, то, заставив меня это сознавать, ты бы всю эту невинность погубил. Помнишь стихи о моем друге Марстоне, которые показывал тебе ректор Клоус? Так вот, с Марстоном у меня были отношения, которые в некотором смысле похожи на твои отношения со мной. Его я считал невинным. Я отождествлял его с английской природой, с тропинками в зеленеющих полях, речушками, вьющимися средь широких лугов, с лесистым, холмистым ландшафтом, мирным и тихим, с умеренным климатом, с той мягкостью, в которой, однако, таится нечто грозное, готовое излить свой гнев на любого, кто превращает все это в стыдливую саморекламу, кто мешает легко и беззаботно грезить о жизни. Да, я привязался к Марстону, поскольку во мне пробудили восторг (любовь!) те его качества, коими я до сих нор восхищаюсь – его английская невинность, его раскованность, – но потом ему надоело, что я все время за ним наблюдаю, он разобиделся и разозлился. Он мог бы меня даже возненавидеть, но, разобравшись в его чувствах, я устроил так, что мы с ним никогда больше не будем встречаться. Не обращай на все это внимания. Я слишком пьян.
Я восхищаюсь отношениями между Иоахимом и Вилли, потому что они не похожи ни на мои отношения с Марстоном, ни на твои со мной. Их отношения обращены вовне, и все, что они поровну делят между собою во внешнем мире – жизнь на свежем воздухе, солнце, собственные их тела, – как бы страстно посредничает между ними. Это друзья, которые не изводят друг друга осознанием того, каков, по мнению одного, истинный характер другого.
В тот момент, когда один человек начинает упорно заглядывать в «душу» другого (вернее сказать, в то, что, по его мнение является или должно являться «душой»), он уподобляется вампиру, кровопийце, удовлетворяющему свою осознанную потребность в определенных качествах или в том, что он за эти качества принимает, за счет друга. Он пытается сделать друга узником собственной души и лишить его возможности быть самим собой. Я слишком пьян.
Ну что ж, если это письмо не обидело тебя настолько, что ты никогда больше не пожелаешь меня видеть (хотя, откровенно говоря, я надеюсь, что именно так и случится), я обязательно выполню свое обещание и поеду с тобой на Балтийское побережье. Ты настоял на том, чтобы я это ПООБЕЩАЛ, а единственное, что я усвоил из всего оксфордского курса философии – это что обещаний, даже самых легкомысленных, и договоров, нарушать нельзя. Уверен, что, вынуждая меня дать это ОБЕЩАНИЕ, ты думал об оксфордской философии морали. Спасибо за радушный прием и передай, пожалуйста, благодарность маме за ее гостеприимство.
С любовью, Пол.
2. Выходные на Балтике
Пол сидел у окна в вагоне второго класса, напротив Эрнста. Дабы не встречаться с Эрнстом взглядом, он созерцал проносившийся мимо пейзаж. За окном была бескрайняя равнина цвета хаки, поросшая камышом и пыреем, там и сям перемежаемая широкими полосами мелких водоемов, в которых стояли цапли. Поезд миновал деревеньки, где на приземистых башенках церквей свили себе из веточек одинокие гнезда аисты. Приближаясь к устью Альты, поезд обогнул прибрежную полосу, вдоль которой росли сосны. Временами Полу удавалось мельком увидеть за песчаными дюнами море.
Хмурое, зыбкое, как песок, небо закрывала гряда мглистых облаков, похожих на кучи угля. В стороне от зенита тлеющей сердцевиной неба светило солнце.
Из Гамбурга поезд отправился в четырнадцать семнадцать и через три часа тринадцать минут подъехал к паромной переправе через устье реки Альты, на восточный берег, где находился маленький курортный городок Альтамюнде.
Испытывая приступ клаустрофобии от близкого соседства с Эрнстом, чей взгляд он постоянно на себе ощущал, Пол решил, что сходит с ума. Ему явственно слышались звучавшие у него в голове голоса, по меньшей мере, один, его собственный, укорявший его: «Вся эта поездка смешна и нелепа. Единственная причина, по которой ты здесь, – в том, что три недели назад, когда Иоахим, Вилли, Эрнст и ты сидели в Lokal „Три звезды“ в Санкт-Паули и все четверо напились, Эрнст ухитрился взять с тебя обещание съездить с ним на Балтику. Ты согласился поехать лишь в результате абсолютной неспособности предвидеть, во что превращается взятое на себя обязательство, когда оно становится свершившимся фактом. Будущее для тебя – это пустующее пространство в пустом, непознаваемом времени. Если тебя спрашивают, поедешь ли ты куда-нибудь или сделаешь ли что-нибудь в день, который не скоро еще наступит, ты лишь задаешь себе вопрос, не запланированы ли у тебя на этот день другие дела, и если таковых нет, ты заполняешь этот пробел неким обязательством, не имея ни малейшего представления о том ужасном мгновении, когда подписанное тобою воплотится в реальность: а реальность сейчас такова, что напротив тебя в этом поезде сидит Эрнст. Обещание, данное тобою Эрнсту три недели назад, сделалось настоящим временем, которое представляется тебе застывшим мгновением, окаменевшими минутами. Впереди у тебя семьдесят два часа наедине с Эрнстом. Шестьдесят раз по семьдесят два – это четыре тысячи триста двадцать минут, каждую из которых ты должен проживать усилием воли, одну за другой, пока воскресной ночью не окажешься на свободе и не вернешься в свою гамбургскую комнату».
Солнце пробилось сквозь тучи. Эрнст наклонился вперед и громким шепотом произнес:
– Солнечный свет на твоем лице изумителен. Лицо сияет. Ты похож на ангела.
В пять тридцать, взяв рюкзаки, они сошли с парома и зашагали по тропинке, которая привела их к кафе, сверкающему на солнце новому флигелю частью каркасной, частью кирпичной гостиницы с белыми балконами, где, как предположил Пол, Эрнст заранее заказал номера на ночь. Они сложили рюкзаки в углу кафе и сели за столик, откуда видна была прибрежная полоса. Пол увидел пляж с плескающимися и плавающими, бегающими, кричащими и смеющимися курортниками: каждый из них, подумал он, счастлив оттого, что не сидит в гостиничном кафе за столиком, с другой стороны коего восседает Эрнст с лицом, подобным черепу хищной птицы, и скелетообразным торсом, прикрытым блейзером кембриджского Даунинг-Колледжа.
«Но я буду настаивать, чтобы пообедали мы в семь тридцать, – сказал себе Пол. – Осталось еще два часа – сто двадцать минут. После обеда я уйду спать пораньше – в девять тридцать. Потом я буду читать и писать у себя в номере – один. Я опишу в своем Дневнике те чувства, которые испытывал в поезде по отношению к Эрнсту, а потом почитаю „Мальте Лауридса Бригге“ Рильке». В предвкушении возможности остаться в номере одному Пол испытывал ощущение, подобное тому, которое вызывает самая захватывающая сексуальная фантазия.
«Я же наверняка еще тогда, в „Трех звездах“, ясно дал понять, что в одном номере жить мы не будем?» Едва Пол об этом подумал, как им овладело глубокое недоверие к Полу двухнедельной давности. Хватило ли тому безответственному типу дальновидности гарантировать, что Пол нынешний, сидящий за этим столиком с Эрнстом, будет в девять тридцать отпущен восвояси в собственную отдельную комнату? Тот Пол был мертвецки пьян, вспомнил сегодняшний Пол, и потому почти совсем не приходит на память. Он отбросил эти мысли и продолжил размышления о предстоящих выходных. «Весь завтрашний день придется провести с Эрнстом, но не весь с ним наедине, если мы поедем – а я точно помню, что об этом он говорил – в гости к молодому архитектору Кастору Алериху и его жене Лизе, в их модернистский дом, построенный самим Кастором. „Маленький шедевр новой немецкой архитектуры – перл функционального стиля“, – как сказал Эрнст».
Сделав над собой колоссальное усилие, Пол перестал любоваться видами пляжа и заставил себя посмотреть на Эрнста.
– Давай перед ужином погуляем по берегу, – сказал он, решив, что за моционом время пройдет быстрее.
– Возможно, прежде чем мы пойдем, мне следует справиться в гостинице насчет наших комнат.
– Я думал, ты заказал их еще в Гамбурге, из своей конторы.
Эрнст скорчил moue[18]18
Недовольную гримасу (фр.).
[Закрыть].
– Я не считал, что это необходимо.
– В таком случае, безусловно, лучше позаботиться об этом сейчас.
– Пойдешь со мной?
– Нет, я, пожалуй, здесь посижу.
Взяв рюкзаки, Эрнст вошел в вестибюль гостиницы. Оставшись один, Пол с удовольствием предался мечтам о возвращении в понедельник вечером в Гамбург: Эрнст – снова к Ханни, в склепообразную резиденцию Штокманов, он – в комнату, что он снял, когда ушел, не попрощавшись с Эрнстовыми родителями, в комнату, где не было ничего, кроме стула, стола, платяного шкафа (на который он водрузил свой чемодан), крошечного деревянного столика (для книг и рукописей) и узкой кровати.
Возвратился из гостиницы Эрнст.
– Я все уладил. Надеюсь, все будет в порядке…
– Отлично, тогда можно пойти прогуляться.
– По правде говоря, возникло небольшое осложнение, хотя и совсем незначительное, с чем ты, уверен, согласишься. Похоже, что сегодня здесь проводится нечто вроде фестиваля, поэтому мест в гостинице нет. Мне с трудом удалось уговорить их сдать нам хотя бы комнату. Разумеется, это не имеет значения. Главное, что комната у нас есть. Уверен, ты не станешь возражать против того, что нам, кажется, придется пожить вдвоем.
– А нельзя снять номера в другой гостинице?
– Разумеется, я изучил все возможные варианты. Но они сказали, что это единственная гостиница в Альтамюнде, а на западном берегу устья все давно переполнено.
– Можем мы вернуться сегодня вечером в Гамбург?
– Даже будь такая возможность, было бы весьма странно, если бы я так поступил после того как сказал маме, что уезжаю на два дня. Не совсем представляю, как бы я стал все это ей объяснять. К тому же, разве ты не отказался на эту ночь от своего гостиничного номера в Гамбурге?
– Номер мне пришлось оставить за собой. Там мои вещи.
– В финансовом смысле ты, безусловно, едва ли в состоянии платить за гостиничный номер, который не занимаешь. Я полагаю, что тебе следовало бы прийти к какому-нибудь экономически целесообразному соглашению с портье и оставить ему вещи на ночь.
Пол уставился на него.
– И все-таки жаль, что ты не высказал мне свое отношение к этой поездке немного раньше. В конечном счете, я мог бы предпринять этот короткий увеселительный вояж один.
Пол подумал: «Как будто, взяв меня с собой, он пожертвовал двумя днями блаженного одиночества».
– Эрнст, тебе прекрасно известно, что это ты заставил меня пообещать с тобой поехать. Я попросту выполняю свое обещание.
Эрнст холодно вымолвил:
– Едва ли я виноват в том, что в гостинице так мало свободных мест. Но, вероятно, тебя огорчает тот факт, что мы вынуждены поселиться в одной комнате. – Он посмотрел Полу прямо в глаза. – Откуда такая враждебность ко мне, Пол?
– Ты знаешь ответ на этот вопрос.
– Нет, не знаю.
– Как, разве ты не прочел письмо, которое я оставил тебе дома в моем Дневнике? Разве ты не читал мой Дневник все это время?
На эти вопросы Эрнст отреагировал с неожиданным спокойствием.
– Да, я прочел оба эти… э-э… документа.
– Ну и что?
– По правде говоря, то, что ты написал, я воспринял не вполне серьезно. Я на пять лет старше тебя, Пол. Помнится, я подумал: в конце концов Полу всего двадцать, он начинающий писатель, и все это пока только проба пера. Признаюсь, когда я прочел твое описание первого обеда в нашем доме в день твоего приезда, мне было более неприятно твое мнение о маме, чем обо мне. – Он выдавил улыбку, лишенную даже тени насмешливости. – Кое-где я заметил признаки журналистской наблюдательности – в описании того, как я спустился к обеду в расстегнутой рубашке, или маленькой настольной игры с мамой в крикет, – конечно, в таком студенческом журнале, как, например, «Гранта», все это выглядело бы весьма забавно. Возможно, тебя это удивит, но когда я рассказал о твоем Дневнике маме – нет, я его ей не показывал, ибо такой поступок мог бы показаться не совсем порядочным, – она пришла к тому же мнению, что и я, хотя, вероятно, все-таки несколько острее, нежели я, почувствовала… что человек, который в прозе возводит напраслину на мою семью и в то же время гостит в нашем доме, ведет себя в какой-то степени хамовато (если здесь уместно это английское слово)… – Он умолк, а потом более мрачным голосом сказал: – Тем не менее, когда я только что спросил, почему ты относишься ко мне с такой враждебностью, о твоих литературных достижениях я не думал. Я хотел узнать, почему ты с таким отвращением относишься к мысли о том, что мы будем жить в одной комнате. Не могу поверить, что ты отказался бы жить в одной комнате, скажем, с Иоахимом – да и с Вилли, наверно. Это, похоже, действительно свидетельствует о явной, глубокой антипатии ко мне. Я с благодарностью выслушал бы сейчас соображения, по которым ты меня так невзлюбил, Пол. Мне бы хотелось услышать их лично от тебя, а не выискивать в сочинениях, написанных твоим студенческим пером.
Во всем этом крылась ирония, которая ошеломила Пола. Создавалось впечатление, будто некий персонаж, существовавший для него только на бумаге – персонаж романа о Штокманах, который он все время обдумывал, – сошел вдруг с будущей печатной страницы и собственным голосом заявил, что он реален, и доказательством его существования служит речь, звучащая в настоящий момент, а не слова, написанные, напечатанные или опубликованные постфактум. Полу пришлось признать, что до сей поры все сказанное Эрнстом представлялось ему печатными строчками романа Пола Скоунера, мысленно написанного для Уильяма Брэдшоу. Ныне же слова, составляющие описание «Поездки в Альтамюнде», слова, которые, едва они были произнесены, Пол увидел перетекающими в чернила, готовые высохнуть и превратиться в написанную черным по белому прозу на страницах его Дневника, растворились вдруг в переменчивом, неостановимом, непредсказуемом потоке разговорной речи, как соль в том море за пляжем. Эрнст, сидевший напротив за столиком, превратился вдруг в человека, который может в любой момент превратиться в кого-то другого и превращаться так снова и снова, до скончания века. Пол посмотрел на море. Там струились течения, там происходили приливы с отливами, там никогда не бывала постоянной температура. Там бурлила настоящая жизнь.
Пол сказал, почти с виноватым видом:
– Не знаю, имел ли я основания так описывать обед в вашем доме в день моего приезда. Возможно, я поступил необдуманно. Тогда мы еще недостаточно давно знали друг друга. Мы и до сих пор друг друга не знаем… Вероятно, первые мои впечатления были ошибочными… – И тут он совершенно некстати выпалил: – Твои гамбургские друзья тебя любят, а их мнению я доверяю больше, чем собственному.
С видом человека здравомыслящего и непредубежденного, причем не лишенного обаяния, Эрнст, склонив голову набок, обдумал этот вопрос:
– Не очень-то они меня любят. Они терпят меня, потому что выросли, успев ко мне привыкнуть. Мы с мамой даем им пишу для шуток. Разумеется, я знаю, что я смешон. Зачастую я сам над собой смеюсь, как в тот вечер, когда я пришел к обеду в крикетке и блейзере, да ты помнишь. Мне было очень весело. Я люблю Иоахима и Вилли. Их шуточки на мой счет доставляют мне удовольствие.
– Ты им нравишься. Они сказали мне это, когда я был с ними в Schwimmvad без тебя.
– Судя по некоторым местам в твоем Дневнике, я бы такого вывода делать не стал.
Желая раз и навсегда покончить с возникшими между ними недоразумениями и ради этого признать всю чудовищность прежнего своего отношения к Эрнсту, Пол объяснил:
– Все это я написал о тебе в своем дневнике потому, что в известном смысле ты казался мне мертвецом.
Все так же склоняя голову набок и сохраняя позу человека, хладнокровно оценивающего ситуацию, Эрнст заговорил тоном профессионального философа, беспристрастно обсуждающего несколько несообразный тезис молодого, очень молодого и простодушного коллеги:
– Уточни, что ты имеешь в виду, употребляя слово «мертвец», когда речь идет об одном из двух друзей в контексте дружеской дискуссии между ними, если фактически оба они, оказывается, живы? Полагаю, что для человека, который стремится стать серьезным писателем, подобная формулировка не совсем точна.
– Когда я с тобой, вместе с Вилли и Иоахимом, у меня иногда возникает такое чувство, будто ты благоденствуешь за счет их жизненной силы, дабы доказать самому себе, что ты жив.
Эрнст нежно взглянул на Пола.
– Быть может, когда я наедине с тобой, у меня возникает более искреннее чувство, что я жив, чем когда я с ними обоими. Есть разница между неким чисто физическим ощущением здоровья с ними и чем-то… ну, скажем, духовным, по крайней мере, поэтическим – с тобой.
Пол взволнованно произнес:
– На самом-то деле ни один из нас не нравится тебе так, как ты думаешь. Тебе хочется в нас превратиться – перенять нашу физическую сущность и то, что ты называешь моей духовностью, – а это что угодно, только не любовь. Любовь – это общие пристрастия людей, которые отличаются друг от друга – а не попытка впитать чужую жизнь. В любви один получает наслаждение от своего несходства с другим или другой. За твоим желанием присвоить себе качества другого человека, которых, по-твоему, тебе недостает, таится глубокое чувство обиды, стремление уничтожить человека, наделенного этими качествами. – (Пытался ли он уничтожить Марстона?) – Ты говоришь, что восхищаешься Иоахимом за его врожденную жизненную энергию и хотел бы стать таким же беззаботным, как он, но в то же самое время презираешь его за рассудительность и осторожность, да и за то, что он интересуется не только коммерцией. В глубине души ты считаешь, что в соответствии с твоими торгашескими критериями в мире коммерции он должен добиться успеха, хотя тебе и известно, что критерии эти – смерть, мавзолей наподобие дома твоей мамаши. Ты восхищаешься дружбой Иоахима и Вилли, но, хотя ты так высоко ценишь дружбу (и действительно, наверно, нуждаешься в ней больше, чем во всем остальном), в конечном счете, ты считаешь их легкомысленными. Когда ты анализируешь почерк тех гениальных французских и немецких писателей, ты делаешь это не столько ради того чтобы похвалить их сильные стороны, сколько для того, чтобы привлечь внимание к слабым. Ты самоутверждаешься, обнаруживая недостатки в людях, которых считаешь более полноценными, чем ты сам. Ты вынужден это делать, потому что их жизненная сила лишает тебя веры в твою собственную.
Эрнст сидел не шелохнувшись, как покойник. Потом он сказал:
– Все это правда. Она мне давно известна, но самому себе я в этом никогда не признавался. Это правда. Я мертвец.
Наступила такая тишина, словно они достигли какой-то цели. Возликовав, Пол нарушил молчание, заставив себя громко расхохотаться.
– Нет, Эрнст, конечно же, ты не мертвец! Конечно же, я сказал неправду! Все это я взял из книги, которую сейчас читаю.
Эрнст проявил слабые признаки пытливого интереса:
– Ах, из книги! Как интересно! Можно узнать фамилию автора?
Он достал из кармана блейзера карандаш и записную книжку.
– Д.Г.Лоуренс. «Фантазия бессознательного».
Записав это, Эрнст с похоронной прямотой произнес:
– Тем не менее, я мертвец, это правда. Но ты можешь помочь мне воскреснуть.
– Пойдем все-таки погуляем.
Гостиница стояла на самом краю Альтамюнде. Перед ней, прямо у входа в кафе, заканчивалась бетонная прогулочная площадка. Тремя ступеньками ниже, вдоль края пляжа, по опушке соснового бора тянулась тропинка, одна из многих на берегу. Когда они шли по этой тропинке, справа от них был пляж, а за ним – море. Там стояли шезлонги и несколько палаток. Лежали на полотенцах и матрасах купальщики. Некоторые стоя вытирались. Небо уже очистилось от туч. Светило солнце. Пляж сверкал желтизной, словно крапчатая яичная скорлупа, волны накатывали на берег искрящимися параллельными цепочками. На пляже резвились парни и девушки. Дальше от моря, меж розоватыми стволами сосен, виднелись ноги гуляющих – ноги, мелькающие в сплетении света и теней.
Пол принялся рассматривать Эрнстовы проблемы с клинической точки зрения, как заболевание, «случай» – подобно тому, как Уилмот, возможно, рассматривал Половы. Он решил, что «спасет» Эрнста деятельность, которая именуется «творческой» (Пол склонен был считать «творчество» лечебным средством, доступным каждому. Уилмот же наверняка так не думал).
– Вот что, Эрнст, тебе следует заняться переводами. Ты любишь английский язык и говоришь на нем лучше большинства англичан. Если ты сумеешь воплотить свою любовь к английскому в прекрасном немецком, ты будешь счастлив.
– Я уже пробовал. Ты никак не поймешь, Пол, что для творческой работы я попросту слишком слабоволен – правда, сам-то я отдаю себе отчет в том, что, сумей я ею заняться, это было бы решением большинства, хотя и не всех, моих проблем. Я знаю себя лучше, чем ты меня. В моей натуре нет даже малой толики творческой жилки.
– Но ты же хочешь, чтобы тебя любили, чтобы тобой восхищались, ты же честолюбив.
– Это верно, в какой-то степени, – сказал он, упиваясь своим отчаянием, – но разве ты не способен представить себе человека, сознающего, что все его честолюбивые замыслы – всего лишь тени, подобные сделанному углем на холсте наброску картины, которую художник – и он это знает – никогда не напишет, которой так и суждено навсегда остаться наброском? Само по себе честолюбие – это всего лишь набросок углем, его не оживить яркими цветами. И все же художник достаточно талантлив, и потому этот набросок навсегда остается у него перед глазами, причиняя ему страдания, как нереализованная, нереализуемая возможность. Вот и я такой же. Но мне известны мои недостатки, поэтому ни свои успехи, ни неудачи я не принимаю всерьез. В общем и целом я вполне счастлив, у меня есть книги, есть мой кабинет, есть друзья. И, конечно же, есть моя милая, милая мама, которая занимает половину моего мира, да и Гамбург я люблю, и всегда можно съездить в Санкт-Паули. Мои философские воззрения, если можно их так назвать, состоят в том, что я счастлив, поскольку у меня нет достаточной причины быть несчастным.
– Пойдем искупаемся.
Они разделись под соснами. Море оказалось очень мелким. Пришлось долго шлепать по воде в поисках глубокого места. Они купались почти час и гораздо лучше ладили друг с другом, когда плыли бок о бок и лишь изредка перебрасывались в море словечком-другим.
Вернувшись в гостиницу, они поднялись к себе в номер, который оказался тесноватым. В комнате были две сдвинутые узкие кровати, умывальник с зеркалом на стене, комод, шкаф. Эрнст подошел к умывальнику и уставился в зеркало. Дабы получше рассмотреть свое лицо, он надул щеки, точно оратор, собравшийся произнести речь. Он расстроился, увидев на щеке, примерно в полудюйме ото рта, маленький белый прыщик, который, как он понял, грозил вырасти до размеров фурункула и обезобразить лицо.
Обедать они спустились в ресторан со стенами из сосновых бревен, выкрашенных в шоколадный цвет, и немногочисленными, вставленными в рамки, фотографиями норвежских фьордов. За несколькими столиками галдели отдыхающие семейства. За другими сидели молодые супружеские пары. За одним – грустный, тоскующий, одинокий «гомик». (Такие диагнозы поставил Пол жившим с ним в гостинице постояльцам.)
На каждом столике лежала обеденная карта, в которую расплывшимися фиолетовыми чернилами были вписаны печатными буквами два меню – за две марки пятьдесят пфеннигов и за марку семьдесят пять. Пол, не любивший вводить в расход пригласивших его людей, выбрал то, что подешевле. Эрнст сказал:
– Это холодные блюда. Ты уверен, что не хотел бы заказать горячую курицу, которая есть в другом меню? Однако… – внимательно вглядевшись в лежавшую перед ним карту, – возможно, ты прав. В этой гостинице наверняка превосходная холодная вырезка. Думаю, я тоже ее закажу. – Потом он с сомнением в голосе добавил: – Быть может, с едой ты бы хотел чего-нибудь выпить?
– Нет-нет, совсем не хочется. За едой я никогда ничего, кроме воды, не пью.
– Отлично. Ты уверен, что не хотел бы минеральной воды или лимонада?
– Лучше лимонада.
– Да-да, разумеется. – У Эрнста вытянулось лицо, и он крикнул официанту: – Один лимонад!
Пол отдавал себе отчет в том, что ему следует вести с Эрнстом серьезную интеллектуальную беседу. Однако именно в этот момент его целиком и полностью захватила игра его неуемного воображения, которая затмила все остальное, помешав ему смотреть на Эрнста, а тем более слушать то, что он говорит. Дверь, выходящая на улицу, неожиданно распахнулась, и в ресторан ввалились торжествующие, ухмыляющиеся Саймон Уилмот и Уильям Брэдшоу. Они гляделись эксцентричными англичанами. Саймон был в сером двубортном фланелевом костюме и рубашке с расстегнутым воротничком. В руке у него была соломенная шляпа, которую он надевал на улице, дабы защитить свое бледное лицо от солнца. На шее висел монокль, а под прямым углом к телу он держал трость с набалдашником из слоновой кости. Очевидно, он считал, что именно так полагается одеваться на приморском курорте. Уильям Брэдшоу был без пиджака, в серых фланелевых брюках и вязаном жакете, белом в синюю полоску. Он походил на удалого, развеселого молодого моряка.
Они то и дело переглядывались, как бы делясь друг с другом уморительной шуткой. Объектом шутки был Пол. Завидев его, оба оглушительно расхохотались.
– Пол! – одновременно воскликнули они.
– Как это вы умудрились здесь оказаться? – спросил их Пол.
– Очень просто, – сказал Саймон. – Я получил твои письма из Гамбурга с новым адресом, ведь ты выехал из дома Штокманов, вот мы и зашли за тобой, а хозяйка сказала, что ты в Альтамюнде.
Уильям Брэдшоу сказал:
– Мне давно хотелось съездить на Балтийское побережье, вот мы и решили попытать счастья и поискать тебя где-нибудь неподалеку от пляжа. Мы были почти уверены, что где-нибудь здесь тебя встретим.
– До нашего приезда в Гамбург я был в Берлине, – сказал Уилмот. – Ты получил мои письма?
– О твоей жизни в Институте сексуальных наук Магнуса Хиршфельда? Конечно, получил, – ответил Пол.
– Саймон сделал несколько сенсационных открытий, – сказал Уильям.
– Каких открытий?
– Ну, это же яснее ясного… в области любви, – сказал Уильям. Он произнес «ЛУБВИ».
– Что именно в области любви?
– Пока не испытаешь чувства Вины, ничего не добьешься, – сказал Уильям.
– Этого я никогда не говорил.
– Ах да, совсем забыл. Условие таково, что любить следует лицо заинтересованное.
– Заинтересованное лицо, дорогой мой, тоже должно тебя любить.
– Хорошо. Они должны любить друг друга. Тогда они в безопасности. Безопасность есть взаимность. Взаимность означает безопасность.
Брэдшоу продолжал:
– Величайшее достижение Уилмота состоит в том, что он излечил епископского сына – который сбежал из отцовского собора – от клептомании.
– Ого! Как же это ему удалось?
– Саймон избавил его от чувства вины за воровство. Кражу со взломом он превратил в чисто коммерческую деятельность (каковой она в общем-то и является – то есть, ясно, что такое коммерция) и тем самым заставил его чувствовать себя виноватым не в большей степени, чем любой коммерсант. То есть таким же невинным, как член правления Английского банка.
– Как же он это сделал?
– Купил толстый гроссбух и заставил его записывать туда все, что он крал, включая деньги, полученные за сбыт и укрывательство краденого.
– Нет-нет, – возразил Саймон. – Сегодня ты все истолковываешь неправильно. За украденные им вещи он денег не получал. Все украденное он просто-напросто складывал ко мне в шкаф, где я это все для него и хранил.
– Что же произошло?
– Самое удивительное, что вообще ничего не происходило до тех пор, пока он не украл набор серебряных ложек двенадцати апостолов. Когда пришла пора занести их с подробнейшим описанием в гроссбух, сын епископа упал в обморок. Очнувшись, он принялся настаивать на возвращении всех краденых вещей владельцам.
Уильям добавил:
– Видишь ли, Пол, превратив кражу в чисто коммерческую деятельность, Саймон тем самым разрушил его представление о себе как о романтическом герое и сделал воровство презренным занятием, наподобие руководства банком. Когда же дело дошло до кражи апостольских ложек, возник конфликт между Догматической Символикой и Романтической Мечтой, и его мир рухнул.








