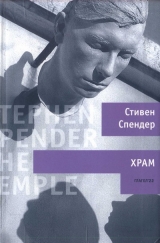
Текст книги "Храм"
Автор книги: Стивен Спендер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Пол сказал:
– Негативы я тебе не отдам. Я закажу новые отпечатки и вышлю их тебе, когда ты приедешь в Штутгарт.
Лотар, который все это время смотрел на пол, поднял голову примерно на полдюйма.
– Если ты мне не доверяешь, не надо.
– Я доверяю тебе, – сказал Пол. Потом он добавил: – На сей раз я сам поеду с тобой на вокзал, посажу тебя в поезд и дам тебе вместе с билетом немного денег. В ожидании поезда мы сможем выпить на прощанье в привокзальном буфете и поесть бутербродов.
Три часа спустя Пол увидел, как поезд исчезает во тьме, точно хвост дракона, скрываясь за поворотом неподалеку от конца платформы.
Он направился к контрольному барьеру, где три года назад, когда он впервые приехал в Гамбург, его встречал Эрнст Штокман. Потом он вышел из здания вокзала на улицу. Вот и нет больше надобности платить Лотару оброк! Но тут, совершенно неожиданно, точно мучительный приступ головокружения, от которого он мог бы рухнуть на землю, его охватило страшное чувство одиночества.
Вернуться к себе в комнату он не мог, это он знал. Он должен был идти, идти дальше. Таково было безумие молодого английского поэта – одиноко бредущего по бесплодной пустоши, через необитаемые края, бормоча что-то себе под нос, выкрикивая непристойности против ветра, слыша голоса ангельского хора, поющего за грозовыми тучами. Порой, во время ходьбы, в ушах у Пола начинала звучать мелодия, которую он подхватывал и принимался мурлыкать, импровизируя вариации на ее тему, медленные и быстрые, грустные и неистовые.
Продолжая идти, он пытался сформулировать вопросы, для своего романа.
Тот, что не давал ему покоя с тех пор, как он поговорил с Иоахимом в вегетарианском ресторане (нет! еще с того дня, когда Иоахим повалил Генриха на землю во время их похода по берегу Рейна), был таков: почему он вдруг встал на сторону Генриха против Иоахима, если Генрих не только был глупцом, но и придерживался убеждений, к которым Пол питал отвращение? И вот ему внезапно стал ясен ответ. Дело было в том, что Иоахим упрямо не желал раскрывать свою сущность. Он хотел, чтобы в Генрихе, как в зеркале, отражалось то порочное, сладострастное животное, каковым втайне, в глубине души, Иоахим воображал себя самого. Оплачивая расходы Генриха, он субсидировал зеркальное отражение своего истинного черного «я». Однако, желая, чтобы Генрих был порочен, Иоахим вместе с тем хотел, чтобы он был таковым как личность, поскольку и сам был личностью – красивой лисой или рысью. Потому Иоахиму и было невыносимо сознавать, что Генрих слился с анонимной массой таких же злодеев – штурмовиков. И все же именно Иоахим поставил Генриха в такое положение, когда ему пришлось сделать этот выбор.
Пол дошел до тропинки, тянувшейся рядом с шоссе по берегу озера. За оградой, в поблескивающей тьме, он увидел волны, подобные белым зубам, скрежещущим на вертикальные отражения далеких башен.
Пол пересек шоссе и пошел по боковой дороге, ведущей через дороги более темные к пансиону «Альстер», где была его комната, уменьшавшаяся в размерах по мере того, как сужались улицы.
«Дурак! Идиот! Лицемер! – корил он себя. – Ты же знаешь, что, как бы ни вел себя по отношению к Генриху Иоахим, Генрих никогда не изменится. При наличии нацистов он давно бы вступил в их ряды. Все дело в том, что их наличие устанавливает для него его уровень. Он влился в массу таких же ничтожеств, как и он, с которыми и прежде составлял единое целое – разве что их еще не было три года назад. Безусловно, он и ему подобные являются жертвами – жертвами мирного договора, жертвами репараций, жертвами инфляции, жертвами своего безотрадного, голодного детства. Но даже не будь всего этого, они все равно стали бы такими, как нынче, большинство из них, большинство (возможно, есть исключения), потому что были такими изначально. Несправедливости лишь служат им оправданием того, что они такие, какими были и прежде, оправданием им – осадку на мировом дне, стремящемуся подняться наверх и покрыть поверхность коричневой мутью».
А в масштабе всей нации – разве не то же самое происходило с самой Германией? Все, что говорил Эрих Хануссен о мирном договоре – относительно несправедливости которого Пол и сам был согласен, – оправдание, оправдание появления облаченной в униформу карикатуры на справедливое негодование – чванливого Эриха Хануссена и его штурмовиков.
Голова Пола была забита грязью суесловия, такого же пошлого, заурядного, мерзкого, как и его мишени. Он и сам с таким же успехом мог бы стать общественным деятелем, произносящим речи, пишущим письма в газеты, постоянно озлобленным, постоянно уверенным в своей правоте.
Друзья его такими не были. Уилмот и Брадшоу презирали все публичное, все, что имело отношение к политике и журналистике.
Уилмот говорил и писал как личность, без напыщенного суесловия. Он понимал, что, хотя общество, поскольку оно состоит из отдельных людей, можно исцелить, только исцелив каждого человека, предприятие это абсурдное. Он умел смеяться и над нелепостью, и над тем, как нелеп он сам. Нелеп теперь, когда не стало иного средства от штурмовиков Альтамюнде, кроме как исцелить каждого из них поодиночке. Пол остановился на улице и истерически расхохотался, представив себе, вполне в духе какого-нибудь стихотворения Уилмота, как бригады целителей в белых больничных халатах прыгают с парашютом в лес (некоторые из них виснут на ветвях сосен) рядом с домом Эриха Хануссена в Альтамюнде и принимаются лечить Генриха и его соратников, выковыривая из подсознания каждого трудное детство, даруя каждому свободу для сюрреалистических любовных утех. Вот и Эрих Хануссен появился с повязкой на глазах – он намерен водить в игре в жмурки и пытается пресечь вакхические оргии освобожденных штурмовиков, чья ненависть переросла в любовь. Пол представил себе, как ебутся они на том пляже, где он когда-то лежал в объятиях Ирми.
Он добрался до открытого пространства, где улица, по которой он уже бежал, пересекала широкий проспект. Надо было перейти его, чтобы попасть на узкую улочку, где находился пансион «Альстер». Над центром этого перекрестка звездой Вифлеема сиял яркий уличный фонарь, подвешенный к кресту сходившихся в одной точке проводов. Потом он увидел темные фигуры, бегущие, точно призраки, по краю широкой улицы, перед которой он остановился, наблюдая за ними. Бежали две группы: первую, в нацистской униформе, преследовали красные в кепках с кокардами, куртках или грубых шерстяных свитерах и брюках, казавшихся темно-синими или серыми. Вся одежда была мятой и лоснилась, поблескивая, как кожаная. Обе группы выкрикивали лозунги, среди которых Пол узнал знакомый «Deutschland erwach!», перекрываемый криками «Rote Front!»[40]40
«Проснись, Германия!»… «Красный фронт (рот-фронт)!» (нем.).
[Закрыть] второй группы. Красные, которые гнались за коричневорубашечниками, догнали их и стали на них набрасываться. Пол увидел, как блеснул нож. Один из группы, не облаченной в униформу и по этой причине казавшейся почти трогательно невоенной, упал на земли. Группа коричневорубашечников побежала дальше. Красные остановились, чтобы оказать помощь упавшему товарищу. Они подняли его и, по-видимому, поволокли прочь, во тьму. Обе группы уже скрылись из виду. Несколько секунд спустя, вдалеке, Пол услышал выстрел.
Он добрался до пансиона «Альстер», вошел в свою комнату, разделся и лег. Минут десять спустя он услышал, как по улице с резкими гудками промчались кареты «скорой помощи» и полицейские машины. Потом все стихло. Он уже знал, что не сможет заснуть. Ему привиделся взгляд Иоахима – такой же, как тогда, когда, сидя за столиком вегетарианского ресторана, он рассказывал о своей жизни с Генрихом, – взгляд кинорежиссера, который стоит за камерой и руководит актерами, занятыми в сцене. А заняты в той сцене были отряды юнцов, преследовавшие один другого во тьме. Уличный фонарь, светивший над перекрестком, походил уже не на звезду Вифлеема, а скорее на паука, испускающего нити света, которые прилипали к мальчишкам и опутывали их губительной серой паутиной. Дома по сторонам улицы казались теперь войсками, сосредоточенными и выстроенными во тьме. Вновь и вновь видел Пол толпу ребят в униформе, преследуемую толпой ребят в куртках, свитерах, матерчатых кепках и чем-то похожем на нарукавные повязки. Потом был стальной блеск ножа, и мальчишка падал, сраженный, и удирала банда нацистов, а красные поднимали своего товарища с земли.
Не услышь он так явственно визгливые гудки полицейских машин и «скорой помощи», он, возможно, решил бы, что все увиденное наяву ему просто приснилось.
Первый луч света, засиявший на стене над кроватью, подобен был другу, нежно положившему руку ему на плечо, другу, который убаюкал его вместо того, чтобы разбудить. Пол проспал до полудня. Встав, он пробежал глазами стихотворение, которое написал на прошлой неделе. Все было сплошной скукой. То, что он написал, не имело смысла. Он достал свой Дневник и описал в нем сцену прощания с Лотаром. Впервые за несколько недель выдался погожий денек. Комнату заливал солнечный свет. Он решил этим воспользоваться и сфотографироваться – «Портрет молодого поэта за рабочим столом». В его фотокамере имелся механизм задержки спуска для съемки автопортретов.
Он привинтил камеру к треноге и сфокусировал ее через матовое стеклышко на дальний край рабочего стола, стул и Дневник. Установив механизм задержки, он подошел к столу, сел на стул, взял ручку и принялся делать запись в своем Дневнике. Он старался сосредоточиться на том, что пишет, дабы на лице его отражалось вдохновение. Он услышал, как зажужжала камера. В тот самый миг, когда затвор объектива щелкнул и снимок был сделан, раздался настойчивый стук в дверь, и он услышал громкий, сердитый голос хозяйки: «Sie haben Besucher, Herr Schoner! – К вам гости», – после чего чья-то, но не ее, рука рывком растворила дверь, каковому жесту сопутствовал оглушительный хохот. Вошел Уильям Брэдшоу. Он сказал:
– Ну и ну! Именно этого и следовало ожидать! Делает собственный фотопортрет!
Брэдшоу был в твидовом пиджаке, сером вязаном жакете и серых фланелевых брюках. Через руку он перекинул теплое темно-синее пальто. Сопровождал его молодой человек с отечным лицом, вздернутым носом, пухлыми губами, маленькими свиными глазками. Его напомаженные волосы были приглажены назад, а каждая складка поразительно нового костюма казалась сведенной к точке, словно вершина пространственного треугольника. Обут он был в туфли, начищенные до такого блеска, что они смахивали на коричневые зеркала.
– Разреши мне представить Отто! – сказал Брэдшоу голосом, который свидетельствовал о том, что Отто находится под его надежным покровительством. Пол с восторгом пожал Отто руку. Отто выдал единственную известную ему английскую фразу:
– Очень рад.
– Как вы сюда попали? Почему не сообщили о своем приезде? Когда вы приехали? – спросил Пол.
– Вчера вечером. Мы сразу же тебе позвонили, но тебя не было. Мы только вчера решили ехать, совершенно неожиданно.
– Неожиданно? Почему?
– Откровенно говоря, позавчера ночью мы устроили жуткий скандал. Видишь ли, у нас с Отто отдельная комната в доме родителей Отто в Халлешес-Торе, рабочем районе, своего рода берлинском Ист-Энде. Когда я говорю «комната», на самом деле я имею в виду очень узкую кровать и пространство площадью дюймов двенадцать вокруг. Твоя комната по сравнению с той – просто хоромы, – сказал он, окинув взглядом внимательных, улыбчивых глаз потолок и стены Половой комнаты. – Поэтому такой шум, который мы подняли пару ночей назад, способен перебудить весь Халлешес-Тор, в результате чего едва ли приходится рассчитывать на горячую любовь со стороны соседей. Вот я и подумал, что лучше всего будет по-быстрому, хотя и только на какое-то время, сбежать. В данный исторический период берлинская полиция, строго говоря, не очень дружески расположена к иностранцам, и если бы мое разрешение на пребывание в Германии аннулировали, мы бы здорово влипли. Вот мы и купили Отто эту новенькую экипировку, а потом сели на поезд в Гамбург, чтобы нанести тебе визит. Я же предупреждал тебя, что мы можем заявиться без предварительного объявления. Мы сняли комнату, если ее можно так назвать, в привокзальной гостинице. Надеюсь, мы пришли не слишком рано.
Уильям остановился посреди комнаты. Улыбнувшись, он развел руками, как бы выражая этим жестом притворную беспомощность, а потом вновь опустил руки, издав короткий смешок. Он обнял Пола.
Пол сказал:
– Я страшно рад тебя видеть! Как долго ты сможешь здесь пробыть?
– Это, конечно, совершенно непростительно, Пол, но мы сможем пробыть здесь всего пару дней. Зато цель нашего визита состоит в том, чтобы уговорить тебя поехать в Берлин.
– Вы и вправду должны завтра ехать?
– Да, боюсь, наш визит будет очень коротким. Герр Фишль не только хочет, чтобы я написал для него сценарий, он еще и настаивает на том, чтобы я давал ему уроки английского. Дело в том, что уроки английского этому богатому кинорежиссеру я должен давать всю неделю. Это нечто вроде ускоренного курса, поскольку через неделю он должен ехать в Голливуд. Ни один из нас не может себе позволить пропустить ни единого урока, а я и подавно – после того, как купил Отто новый костюм. К тому же, как знать, может, и мне через несколько месяцев придется ехать в Голливуд. Само собой разумеется, я и с места не сдвинусь, если со мной не поедет Отто. Таково мое непременное условие, и Фишлю придется либо принять его, либо обойтись без меня.
Он посмотрел на Отто, который, в свою очередь, улыбнулся Полу, дружески ткнул его кулаком в бок и сказал: «Du»[41]41
«Ты». (нем.).
[Закрыть].
Уильям сел на кровать Пола, издал смешок, похожий на громкое кряканье и промычал: «Хм-м!»
Хотя Уильям и сказал, что его комната в берлинских трущобах меньше этой гамбургской, Пол чувствовал, что как место действия его комната уменьшилась до микроскопических размеров.
– Пол, – сказал Брэдшоу, – боюсь, следует признать, что за этот визит придется заплатить дорогой ценой. По-моему, я писал тебе о том, что отец Отто был лоцманом в гамбургском порту. Так вот, для того чтобы уговорить Отто сюда приехать, я пообещал ему, что мы совершим экскурсию по порту и осмотрим те места, которые, полагаю, по мнению Гамлета, мог бы облюбовать призрак его папаши. Кроме того, я пообещал Фишлю написать сцену, где некоторые кадры будут сняты в порту.
– Санкт-Паули, – сказал Пол. – Я и сам с радостью туда поеду. Разыщу кое-кого из своих друзей, и мы покажем вам с Отто район.
– Сделай одолжение, мы тоже с удовольствием там побываем. Уилмот много рассказывал мне о квартале публичных домов еще в двадцать седьмом году, когда впервые открыл для себя Гамбург. Однако, когда я говорил о порте, я имел в виду не Санкт-Паули, а именно порт – смолу, пароходы, сухие доки, верфи, деррики, подъемные краны, воду, нефть, рыб, моряков, всю шатию-братию.
В такси по дороге в порт Пол сказал:
– Этой ночью, точнее уже под утро, я испытал сильный шок. Я видел, как на улице, прямо под окнами моей комнаты банда нацистов убила одного парня из группы красных.
Это было не совсем точное описание случившегося, но Пол считал, что внимание Уильяма может привлечь только информация, преподнесенная в как можно более сжатом виде.
– Что же произошло? – спросил Уильям. И тогда Пол рассказал ему все. – Ну что ж, должен сказать, что это ужасно. Бесы! Свиньи! Но ведь и с нами в Берлине сплошь и рядом происходит нечто подобное. Для нас это как хлеб насущный. Только на прошлой неделе на Юландплац прямо у меня на глазах застрелили мальчишку. Убийцы сидели в машине и укатили так быстро, что я даже не успел разглядеть, из какой они группировки. И, конечно же, никакой полиции, никаких арестов, ровным счетом ничего. Думаю, он был коммунистом, но нельзя быть абсолютно уверенным в том, что все не было как раз наоборот – то есть, что это не коммунисты стреляли в нациста. Да и не так уж они отличаются друг от друга, переметнуться на другую сторону им ничего не стоит.
Наморщив лоб, он неотрывно смотрел вдаль, блестели глаза под соломенными крышами бровей, губы сжались и растянулись, точно он пробовал на вкус очень горькое лекарство.
– Все это в конце концов приведет к страшной катастрофе, – сказал он так, точно с ужасом отведал, каково на вкус будущее. – К развалу всего, к чему мы успели привыкнуть. Das Ende![42]42
Конец (нем.).
[Закрыть]
Когда они добрались до порта, пристань казалась уже совсем безлюдной, осталось разве что несколько безработных, матросов торгового флота и бродяг, да несколько человек, таскавших ящики и спешивших с поручениями. Не было ни туристов, ни рекламы экскурсий по гавани. Некоторое время они бесцельно прохаживались по пристани, и Пол испытывал знакомое чувство опустошенности, обыденное отчаяние, возникавшее в компании гостей, специально приехавших с неким намерением, для осуществления которого он ничего не сумел сделать. У Отто вид был угрюмый, а Уильям выглядел так, точно уже готов вернуться в Берлин. Потом Пол увидел, что к ним приближается человек, чье лицо показалось ему неуловимо знакомым по трехлетней давности временам. Внезапно он вспомнил, кто это такой: обладатель муссолиниевского подбородка, хозяин «Фохселя», бара, куда они с Эрнстом, Иоахимом и Вилли заходили в тот вечер, когда он впервые оказался в Санкт-Паули. Полу вспомнился переполненный бар с его гротескными украшениями: огромными летучими мышами, прибитыми к стенам, как гербы, чучелом аллигатора, изгородью из сушеной пампасной травы в конце стойки. Ему вспомнилось, как поражен он был полнейшим равнодушием этого старого мошенника к смеху над теми вещами, коими он себя окружил. И вот сей трактирщик брел вразвалку к краю причала, уставившись взглядом собственника на баркас, который был привязан к порыжевшей бетонной лестнице, спускавшейся вниз, к воде.
– Это ваш? – спросил Пол.
Хозяин бара, скрестив руки на груди, молча, без малейшего признака осмысления воззрился на Пола.
– Это ваш? – снова спросил старого морского волка Пол.
Владелец кабачка утвердительно зарычал.
Уильям Брэдшоу, уже вышедший вперед, с подчеркнутой учтивостью, легче дававшейся ему на немецком, чем на английском, спросил, не соблаговолит ли милостивый государь за некоторое вознаграждение взять маленькую группу из двух английских студентов и их юного немецкого друга – который приехал из Берлина, где живет и он сам, – в Rundfahrt[43]43
Круговую поездку (нем).
[Закрыть] по гавани на его необычайно красивом судне.
– Nein. Das will ich nicht[44]44
Нет. И не подумаю (нем.).
[Закрыть], – сказал трактирщик.
Но, быть может, любезный господин в незапамятные времена был знаком с отцом этого юного немецкого друга (вытаскивая в этот момент Отто вперед), который сопровождает их и выражает огромное желание совершить экскурсию по местам столь важной деятельности своего отца, бывшего двадцать лет назад боцманом в Гамбурге и Кюксхавене, предположил Уильям.
– Nein.
Уильям достал и высоко поднял банкноту достоинством в пятьдесят марок. Трактирщик сказал:
– Подождите десять минут.
Потом он пересек пристань в обратном направлении, вошел в боковую дверь маленького домика, в котором Пол узнал бар «Фохсель», и десять минут спустя вернулся с канистрой бензина под мышкой. Не сказав ни слова Уильяму с Полом, он кивнул Отто, который тут же спустился вслед за ним по бетонным ступенькам, прошел по толстой доске и скрылся внизу, в кубрике баркаса. В недрах баркаса раздался звук, похожий на свист. Затем Отто с хозяином появились вновь – Отто со стаканом и бутылкой в руках. Тем временем Уильям с Полом перешли на борт и мимо люка кубрика направились по палубе к носу судна. Раздался рев, и баркас, управляемый трактирщиком, который стоял на корме у румпеля, вышел в гавань. Отто, с бутылкой и стаканом, вновь скрылся внизу, в кубрике.
– Полагаю, Отто хочет пережить все это в одиночестве, – сказал Уильям. – Ему сейчас наша болтовня ни к чему.
На выкрашенном в желтый цвет треугольнике палубы, возле лебедки, лежал ржавый якорь. Пока баркас отчаливал от пристани и выходил в гавань, Уильям стоял лицом к морю, нахмурившись и напряженно всматриваясь вдаль. Его профиль с выступом носа под бровями походил на клюв альбатроса, зависшего в воздухе в нескольких фунтах над палубой китобойного судна. В складках по уголкам его рта появилось некое напряжение. Казалось, баркас повинуется его воле.
Пол сказал, рассмеявшись:
– Уильям, у тебя такой вид, будто ты ведешь судно исключительно силой воли.
Уильям расхохотался.
– Не сосредоточь я всю свою силу воли на том, чтобы удерживать судно на плаву, оно бы МОМЕНТАЛЬНО камнем пошло ко дну.
Он произнес это голосом, похожим на Уилмотов, отделив слово «моментально» от остальных. Потом он рявкнул, голосом уже целиком и полностью собственным:
DA
Damyata: весело вторила лодка
Кудеснику паруса и весла.
– Хм-м, – закончил он, после чего рявкнул вновь: Da! Damyata! – и, сознательно коверкая итальянское произношение: – Poi s’ascose nel foco che gli affina. – Затем последовало: Хм-м! «Дерзновенна минутная слабость» – эх, сколько я таких минут пережил! Слабость! Мне ли не знать!
Хотя некоторые подъемные краны казались покрытыми ржавчиной, стекла в окнах некоторых зданий – разбитыми, а некоторые доки – заброшенными, работа в порту кипела. Внимательно посмотрев на движущийся танкер и на судно из Каракаса, разгружавшееся у пристани, Уильям сказал:
– Ну что ж, суть Гамбурга я уловил. Как обычно, Уилмот был прав.
– Судя по тому, что ты мне писал, Гамбург едва ли волнует так, как Берлин.
– Ничто, абсолютно ничто на нашей земле не может сравниться с тем волнением, которое пробуждает огромный порт со всеми его атрибутами – кранами, топливными баками и сухими доками, подобными нацеленным в море орудиям. «В портах дают морю названья»! Хм-м, – сказал он, оглядывая упомянутые объекты. – Вся эта техника! Я люблю твое стихотворение «Порт». Порт, который изрыгает и всасывает битком набитые грузами корабли. Точно огромное гудящее, режущее, дымящееся влагалище, в которое УСТРЕМЛЯЮТСЯ иноязычные сперматозоиды со всего света. Или задний проход, который выталкивает обратно в океан весь свой хлам, все помои, – добавил он.
Он выкрикивал все это, вкладывая в каждое слово смехотворно преувеличенный смысл, в духе всей своей группировки, состоявшей из него самого, Уилмота, да еще от силы двоих.
– Зато люди в Берлине наверняка интереснее жителей Гамбурга, – настаивал Пол.
– Люди! Вот именно! Да, но люди уменьшают все до своих людских размеров, тогда как порт достигает масштабов… ага, луны. Гамбург – это город каменных набережных и гигантских портовых кранов… хм-м! Стальных журавлей! Берлин же – громадный шлюз, дренажная канава! – Он снова отрывисто рявкнул, сопроводив этот звук очередным «хм-м!» – В Берлине все равны, действительно равны, как личности, а не как некие ячейки общества или общие знаменатели. Там есть банды нацистов и банды коммунистов. Но берлинцам это, по правде говоря, безразлично. Они вне политики, как бы по ту сторону добра и зла. В Берлине все разговаривают друг с другом, хотя и вполголоса. Но каждый все узнает обо всех с первого взгляда. Богатые и бедные, профессора и студенты, интеллектуалы и буфетчики – все одинаково вульгарны. Все сводится к сексу. Это город без девственников. Девственников нет даже среди котят и щенят. Берлинский храм, куда все приходят молиться – это попросту пансион, а настоятельница – хозяйка, которая знает всю подноготную своих жильцов. Как верно заметил кто-то из древних греков – кажется, Гомер, Эсхил или Платон, – «Панта рей», все течет. Наверняка он имел в виду Берлин. Да и Гете, разумеется, все это видел. Потрясающе: «Und was uns alle bindet, das Gemeine»[45]45
«Что всех нас объединяет, так это вульгарность» (нем.).
[Закрыть]. Наверняка он имел в виду Берлин.
– Что это значит?
– Откуда мне знать? Я же не профессор! – Довольный собой, он разразился кудахтающим смехом, закончившимся очередным хмыканьем, и принялся, точно крыльями, хлопать себя по бокам руками.
– Ну, хоть приблизительно переведи!
– Ja! Разве что очень приблизительно, так приблизительно, что по-английски ты поймешь еще меньше, чем не понимаешь по-немецки! Я ведь сказал, что не имею ни малейшего понятия, что это значит. Я не профессор! Однажды я услышал эту фразу от Уилмота и счел ее остроумной, вот теперь с ней и мыкаюсь.
– Ну хотя бы приблизительно, очень приблизительно.
– Ну, я знаю лишь то, что это значит в моем представлении, которое может оказаться абсолютно неверным. Вот что это значит, по-моему: «Всех нас объединяет одно – мы вульгарны!» – Английские слова он произнес как пародию на ту же фразу, сказанную им по-немецки. – Вульгарны! Неисправимо, безнадежно вульгарны! Хм-м! Пошляки! Грубияны!
Баркас возвратился к пристани, на то место, где они на него садились. Они извлекли из кубрика Отто. Вид у него был слегка ошарашенный. Уильям сказал:
– Очевидно, на Отто здесь снизошло некое озарение. Рассказывать он об этом не хочет, а я не буду спрашивать. Для него это «Le retour à Hamburg»[46]46
«Возвращение к Гамбургу» (фр.).
[Закрыть]. Как у Пруста. Обретение времени, утраченного отцом еще до рождения сына. В конце пути – начало новой жизни.
Они доехали на такси до привокзальной гостиницы, где остановились Уильям с Отто. Уильям сбегал к себе в номер за первой частью своего романа «Северо-западный перевал». Он вручил рукопись Полу, который достал из кармана шесть отпечатанных на машинке стихотворений и отдал их Уильяму.
Пол с Уильямом договорились встретиться вдвоем в шесть часов вечера в гостиничном кафе и обсудить там свои труды. Отто, которому требовалось как следует отдохнуть, намеревался проспать до ужина.
Пол поспешил к себе в комнату, купив по дороге бутерброд, дабы не терять в столовой пансиона целый час из времени, отпущенного на чтение «Северо-западного перевала». Он лег на кровать, вскрыл конверт, где лежала рукопись романа, и самозабвенно начал читать. Почерк у Уильяма был мелкий, ясный, как печатный шрифт, да и не очень похожий на рукописный. В нем таился выразительный взгляд, который обращен был на Пола, пока тот читал. Сюжет был таким же ясным, как почерк. В романе Уильям безжалостно, но с любовью к своим берлинским персонажам, обнажал авторским скальпелем самые сокровенные мотивы их поведения.
Два часа спустя, сидя в кафе, Пол поведал Уильяму о том, как взволновал его «Северо-западный перевал». Столь же взволнованно Уильям похвалил и покритиковал кое-какие строки из стихов Пола. Потом они заговорили о поэзии Уилмота.
То был миг торжества молодых писателей, пребывавших в полном согласии друг с другом и чувствовавших, что в трудах их, хотя и написанных раздельно, выражены общие взгляды на жизнь их поколения. Сознавая, сколь не похожи они и в жизни, и в творчестве, они все же были солидарны друг с другом в своих честолюбивых замыслах, в своих триумфах и неудачах. Один переживал успех другого так же остро, как собственный. Для Пола поэзия Уилмота, проза Брэдшоу были сродни крови, текущей в его собственных жилах. Роман о Гамбурге, который он мысленно сочинял, был его письмом Уилмоту и Брэдшоу.
Уильям настоял на том, чтобы поели они в весьма недорогом ресторане рядом с вокзалом. Он переживал период аскетизма – жил, как Карл, герой его романа, прототипом коего служил Отто, то есть жил практически впроголодь, хотя, по правде сказать, настоящий Отто добился от Уильяма повышения своего уровня жизни. Уильям выбрал самое дешевое блюдо в меню. Называлось оно Lungensuppe – суп из
легких. У Уильяма имелся и дополнительный повод сесть на диету: он желал своим бессловесным примером – своего рода пантомимой из игры в «немое крамбо» – продемонстрировать Отто, что он жертвует собой, воздерживаясь от нормальной пищи, дабы расплатиться за костюм и туфли. Следующее требование со стороны Отто, о чем свидетельствовало и его поведение, чревато было для Уильяма смертью. На Отто, который заказал Schweinkotelette[47]47
Свиные котлеты (нем.).
[Закрыть], подобные театральные эффекты, казалось, не действовали. Отчасти ради оказания моральной поддержки, а отчасти для того, чтобы обратить внимание Отто на незавидное положение Уильяма, Пол принялся настойчиво предлагать Уильяму полпорции морского угря, которого заказал себе. Уильям с видом Христа на кресте отказался, промолвив:
– Was ich gegessen habe, habe ich gegessen[48]48
Что я съел, то и съел (нем.).
[Закрыть].
Он умел одновременно быть и комиком, и трагиком.
После этой ужасной трапезы они направились в Lokal «Три звезды», где Пол договорился встретиться с Иоахимом и Эрнстом, которых они там и застали. Иоахим сердечно пожал Уильяму руку:
– Очень рад познакомиться. Пол мне так много о вас рассказывал.
Взяв протянутую руку Отто, Иоахим уставился на него с нескрываемым изумлением, заинтригованный подчеркнутым великолепием костюма и туфель. Уильям оцепенел. Эрнст, придерживаясь ненавязчивого стиля поведения, который он усвоил в Кембридже, рук пожимать не стал, а лишь сдержанно улыбнулся Уильяму и Отто. В честь Уильяма он надел блейзер Даунинг-Колледжа.
Уильям окинул недовольным взглядом напоминающий часовню переполненный зал с сидящими за многочисленными столиками добропорядочными буржуями обоего пола, с оркестром у одной стены и длинной стойкой с высокими табуретами у другой. Воцарилось молчание, и Уильям, избегая взглядов соседей по столику, неотрывно уставился через весь зал на противоположную голую стену. Потом Эрнст сказал Уильяму:
– Я слышал, вы учились в Кембридже. Интересно, совпадают ли периоды нашего пребывания в университете?
– Когда вы пребывали в Кембридже, герр доктор Штокман? – спросил Уильям с учтивостью, подобной тончайшей струйке воды поверх ледника.
– Ну, к сожалению, я проучился там только один год, в двадцать седьмом, после того как закончил учебу в Гейдельберге.
– Ах, в двадцать седьмом. Тогда меня как раз исключили из Кембриджа. Боюсь, наши с вами пути едва ли могли пересечься.
– Вас исключили? Наверняка это произошло в результате какого-то недоразумения?
– Вовсе нет, это было совершенно логичным следствием вполне сознательной провокации с моей стороны.
– Значит, это наверняка была какая-то студенческая шалость, какой-то розыгрыш? Надо мной, например, как я обнаружил, порой шутили не совсем безобидно. Так что могу вам посочувствовать.
– Ну что ж, наверно, можно назвать это шуткой.
Эрнст пребывал в таком замешательстве, что его английская речь сделалась невнятной, и в следующей фразе он перешел на привычный немецкий:
– Wenn ich fragen darf…[49]49
Осмелюсь спросить (нем.).
[Закрыть] Что же произошло, осмелюсь спросить?
– На первом экзамене на степень бакалавра с отличием я ответил на вопросник по истории шуточными стихами.
Эрнст, в котором проснулся коллекционер, выпрямился, и глаза его заблестели.
– Это же весьма, весьма интересно! Что же произошло с подлинником рукописи? Доступ к нему имеется?








