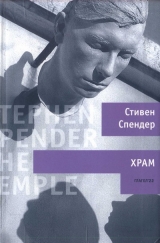
Текст книги "Храм"
Автор книги: Стивен Спендер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Пол крепко схватил Лотара за плечо и втолкнул его в комнату номер семнадцать, тремя дверями дальше по коридору. Как только они вошли, он запер дверь и сказал:
– Раздевайся!
Лотар улыбнулся и с готовностью повиновался.
– Теперь встань на стол.
Установив камеру, привинченную к треноге, возле кровати и взглянув, прищурившись сквозь открытую заднюю стенку на матовый стеклянный экранчик, он сфокусировал изображение Лотара, стоящего на столе. На экранчике Лотар виден был вверх ногами и зеркально перевернутым. Он походил на отражение мраморной статуи в озере. Пол мысленно устранил это искажение и увидел Лотара, стоящего, выпрямившись, на столе-пьедестале. Мускулатура была подобна слоям облаков жемчужного цвета, горизонтальным вдоль плеч, сферическим на груди, животе, ягодицах и бедрах. Над шеей тело его увенчано было шапкой волос, под которой, в профиль, виднелись запятая глаза, угловая скобка прямого носа и круглая – губ.
Пол сделал снимок под тем же самым углом, под которым Иоахим некогда сфотографировал стоящего у озера обнаженного юношу – та фотография не давала Полу покоя с тех самых пор, как он увидел ее три года назад в квартире Иоахима и назвал «Храмом». Он израсходовал всю свою пленку – двенадцать кадров – и весь магний для вспышки. В черную коробку камеры он, точно в ловушку, заманил образ Лотара – такой, каким он был через час после того, как Пол увидел его стоящим у силомера, и такой, каким этот образ сохранится навсегда, как бы ни было суждено измениться им с Лотаром за оставшуюся жизнь, после легендарного мига прозрения, отступающего все дальше в прошлое.
Однако было совершенно очевидно, что, если Лотар и пришел ради чего-то иного, то лишь ради денег. И тогда Пол осознал, что ему хочется достать из кармана вознаграждение (двадцать марок) за секс и сказать: «Вот деньги, я за них ничего не требую. Займемся мы чем-нибудь или нет, я отдам их тебе, потому что мы друзья, и чем бы мы ни занимались в дальнейшем, все будет чисто по-дружески. Если тебе нужны будут деньги, а я смогу их тебе дать, это никак не будет связано с чем-то иным».
Подумав так, Пол испытал чувство облегчения, которое его взволновало. За ним последовало осознание собственного лицемерия.
Прежде чем одеться, Лотар спросил:
– Это все?
– Да, на сегодня, – сказал Лотар и дал ему двадцать марок. – Давай встретимся завтра.
– Du bist mein englischer Freund[30]30
Ты мой английский друг (нем.).
[Закрыть], – сказал Лотар.
Написано Полом во время ожидания Иоахима Ленца в гамбургском вегетарианском ресторане 11 ноября (День заключения перемирия) на листе бумаги, предназначенном для последующего вклеивания в его Дневник:
Друг, чьего опоздания ждешь, всегда приходит еще позже, чем ты ожидал. Он превышает кредит времени, который ты ему выделил. Однако, в тот самый момент, когда терпение твое иссякает и ты готов покинуть условленное место встречи, он появляется – и тогда чувство радости и облегчения при виде него сводит на нет все превышение кредита, и вы обнимаетесь.
Иоахим появился через три четверти часа после того, как Пол это написал, дав Полу время вспомнить, как он ждал его три года назад возле кельнской гостиницы, куда Иоахим зашел, чтобы поискать вероятные адреса Курта Гроте, мальчишки, с которым они познакомились в Schwimmbad.
Иоахим взял руку Пола в свою и приветствовал его так сердечно, что промежуток ожидания (не час, а три года – с сентября двадцать девятого до ноября тридцать второго) в тот же миг показался заполненным.
Иоахим сказал:
– Пол! Похоже, ты стал бледнее, правда, нынче зима. – Потом, пристально на него посмотрев: – Кажется, лицо у тебя округлилось. Ты что, стал так чудовищно много есть?
Его же лицо ничуть, казалось, не изменилось, разве что прибавилось, возможно, немного морщин. Лицо Иоахима было таким же загорелым, как летом, но это могло объясняться употреблением пудры, имитирующей загар.
В вегетарианском ресторане с его деревянными столами царила приятная атмосфера легкости и беззаботности, царил дух преданности здоровой пище. Иоахим заказал ореховые котлеты и десерт из свежих фруктов, Пол – омлет и салат.
– Я опоздал, – сказал Иоахим, и не подумав, однако, извиниться, – потому что все утро провел за самым дурацким из всех возможные занятий. Сущий идиотизм!
– Чем же ты занимался?
– Ну, сегодня у нас в Германии выборы, и я вроде бы обязан голосовать, а поскольку в политике я ничего не смыслю, я все утро читал программы пятнадцати политических партий.
– А их у вас пятнадцать?
– Гораздо больше – всего, по-моему, тридцать семь.
– Откуда их столько?
– Все из-за дивной системы, которая существует у нас в Веймарской республике.
– Что это за система?
– Точно не знаю, как она называется, но, как следствие ее, каждый, кто создаст политическую партию, которая сумеет получить во всей Германии одну пятисотую часть голосов всех немецких избирателей (кажется, именно таково общее количество парламентских мест в Рейхстаге), может выдвинуть кандидата в Рейхстаг. По-моему, есть даже партия любителей такс.
– За кого же ты будешь голосовать?
– Я на выборы не пойду.
– Почему?
– Ну, я прочел манифесты всех партий и решил, что единственный, который имеет какой-то смысл – это манифест коммунистов.
– В таком случае, почему же ты не голосуешь за коммунистов?
– Я же торговец. Проголосовать за коммунистов – значит проголосовать против собственного существования. К тому же коммунисты не смогли бы терпимо относиться к такому человеку, как я – к человеку, который живет ради вещей, не имеющих никакого отношения к политике. Они же считают, что все связано с политикой, что каждый человек либо за них, либо против. А я не хочу жить в таком мире, где каждый мой поступок оценивается как совершенный либо ради политики, либо против нее. Даже будь я согласен с коммунистами во всем остальном, в этом я с ними согласиться не смог бы.
– Я написал стихотворение о нашем путешествии по берегу Рейна, – сказал Пол.
– Стихотворение? О нашем путешествии по берегу Рейна? Я знаю, что у тебя вышла книжка рассказов – мне Эрнст говорил, – но не знал, что ты сейчас пишешь стихи.
Они заказали кофе.
– Вот оно, – сказал Пол и, достав из кармана листок с машинописным текстом, протянул его через стол Иоахиму, который тотчас же принялся читать, держа листок перед собой. Пол наблюдал за тем, как он переводит взгляд из стороны в сторону, читая строки – первую, вторую, третью. Пол, знавший стихотворение наизусть, мог следить за каждой строкой, которую читал Иоахим, как если бы способен был прочесть ее сквозь прозрачную бумагу справа налево в зеркальном отражении. Первые строки были такие:
Каприз Времен, верховный судия,
Не смерть провозглашает, а любовь друзей.
Под куполом небесным, под палящим солнцем
Стоит нагое трио: новый, загорелый немец,
Приказчик-коммунист и англичанин – я.
Пол хотел, чтобы ничто не отвлекало Иоахима. У него возникло желание накричать на посетителей ресторана, заставить их замолчать и перестать так громко стучать ножами и вилками по тарелкам, грызть орехи и жевать хрустящие на желтых от омлета зубах салатные листья. Сам же он, являя собою образец молчаливости и внимательности, смотрел на то, как смотрит на его строчки Иоахим.
Его беспокоило то, что первые две строки стихотворения не совсем понятны. Он был почти уверен, что Иоахим начнет его о них расспрашивать. Однако, хотя Иоахим и помедлил, казалось, прежде чем перевести взгляд на третью строчку (а потом и в нескольких других местах), он дочитал стихотворение до конца. Потом он поднял взгляд и серьезно, не проронив ни слова, посмотрел Полу в глаза. Снова взяв листок, он прочел стихотворение от начала до конца, на сей раз быстрее. Затем он прочел первые две строки вслух.
– «Каприз Времен, верховный судия, / Не смерть провозглашает, а любовь друзей». Не понимаю.
Пол, задрожав и густо покраснев, сделал над собой чудовищное усилие и сказал:
– Действие стихотворения происходит летом двадцать девятого года, когда ты, я, а потом и Генрих совершали наш поход по берегу Рейна, где постоянно светило солнце. Будь это двенадцатью годами раньше, у нас бы ничего не вышло, потому что в восемнадцатом году молодые немцы и молодые англичане убивали друг друга на войне. В моем стихотворении сказано:
Но возвратись лет на двенадцать вспять,
усталая планета:
Готовы двое к бою, в солдат обращены.
Потом в стихотворении предсказывается, что еще через десять лет, в тридцать девятом, начнется новая война, на сей раз – мировая революция:
Или вертись вперед еще с десяток лет:
И третий – тот приказчик с обидой на весь
мир в глазах —
Возводит свой эдем кровавыми руками,
Возводит на останках наших мирный рай.
«Каприз времен» в стихотворении – на самом деле не каприз, а история человечества, «верховный судия», который, правда, может показаться капризным, поскольку решил, что в семнадцатом году молодые немцы вроде тебя и молодые англичане вроде меня должны друг друга убивать. Зато в двадцать девятом он позволил нам подружиться. Возможно, в двадцать девятом мы особенно нежно любили друг друга потому, что бессознательно чувствовали себя при этом воскресшими мертвецами, обретшими плоть призраками погибших в семнадцатом, а может, и теми, кому суждено погибнуть в тридцать девятом.
Иоахим смотрел на него через стол тем же взглядом широко раскрытых глаз, который запомнился Полу с того дня двадцать девятого года, когда они говорили о поэзии – когда Иоахим повалил на землю Генриха. Пол чувствовал, что обязан продолжить. Голосом, в котором, казалось, на весь ресторан зазвучали назидательные нотки, он сказал:
– Один английский поэт, который во время Великой войны служил офицером во Франции (его звали Уилфрид Оуэн, и в ноябре восемнадцатого он погиб), написал стихотворение под названием «Странная встреча». В нем происходит разговор между английским и немецким солдатами – через несколько минут после гибели обоих, после того, как они убили друг друга. Они говорят о той жизни, которой у них уже никогда не будет из-за войны, о возможной любви между ними, превращенной в ненависть, о будущих войнах, что начнутся под сильнейшим воздействием всей накопленной ненависти. Заканчивается стихотворение строкой: «А я – тот враг, что ты убил, мой друг», – строкой, в которой выражена мысль о том, что они – враги, призванные на фронт ради механизированного убийства, и что, будь на земле мир, они бы подружились и полюбили друг друга, а быть может, и стали любовниками.
Пол обливался потом, пытаясь растолковать Иоахиму суть своего стихотворения. Казалось, его голос, его пронзительно звучащие английские слова, действительно заглушают немецкую речь за соседними столиками.
Иоахим сказал:
– Значит, по-твоему, через десять лет, в тридцать девятом, мы, немцы, возможно, будем убивать вас, англичан, а приказчик-коммунист «с обидой на весь мир в глазах» будет убивать и вас, и нас во имя мировой революции? А в двадцать девятом мы, значит, были друзьями и не убивали друг друга, а стояли нагишом под солнцем, купались и все вместе от души веселились. – Он вновь взял со стола листок со стихотворением и прочел: – «Стоит нагое трио: новый, загорелый немец, приказчик-коммунист и англичанин – я». Новый, загорелый немец – это я, ты – «англичанин – я». Но кто такой этот приказчик-коммунист… коммунист, – продолжал он, поднеся листок поближе к глазам и прочитав пару строчек, – кто «возводит свой эдем кровавыми руками», у кого «обида на весь мир в глазах»? Почему?
– Наверно, я думал о Генрихе, хотя это и не совсем о нем. Дело в том, что по замыслу в стихотворении требуется персонаж, который убивает двоих других во время революционной войны тридцать девятого года – в совершенно новой ситуации. Эта идея возникла у меня после кое-каких слов, сказанных Генрихом во время нашего похода.
– Но если коммунист, который убивает своих немецкого и английского друзей во время мировой войны или революции, – не Генрих, значит, в стихотворении вовсе не рассказывается о том, как мы втроем путешествовали вверх вдоль Рейна, – сказал Иоахим, вновь, как показалось Полу, сознательно отказываясь понимать.
Пол почувствовал крайнюю необходимость доказать, что в его стихотворении говорится именно о нем, Иоахиме и Генрихе.
– Но разве ты забыл тот день, когда мы спустились с холма после того, как осмотрели статую Германии, и Генрих сказал, что он коммунист? Разве ты не помнишь, как швырнул его на землю?
Об этом случае они не говорили еще ни разу.
Иоахим очень пристально посмотрел на Пола и медленно покачал головой.
– Нет, я не помню, чтобы Генрих когда-нибудь говорил, что он коммунист. Да и о том, что он когда-либо называл себя приказчиком «с обидой на весь мир в глазах» – тоже не помню. Все это связано только с твоим стихотворением. Генрих – коммунист! Нелепое предположение! Да и швырнуть его на землю я никогда бы не смог – разве что забавы ради, во время игры. Но только не тогда! Только не во время нашего похода по берегу Рейна! Разве что потом, в Гамбурге.
– Ну что ж, тогда это стихотворение не о нас. Просто стихотворение, – сказал Пол, сдаваясь.
Иоахим вернул стихотворение Полу, как бы исчерпав тем самым тему поэзии. Очень медленно и очень осторожно, не желая думать, не желая понимать, он произнес:
– А с Генрихом из-за того, что он был коммунистом, ничего подобного произойти не могло бы. Он никогда им не был.
– Кем же он был? Кто он?
– Нацист, – сказал Иоахим.
После этого в разговоре наступила пауза.
– Он всегда был нацистом? – спросил наконец Пол.
– Да нет, не всегда. Еще несколько недель назад не был. – Поколебавшись, он добавил: – По-моему. Так он говорит.
– Кем же он был, когда мы познакомились?
– Никем. Никем. Абсолютно никем. Просто самим собой, Генрихом, человеком, быть может, безнравственным, но Генрихом, человеком. Он был красавцем.
Желая перевести разговор на другую тему, Пол спросил:
– А как прошла последняя неделя нашего путешествия? Нет, не «нашего», твоего с Генрихом – то есть после того, как я уехал?
Казалось, Иоахим повеселел. Он оживился. Он погрузился в прошлое. Взгляд у него стал таким, точно он вновь все это увидел.
– Это было чудесно! Чудесно!
– Вы продолжили поход? По берегу Мозеля?
– Все оставалось по-прежнему. До самого последнего дня стояла прекрасная погода. Знаю, ты считал, что должен уехать и оставить нас с Генрихом одних – с твоей стороны это было очень любезно, но мы по тебе скучали. И Генрих тоже. Но я, наверно, скучал больше, потому что мне не хватало наших с тобой утренних разговоров, когда мы бывали одни и говорили СЕРЬЕЗНО, почти так же, как сейчас – хотя, наверно, все-таки не совсем.
– А что произошло, когда путешествие закончилось?
– Я уехал в Берлин по делам отцовской фирмы. А Генрих в это время собирался съездить в свою баварскую деревню, навестить мать. Я дал ему для нее немного денег, он ведь говорил, что отдает ей весь свой «заработок» и что зарабатывает только для того, чтобы ее содержать! Помнишь, он об этом говорил? Он на три дня уехал в Мюнхен. Не знаю, чем он там занимался, но, похоже, он лишился нового костюма, который я ему подарил. Быть может, он продал его, а деньги отдал матери под видом заработка! Но что бы там ни произошло, на самом-то деле я был очень рад, потому что в результате, когда я встречал его несколько дней спустя на гамбургском вокзале, на нем были его кожаные штанишки с подтяжками и рубашка – та самая одежда, которую он носил, когда мы познакомились в Бингене. Так чудесно было увидеть его одетым подобным образом на перроне, в толпе коммерсантов и туристов!
– Он что, до сих пор носит свои штанишки?
– Нет, я купил ему по меньшей мере пять разных костюмов – летний, зимний, весенний и осенний, даже один настоящего английского покроя, с тонкими полосками на пиджаке и брюках. Он постригся и сделал себе завивку, он стал носить начищенные до блеска коричневые кожаные туфли. Он сделался настоящим щеголем и вскоре уже ничем не отличался от молодых гамбургских модников, правда, нечто провинциальное в нем так и осталось, отчего некоторым моим друзьям он казался таким НЕВИННЫМ. Свои кожаные штанишки он сохранил для маскарадов, которые были очень популярны. Он пользовался больших успехом у многих моих друзей, да и у кучи других людей, которых друзьями не назовешь – правда, кроме Эрнста, Эрнст всегда его недолюбливал.
– Тебя это задевало?
– Отношение Эрнста? Нет, я был рад, что нашелся человек, который его не любит. Зачастую я очень ревновал. Я устраивал УЖАСНЫЕ сцены. Мы оба плакали. Но в глубине души я не очень огорчался, поскольку считал, что, даже будучи страшным лжецом, как и во всем прочем своем мошенничестве, по отношению к самому себе он правдив. Я никогда и не считал его ХОРОШИМ. Он нравился мне за его хитрость, за все это вранье про его деревню, вроде той болтовни, которую мы услышали, когда с ним познакомились. Все это было так забавно, и его безнравственность меня ничуть не огорчала.
– Выходит, ты хотел, чтобы он всегда таким оставался?
– Да, таким, каким был, когда ты сказал мне, что он тебе не нравится.
– Это было всего лишь первое впечатление.
– Он был просто рысью или лисой, каким-то маленьким зверьком, хитрым врунишкой.
Пол беспокойно заерзал на стуле.
– Чем же он целыми днями в Гамбурге занимается?
– Ну, много месяцев он либо сидел в моей квартире, либо ходил в гости – иногда к моим друзьям, а иногда я и сам не знаю куда. Может, зарабатывал деньги, чтобы посылать матери! Правда, работу найти нелегко. Кругом сплошная безработица – Arbeitslosigkeit. В конце концов до меня дошло, что он должен ЧЕМ-НИБУДЬ заняться. Тогда я вспомнил, что у меня есть знакомый по имени Эрих Хануссен, владелец магазина английского стиля. Он торгует не одеждой, а предметами украшения домашнего интерьера – тканями, столами, стульями, светильниками, керамикой. Все с виду ручной работы и ручной покраски – и все с виду очень, как мне всегда казалось, ДУРАЦКОЕ. Я представлял себе, как все это изготавливают старые английские дамы, живущие вместе со своими кошками в загородных коттеджах. Ты же знаешь, как обожают в Гамбурге ВСЕ английское. Магазин называется «Дом прекрасный», и можешь себе представить, какие шуточки начали звучать, когда Генрих приступил к работе – ведь Хануссен предложил ему работу сразу же, как только его увидел. «А самый прекрасный предмет в „Доме прекрасном“ продается?»
Иоахим закурил. Уже вечерело, и ресторан постепенно пустел.
– Эриха Хануссена прозвали «Эрихом Шведом». Не знаю, швед он или нет, но фамилия Хануссен ОЧЕНЬ похожа на нордическую, да она и есть скандинавская. Эрих родом из Любека, у него белокурые волосы, голубые глаза, очень светлые, и рыжие веснушки.
С сигаретой в руке Иоахим выглядел так, точно он с огромным презрением пускает Хануссену в лицо кольца дыма.
Он продолжал:
– У Эриха есть дом на Балтике, неподалеку от Альтамюнде, где вы с Эрнстом когда-то очень неплохо провели выходные, помнишь?
– У меня это одно из самых ярких воспоминаний в жизни! Я помню каждую секунду! Каждая секунда казалась столетием.
– Так вот, Генрих почти каждые выходные проводит с Хануссеном и его семьей в Альтамюнде.
– Они стали любовниками?
– Нет-нет – отнюдь. У Эриха белокурая жена, два белокурых сына и две белокурые дочки, все на одно лицо – и все похожи на него. Любовью они с Генрихом не занимаются. Никогда. – Он умолк, как бы оценивая это свое утверждение, а потом уверенно повторил: – Никогда.
– Зачем же тогда Генрих туда ездит?
– Потому что знает, что Хануссен отстаивает все то, что я НЕНАВИЖУ. – В разговоре вновь наступила пауза.
Пол попросил у Иоахима сигарету.
– Ты действительно думаешь, что Генрих тебя ненавидит?
Иоахим вновь заговорил в свойственной ему манере – избегая ответов на прямые вопросы.
– Когда Генрих начал проводить выходные с Хануссеном, его отношение ко мне изменилось. Конечно, это произошло не сразу. Постепенно он стал держаться высокомерно, у него появились надменные, покровительственные манеры. Поначалу мне было смешно слушать, как он говорит, что все вещи, приобретенные мной для дома в «Баухаусе», буржуазны и что все великие художники, которые там преподают – Гропиус, Мохоли Наги, Пауль Клее – меня поражало то, что он знает и правильно произносит их имена… не такой уж он, в общем-то, и дурак… что они евреи и представители декадентской культуры. Слушать, как он несет всю эту околесицу о декадансе и буржуазии, было поначалу довольно ЗАБАВНО. Но потом я начал понимать, кто ему все это внушает. Это произошло, когда он заговорил о том, что я не способен понять новое поколение патриотически настроенных, чистокровных немцев, потому что я декадент, эстет-индивидуалист, для которого искусство, красота и личное самовыражение важнее, чем немецкая нация. Потом он заговорил о нордической расе и о том, насколько все остальные нации ниже германской. Создавалось впечатление, будто это уже не тот человек, которого я знаю, а некая анонимная единица, частица Молодежи, сплошь облаченной в униформу, повсюду расхаживающей с важным видом и лишенной убеждений, за исключением тех, что внушили ей ее вожди. Тогда-то я и обнаружил, что во время этих выходных у Эриха Хануссена он состоит в группе Хануссеновых сторонников, которые проводят в лесу военные учения – упражняются в стрельбе, учатся убивать своих политических противников – коммунистов, социалистов, либералов, – и таких людей, как мы с тобой.
– И все-таки из твоих слов отнюдь не следует, что он тебя ненавидит. То, что Хануссен тебя ненавидит – возможно. А Генрих подпал под влияние Хануссена. Но, возможно, из этого следует только то, что он на тебя очень обижен. А обижен он наверняка потому, что любит тебя.
Вид у Иоахима был усталый. С интересом, показавшимся уже слабеющим, он спросил:
– Как такое может быть?
– Возможно, он обижен на тебя за то, что ты любишь его таким, каким его себе представляешь – то есть безнравственным. Возможно, по его мнению, такого рода любовь свидетельствует о том, что ты смотришь на него свысока.
– В таком случае, он обижается на меня за то, что я люблю его таким, каков он на самом деле – по крайней мере, каким он был раньше. А теперь, со своим Хануссеном, он превратился в ничто, в пустое место. Ты же не хочешь сказать, что он не обманщик, правда?
– Вполне возможно, что он такой, как ты говоришь. Я хочу сказать только одно: если он чувствует, что ты любишь его именно за это, он может также почувствовать, что ты втискиваешь его в рамки своего о нем представления. Возможно, есть у него какая-то черта характера, благодаря которой он хочет стать другим, и ему бы хотелось, чтобы ты полюбил в нем эту черту.
С довольно тяжеловесной иронией, в которой Пол уловил нотки уныния, Иоахим сказал:
– Выходит, его обида на меня выражается в том, что он становится еще хуже, чем я думал? Переставая быть человеком, которого я люблю, он уничтожает в себе все человеческое, делается никем, ничем. Просто нулем в политической программе насилия.
– Ты действительно так считаешь?
– Да, и я скажу тебе, почему. Большую часть прошедшей недели, в том числе выходные, Генриха не было дома – наверно, он ездил на Балтику. Он не сказал мне, что уезжает. В конце концов я решил выяснить, что происходит, и начал рыться в его вещах, которые остались в шкафу. То, что я нашел, положило конец моим сомнениям. Я решил, что мы должны расстаться. Это была униформа нацистского штурмовика – очень нарядная парадная униформа, которую он, наверно, приберегал для особых случаев, иначе он взял бы ее с собой.
– Что же ты сделал, когда ее обнаружил?
– Что я сделал? Наверно, ты сочтешь меня круглым идиотом. Но что мне еще оставалось? Я скажу тебе, что я сделал. Я плюнул на нее – не раз и не два, а, по меньшей мере, раз сто. Я всю ее заплевал. Когда Генрих это увидит, он долго будет теряться в догадках о том, что случилось с его замечательной униформой. Плевки к тому времени уже высохнут, и он наверняка подумает, что ее испачкали своими следами улитки. Потом я позвонил ему и сказал, что нам придется расстаться.
– Он еще не видел своей униформы?
– Нет, от Хануссена он должен приехать сегодня. Вечером, если он вернется ко мне, он ее, конечно, увидит, а я уверен, что он зайдет за вещами и сразу уйдет, чтобы не пришлось со мной прощаться, ведь он до смерти боится прощаний. Он знает, что вечером я иду к маме и дома меня не будет.
Официанты убирали со столов грязную посуду и готовились к вечернему наплыву посетителей.
Внезапно Иоахимом завладела некая мысль, и он поднялся.
– Пойдем повидаемся с ними!
– С кем?
– Пойдем в «Дом прекрасный». Я опоздаю на работу, но это ерунда. Хочу, чтобы ты увидел Эриха Хануссена, а потом высказал свое мнение. К тому же ты наверняка будешь рад увидеться с Генрихом. Вы же так давно не виделись. Сразу поймешь, как он изменился. «Дом прекрасный» отсюда всего в десяти минутах ходьбы. Если ты соскучился по Англии, тебе там понравится.
Они вышли из вегетарианского ресторана и свернули на улицу с ярко освещенными магазинами, на противоположной стороне которой увидели «Дом прекрасный». Он находился в одном из самых первых в Гамбурге образцов современной архитектуры – в сером каменном здании постройки 1912 года, с красивыми контурами, которые смотрелись, как на чертежной доске. В демонстрационном зале горел яркий свет, стены были оклеены обоями под шелковистый кедр. Там были столы и стулья, розовые занавески, украшенные вышивкой диванные подушки, плетеные корзины для бумаги, деревянные детские кроватки, лампы, абажуры, блюда, вручную покрытые эмалью и расписанные английскими полевыми цветами, копилки, спичечницы, сигаретницы, маленькие бюстики Шекспира.
Первым, кого увидел Пол, был Генрих, прощавшийся с дамой, которая держала на руках напомаженного миниатюрного пуделя. Не было ни малейшего сомнения в том, что Генрих изменился, стал совсем другим человеком. Его зачесанные назад со лба волосы кудрявились уже не от ветра, дующего в Баварских Альпах (если так вообще когда-либо было). Они завивались под воздействием шампуней, лаков и фенов. Одет он был в темно-серый льняной костюм с бледно-розовой рубашкой и синим однотонным галстуком. Завидев Пола, он бесшумно пересек помещение магазина, чтобы с ним поздороваться. На миг отвернувшись и бросив надменный взгляд на Иоахима, он схватил Пола за обе руки и воскликнул по-английски с легким, довольно приятным акцентом:
– Какой чудесный сюрприз, Пол! Мы же не виделись с тех самых пор, как распрощались на станции в Боппарде – наверно, прошло уже года три, – как я рад, очень рад, что теперь мы снова встретились в Гамбурге! Прошу прощения, я должен обслужить покупателя, – он повернулся и быстро зашагал прочь.
Пол стоял, пытаясь совместить облик этого изнеженного Генриха с Иоахимовым рассказом о нацистском штурмовике, участвующем в военных учениях на Балтийском побережье, близ Альтамюнде. Но задача эта оказалась несложной. Все дело было в одежде. В данный момент Генрих был облачен в униформу «Дома прекрасного». В нацистской же униформе он стал бы попросту другим человеком. Существовали же и любезные, услужливые нацисты. Потому их так и любили старые дамы. Едва он успел об этом подумать, как появился Эрих Хануссен – больше никто это быть не мог. Он возник из-за перегородки, которая отделяла главный демонстрационный зал от внутреннего кабинета, где покупатели могли обсуждать вопросы истинно английского стиля либо с самим Хануссеном, либо с его седовласой, властной наружности компаньоншей, похожей на школьную учительницу.
Эрих Хануссен казался ниже своего роста, а роста он был среднего. Его череп со скелетом под здоровой, загорелой кожей казались наклоненными вперед – энергично, чарующе, агрессивно, зловеще. Кожа казалась хорошо отполированной, хотя и чересчур походила на поверхность красного дерева. В стратегически важных местах росли волосы – собравшиеся на голове в золотистые, серебрившиеся по краям завитки, жесткой щетиной пробивавшиеся из ноздрей, пучками торчавшие из ушей. Рот, казалось, был слегка маловат для его зубов, сверкавших белизной под губами. Глаза были васильково-синие и, как и все в нем, сияли. Он казался ходячей рекламой вызывающе чистых идеалов.
Он слишком крепко пожал обеими руками руку Пола и воскликнул:
– Я так рад, что вы зашли ко мне! Генрих мне так много о вас рассказывал. Я всегда так хотел с вами познакомиться. Пойдемте в мою маленькую «берлогу», как, полагаю, назвали бы ее ан-нглишане, посидим немного, выпьем кофе, поболтаем. Fräulein Gulp, Kaffee Bitte fur uns![31]31
Фройлен Гульп, нам кофе, пожалуйста (нем.).
[Закрыть] – рявкнул он своей помощнице. Пол оглянулся и посмотрел на Иоахима, который остался стоять в зале, презрительно глядя на деревянную собачью конуру.
Хануссен усадил Пола в кресло перед письменным столом, за который уселся сам.
– Как долго вы уже в Гамбурге, ach, всего неделю, ach, но, как я слышал, вы знаете Гамбург по прошлому визиту, я вижу, вы пре-фос-хотно научились по-хермански у нашего дорогого друга Иоахима Ленца, который тоже был очень другом Генриху летом двадцать девятого – купание, катание на лодке, под парусом – wunderschön! А Генрих говорит мне, что вы втроем ходили в поход по берегу Рейна, где он с вами и познакомился! Пре-фос-хотно!
Наступила пауза – фройлен Гульп принесла кофе. По-видимому, для Эриха Хануссена это послужило сигналом к тому, чтобы заговорить серьезно. Как только она вышла, он прочистил глотку и сказал, обращаясь к Полу так, точно тот был собравшимся на митинг народом:
– Мистер Пол Скоунер! Я понимаю, что вы писатель, очень одаренный, очень ценный для Ан-нглии. Я счастлив, что вы в Хермании, и надеюсь, что мы с вами вместе сумеем провести большую политическую работу, возможно, даже более важную сегодня, чем поэзия, хотя я очень высоко ценю Рильке. Я уже знаком с несколькими ан-нглишанами и всегда очень рад знакомству с новыми ан-нглишанами, потому что, по-моему, именно сейчас у нас, херман-цев, и у вас, ан-нглишан, много общих интерессен. Здесь, в Гамбурге, я не только лавочник – это лишь, можно сказать, витрина. Что более важно, я являюсь директором комитета по объединению некоторых херманцев, некоторых ан-нглишан, некоторых Scandinävier и даже некоторых Hällonder. Цель всего этого – наладить связи между представителями этих наций – самое главное, разумеется, между херманцами и ан-нглишанами, – которые в расовом смысле превосходят низшие расы. В Хермании сейчас образуется много таких комитетов. Главное, ради чего мы должны объединиться – это аннулировать условия, навязанные Хермании Версальским договором. Дело не в том – повторяю, не в том, – что Хермания становится выше Ан-нглии, а в том, что вместе они могут господствовать во всем мире, над всеми остальными нациями.








