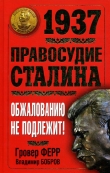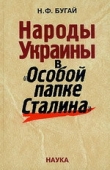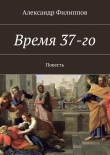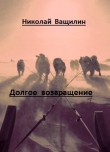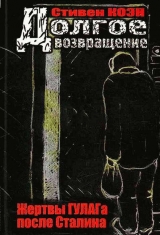
Текст книги "Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина"
Автор книги: Стивен Фрэнд Коэн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Эпилог
История бывших гулаговцев и других сталинских жертв продолжалась и после Хрущёва. В самом общем смысле, их статус в Советском Союзе и постсоветской России в последующие десятилетия определялся меняющимся официальным отношением к Сталину и Хрущёву, а также отношением к ним со стороны сил реформы и консерватизма внутри политического истеблишмента.
Долгие годы правления Брежнева были эпохой торжества советского консерватизма. Чтобы гарантировать незыблемость существующей системы, новое руководство нуждалось в героизации сталинского прошлого, когда созданы были основы этой системы. Соответственно, свернуты были хрущёвские разоблачения и реабилитации (лишь «мизерное» число – 24 реабилитации – имели место после 1964 года){124}, сам Хрущёв в официальных учебниках истории представлен не иначе как «субъективист» и «волюнтарист», а роль Сталина приукрашена за счёт затенения проблемы террора и выпячивания победы в Великой Отечественной войне. (В 1970 году комплиментарный бюст Сталина был установлен на его могиле позади мавзолея.)
Впоследствии архивные находки показали, с каким презрением преемники Хрущёва относились и к инициативам своего патрона, и к его «зекам». В 1974 году, десять лет спустя после выдвижения на Ленинскую премию, был арестован и выдворен из страны Солженицын. Обсуждая на закрытом заседании это решение, брежневское Политбюро обвинило Хрущёва в том, что он пригрел «этого подонка общества». Суслов посетовал: «Не всё мы ликвидировали, что осталось нам в наследство от Хрущёва». А Брежнев, заявивший, что Солженицына не зря посадили при Сталине (мнение, которое разделяли и многие другие влиятельные фигуры, включая первого секретаря комсомола Сергея Павлова и бывшего шефа КГБ Владимира Семичастного), не мог сдержать накопленного негодования: «Его реабилитировали два человека – Шатуновская и Снегов». В 1984 году последний перед Горбачёвым советский лидер, Константин Черненко, совершил ещё один, крайне символичный жест, восстановив в партии 93-летнего Молотова, и даже встретился для этого с ним лично. Отмечая это событие втайне, члены Политбюро вновь сокрушались, что Хрущёв реабилитировал жертв «незаконно» и допустил «вопиющие безобразия по отношению к Сталину»{125}.[30]30
В 1966 году Суслов обозвал Снегова «шантажистом», что могло говорить о том, что у Снегова имелись документы, обвиняющие Суслова. Реабилитация. Т. 2. С. 510. О последующем преследовании Снегова см. там же. С. 521–525. О Павлове и Семичастном см. Сараскина. Александр Солженицын. С. 524.
[Закрыть]
За те 20 лет (1964–1984) многие бывшие чины сталинских репрессивных органов получили почётные должности или были освобождены из тюрем с хорошими пенсиями. Другие непосредственные участники террора переквалифицировались в добропорядочных служащих, как, например, Лев Шейнин, в своё время помогавший Вышинскому фальсифицировать московские процессы и готовить юридическое уничтожение обвиняемых, а позже ставший заслуженным писателем. Многие реабилитированные, между тем, «перестали себя чувствовать реабилитированными»{126}. Большинство из них жили тихо, не высовываясь, и были оставлены в покое, но значительное число молчать не желали и были согласны с Антоновым-Овсеенко, что «писать правду о Сталине – это долг перед всеми погибшими от его руки. Перед теми, кто пережил ночь. Перед теми, кто придёт после нас»{127}.
В послехрущёвские 1960–70-е годы некоторые жертвы, используя своё относительно устойчивое положение, пытались говорить хотя бы частичную правду, продираясь сквозь препоны вновь ужесточившейся цензуры в средствах массовой информации. Среди них – писатели Трифонов и Чингиз Айтматов, драматург Шатров и поэт-бард Булат Окуджава, чьи отцы были расстреляны, а матери прошли через Гулаг{128}. Немало бывших зеков было и среди читаемых и публикуемых поэтов той поры, включая Николая Заболоцкого, Ольгу Берггольц, Анатолия Жигулина, Бориса Ручьева, Ярослава Смелякова, Татьяну Гнедич, Андрея Алдан-Семенова, Бориса Чичибабина и – до его высылки в Америку – Наума Коржавина. (Мои друзья из числа «возвращенцев» постоянно находили в их стихах скрытые намеки на Гулаг.) Другие бывшие гулаговцы писали исключительно «в стол», но и среди них были те, кто рискнул пустить свои творения на темы «преступления и наказания» ходить по рукам в самиздате и переправить за рубеж в «тамиздат». Ну, а некоторые жертвы и их родственники стали видными представителями диссидентского движения, в том числе, конечно же, Солженицын, братья Рой и Жорес Медведевы и Андрей Сахаров (среди его близких репрессированными были родители жены)[31]31
Отец Елены Боннер был расстрелян, а её мать, Руфь Боннер, вышла на свободу при Хрущёве.
[Закрыть].
Учитывая их возраст и годы, проведённые в нечеловеческих условиях, очевидно, немногие из бывших гулаговцев дожили до перемен, произошедших при Горбачёве. Провозгласив своей главной задачей замену существующей, унаследованной от Сталина, системы на более демократическую, Горбачёв должен был продемонстрировать во всей полноте историю её преступлений. Волна разоблачений – документальных статей, телепередач, романов, пьес и кинофильмов – захлестнула в конце 1980-х годов советские средства массовой информации. (Исключительное впечатление на меня произвёл спектакль, который я смотрел вместе с Анной Лариной, по мемуарам другой выдающейся «возвращенки», Евгении Гинзбург, когда Анна Михайловна и другие бывшие зеки в зале согласно кивали головами, а иногда и вслух подтверждали, что всё происходящее на сцене – правда.) И хотя «второго Нюрнберга», как требовали некоторые, не последовало, результатом этой кампании, начавшейся призывом к национальному «покаянию», стал заочный суд над сталинизмом в СМИ, где в первых рядах обвинителей фигурировало новообразованное общество «Мемориал», названием обязанное нереализованной инициативе Хрущёва{129}.
Вновь главными героями были бывшие жертвы и палачи, но теперь и тех, и других, было, безусловно, много меньше. Перестроечные СМИ занялись поиском массовых захоронений расстрелянных в 1930–40-е годы, пионером которого выступил сын Мильчакова Александр, а также поиском «палачей на пенсии» и их приспешников. Большинство причастных к преступлениям, престарелые и напуганные, предпочитали прятаться от прессы, но кое-кто пытался публично оправдать своё поведение в годы террора. Поводом для одного такого выступления неожиданно послужило опубликование в Москве в 1989 году моей биографии Бухарина. 91-летний писатель Валентин Астров, единственный из молодых участников «бухаринской школы» 1920-х годов, кто пережил сталинский террор, решил ответить на высказанное мною в книге (и позже подтверждённое) предположение, что он уцелел благодаря тому, что помогал сдавать ближайших товарищей{130}. Советская политика, как и во времена Хрущёва, всё ещё была «живой историей».
Однако в центре внимания в перестроечные годы были, главным образом, жертвы сталинских репрессий. Впервые их готовы были слушать, слушать участливо, и даже поощряли рассказывать обо всём, что случилось с ними и их семьями. Пережившие террор были главными действующими лицами бесчисленных и бесконечно трогательных вечеров памяти тех, чьи имена составили «национальный мартиролог», но никто из известных «возвращенцев» не пользовался такой славой, как Анна Ларина-Бухарина. В 1988 году в Москве были, наконец, опубликованы её воспоминания, а чуть ранее в том же году реабилитирован и сам Бухарин{131}.
Ещё одно знаковое публичное мероприятие произошло в 1989 году. Это был памятный вечер в честь Хрущёва – первый после 20 с лишним лет его официальной опалы. Сидя на трибуне вместе с «возвращенцами», у которых я тайком брал интервью десять лет назад, я видел лица множества других таких же бывших зеков в переполненном зале Дома кино. Некоторые из них плакали. Большинство из них теперь знали о тёмной стороне хрущёвской карьеры: о крови на его руках, о том, что он не сказал всей правды о прошлом, о его собственных репрессивных мерах после 1953 года. Но это не уменьшило их благодарности к нему, в выражении которой они были практически единодушны: «Хрущёв вернул мне мою жизнь». Анна Ахматова говорила от лица всех их, заявив много лет назад: «Я – хрущёвка»{132}.
Так же, как у его предшественника в деле советских реформ, правосудие было «неотъемлемой составной частью» политики Горбачёва. С 1987 по 1990 год официально реабилитированы были ещё миллион человек, а затем, на основании его указа, и все оставшиеся жертвы{133}. Враги Горбачёва, в ответ на эти и другие шаги, пеняли ему на то, что в основе его антисталинизма лежит «идеология бывших зеков», и отчасти, возможно, были правы. Ряд членов его руководства из числа близких и ближайших сподвижников имели репрессированных при Сталине родственников, в том числе, Эдуард Шеварнадзе, Егор Лигачев, Борис Ельцин, Вадим Бакатин, да и у самого Горбачёва оба деда были арестованы в 1930-е годы. (Они уцелели, а вот дед его жены Раисы Максимовны был расстрелян.){134}.
Правда, материальных последствий вся эта реабилитационная политика, как правило, не имела. Было несколько счастливых исключений, например, кооперативная дача Леонида Серебрякова, конфискованная Вышинским в 1937 году и сменившая после его смерти в 1954 году нескольких владельцев, включая советского премьер-министра Алексея Косыгина, в конце концов, была возвращена дочери Серебрякова, Зоре. Семье Бухарина незнакомые люди прислали некоторые вещи, конфискованные из его квартиры в 1937 году, а директор одного московского антикварного магазина вывел меня на одну из картин Бухарина, украденную после его ареста. Однако, несмотря на всё внимание и все обещания, выданные Горбачёвым жертвам террора, многие из них продолжали влачить столь бедственное состояние, что одна из организаций бывших узников опубликовала в 1990 году «СОС с архипелага Гулаг» с призывом о частных пожертвованиях. Между тем, финансово несостоятельное, на глазах рассыпающееся правительство Горбачёва, каким оно было в 1991 году, было в принципе не способно обеспечить выплату тех компенсаций и льгот, которые были им гарантированы законодательно{135}. Размытость статуса жертв советской эпохи перекочевала и в постсоветскую Россию. Её первый президент Ельцин формально реабилитировал всех граждан, пострадавших от политических репрессий, начиная с октября 1917 года (то есть, не только сталинских), а затем включил в эту категорию и их детей, распространив на них право на компенсации{136}. Вдобавок, Ельцин объявил 30 октября днем национальной скорби по жертвам и принял закон о допуске бывших репрессированных и их родственников к их делам в ранее закрытых секретных архивах. (Было бесконечно трогательно наблюдать, как эти пожилые люди в читальном зале Лубянки, где я работал по поручению семьи Бухариных, изучают потрепанные папки, содержащие документальные свидетельства их собственной судьбы или открывающие страшные подробности судеб их близких.)
Вообще, сюжеты об эпохе террора стали привычным аспектом постсоветской популярной культуры, включая её главный медиаресурс – телевидение. Общество «Мемориал» превратилось во всероссийскую и даже международную структуру, ведущую всё более широкий поиск массовых захоронений, помогающую возводить памятники на территории Гулага и издающую ценные документальные исследования о судьбах жертв и их палачей. Во многих провинциальных российских городах были опубликованы свои мартирологи. А в 2004 году Антонов-Овсеенко, при поддержке столичного мэра Юрия Лужкова, открыл в центре Москвы, на Петровке, первый официальный (и пока ещё мало известный) Музей истории Гулага.
С другой, отрицательной, стороны, мало кто из ещё оставшихся в живых бывших узников Гулага получил реальные, сколько-нибудь значимые компенсации за утраченную жизнь и собственность. К 1993 году интерес к сталинскому террору и его жертвам в российском обществе претерпел «катастрофический упадок»{137}.[32]32
Один «возвращенец», который возглавлял в начале 1990-х годов московскую городскую комиссию по реабилитации, вспоминал, что льготы и пособия были «громадной проблемой». Фельдман А. Рядовое дело. – М., 1993. С. 58–60.
[Закрыть] Национальный мемориал, обещанный Хрущёвым в 1961 году и одобренный Горбачёвым в конце 1980-х, так и не был построен. К началу XXI века и в официальных кругах, и в массовом сознании значительно усилились просталинские настроения, одна за другой выходили отлакированные биографии одиозных энкаведешников, и всё больше людей откровенно заявляли, что никакого Гулага не было и надо покончить с «реабилитационной эйфорией». Всё чаще люди говорили (и, видимо, верили), что в Гулаге сидели сплошь уголовники, потому что «Сталин не репрессировал никого из честных граждан», а не терпевшего зависимости Солженицына и после его смерти продолжали поносить как агента «мощной идеологической машины Запада»{138}.
Многие западные обозреватели связывали постсоветские симпатии к Сталину с усилением авторитаризма во власти при Владимира Путине – бывшем офицере КГБ, ставшем президентом России в 2000 году. Однако, хотя это явление действительно получило развитие при Путине (путинское правительство не пожелало признать моральный долг перед жертвами сталинских репрессий){139}, основные составляющие его возникли ещё в ельцинские 1990-е: от болезненной для экономики и общества «шоковой терапии», ставшей главным источником новой вспышки просталинских настроений, до реабилитации КГБ и сокращения демократических практик, последовавшего за тем, как в 1993 году Ельцин из танков расстрелял всенародно избранный парламент и отдал своё политическое будущее на откуп новой олигархической элите, поднявшейся на награбленной государственной собственности. То есть, возрождение сталинизма – так же, как в своё время при Брежневе – похоже, в какой-то степени было и до сих пор остаётся формой народного протеста против новой государственной бюрократии, сформировавшейся при Ельцине.
Не наблюдалось при Путине и подавления антисталинизма. Доступ к соответствующим архивным делам, хотя и стал несколько ограниченным, сохранился – во всяком случае, в тех архивах, в которых я работал – и были рассекречены новые, в провинциальных архивах. Продолжали публиковаться сборники секретных документов по истории террора. Переименованный в ФСБ, КГБ, продолжая начатую при Горбачёве практику, устраивал встречи с некоторыми бывшими зеками и даже удостаивал их почестей, как, например, в 2006 году, когда Сергей Степашин вручил награду поэту Науму Коржавину и даже пригласил его выступить на Лубянке. По популярным антисталинистским романам, таким как «В круге первом» Солженицына и «Дети Арбата» Рыбакова, были сняты многосерийные художественные фильмы, показанные на государственных каналах телевидения. А государственная электрическая компания (РАО ЕЭС) в 2008 году спонсировала издание книги о роли труда заключённых Гулага в советской индустриализации{140}.[33]33
По сообщению ИТАР-ТАСС (23 мая 2008 г.), более 18 тысяч связанных с Гулагом документов были рассекречены за последнее время в Магаданской области. По поводу РАО ЕЭС см. Новая газета. 2008. 14–16 апреля.
[Закрыть] И всё это на фоне непрекращающейся (и, подчас, безвкусной и циничной) коммерциализации лагерной темы, проявившейся, к примеру, в распространении специфического шансона или в идее туризма по лагерным местам.
Что касается роли самого Путина в сложившейся ситуации, то она была противоречивой. С одной стороны, он сделал широко растиражированные прессой заявления в поддержку нового учебника истории, ставшего самой амбициозной попыткой после 1953 года реабилитировать историческую репутацию Сталина и период его правления в целом. Многолетний массовый террор был в нём представлен как «рациональный» тип «мобилизации общества», «адекватный
задачам модернизации», чьи жертвы были относительно немногочисленны и ограничивались «правящим слоем» коммунистов. (Серьёзные российские и западные историки давным-давно развенчали обе эти апологии.) С другой стороны, одним из первых шагов Путина на посту президента было указание расширить расследование преступлений сталинской эпохи, а среди его последних президентских деяний в 2007 году было личное посещение и вручение государственной награды символу гулаговской судьбы – Солженицыну и посещение в день памяти политрепрессированных Бутовского полигона НКВД – места массового расстрела и захоронения жертв, что стало первым визитом такого рода российского (и советского) лидера{141}. (Следует также отметить, что смерть Солженицына в 2008 году ознаменовалась похоронной церемонией государственного ранга и другими официальными актами по увековечению его памяти.)
Наличие противоречия в поведении Путина говорит о том, что в российской политической элите и в обществе в целом до сих пор существует глубокий раскол по поводу отношения к сталинскому прошлому. Опросы общественного мнения, предпринятые в последние годы, показывают, что нация практически поровну разделена на тех, кто думает, что Сталин был «мудрым руководителем», и тех, для кого он был «бесчеловечным тираном»; причём среди молодых россиян просталинские настроения распространены не менее широко{142}.
Это означает, что борьба в российской политике (и душе) по поводу оценки сталинской эпохи, начавшаяся с возвращением гулаговцев более 50 лет назад, ещё не окончена. Или, как написал недавно один антисталинист, конфликт между «двумя Россиями», увиденный Ахматовой в 1956 году, «не исчерпан до сих пор»{143}. Сегодня символическим выражением этой борьбы опять является кампания за создание национального мемориального музея памяти сталинских жертв. Теперь её возглавляют бывший советский президент Горбачёв, общество «Мемориал», «Новая газета» и один из главных её акционеров, Александр Лебедев, а противостоит им армия коммунистов и просталински настроенных националистов{144}.
Обе стороны, как и многие российские и западные обозреватели, уверены, что борьба эта ведётся в не меньшей степени вокруг настоящего и будущего России, как и вокруг её прошлого. И новому президенту Дмитрию Медведеву, если он станет реальным лидером, неизбежно придётся столкнуться с этой проблемой, как сталкивались с ней все его предшественники, начиная с 1953 года. (В сентябре 2008 года Медведев, следуя примеру Путина, публично почтил память жертв колымских лагерей.) Ведь только национальный лидер, какова бы ни была его позиция, может добиться, чтобы то или иное официальное решение было принято. Чтобы убедиться в этом, россиянам достаточно посмотреть на опыт президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сыгравшего самую непосредственную роль в создании национального и многих других памятников жертвам сталинских репрессий в этой бывшей советской республике{145}.
Думаю, читатели поймут, на чьей стороне мои симпатии. Но при этом мне, как американцу, трудно ругать Кремль (что частенько делают западные комментаторы), за то, что он до сих пор не осудил официально сталинские преступления – хотя, по сути, Горбачёв с Ельциным это сделали – и за то, что в России до сих пор нет памятника жертвам. В моей собственной стране только в 2008 году, то есть, почти 150 лет спустя после отмены рабства, Палата представителей американского Конгресса наконец-то официально извинилась за содержание в рабском состоянии миллионов чернокожих, но этого до сих пор не сделал ни президент, ни Конгресс в целом. Нет у нас ни американского национального мемориала пострадавшим от рабства, ни даже чего-то подобного тем сотням маленьких провинциальных (сельских, школьных) музеев и памятников, существующих в память о Гулаге в сегодняшней России. И наши адвокаты покаяния тоже утверждают, по отношению к рабству, что хотя «извинения не могут изменить прошлое… есть надежда, что они изменят будущее»{146}.
Нациям, в истории которых соседствуют великие достижения и великие преступления – «величие и беда», как много лет назад охарактеризовал сталинскую эпоху поэт Борис Слуцкий, – по-видимому, нелегко прийти к согласию о том, как уравновесить то и другое. Поколения должны смениться, раны памяти – затянуться, а ещё нужны лидеры, обладающие необходимым видением и мужеством, чтобы вылечить раны и закончить конфликт. (Частые ссылки на опыт денацификации Германии – пример неподходящий, поскольку те меры были изначально навязаны побеждённой стране оккупационными силами.)
Одно ясно наверняка. Как я утверждал 25 лет назад{147}, жар сталинского прошлого, каким бы далёким и потухшим оно ни казалось, обязательно ещё даст о себе знать в будущей политике, как оно и случилось, роковым образом, в конце 1980-х годов. И это утверждение остается актуальным, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, хотя большинства сталинских жертв сегодня уже нет в живых, население России в значительной мере состоит из их потомков, в частности, их внуков, впервые заявивших о себе при Горбачёве. (Согласно опросам, 27 процентов россиян сказали в 2006 году, что имеют родственников, репрессированных при Сталине.){148}.[34]34
В 2008 году в Москве проживало 27232 человека, лично пострадавших от сталинского террора. Бунимович // Новая газета. 2008. 26–28 мая. По поводу внуков, в дополнение к тем примерам, которые уже были упомянуты, см. Оболенский В.В. // Огонёк. 1987. № 24. С. 6; Фаттахов Ефим // Собеседник. 1989. №21; Как наших дедов забирали Под ред. И. Щербаковой. – М., 2007.
[Закрыть] Во-вторых, возглавить новое сведение счётов с прошлым должно, скорее всего, поколение, созревшее в эпоху горбачёвской гласности – точно так же, как «дети XX съезда» и хрущёвской оттепели возглавили его предыдущий этап в конце 1980-х.
Но, самое главное, подобный расчёт с прошлым неотвратим, он остается в повестке дня нации, поскольку у исторических преступлений масштаба сталинских нет срока давности. А раз так, в эпопее «великого возвращения» рано ставить точку.
К 70-летию
Избранная библиография трудов Стивена Коэна
Книги
The great purge trial. – New York: Grosset & Dunlap and Universal Library Paperbacks, 1965. – Соред.
Bukharin and the bolshevik revolution: A political biography, 1888–1938.-New York: Knopf, 1973. To же.-London: Wildwood House, 1974; New York: Vintage Book, 1976; в русском переводе – Royal Oak, Mich.: Strathcona, 1980; Бухарин: Политическая биография, 1888–1938 / Пер. с англ. Е. Четвергова [Е.А. Гнедина], Ю. Четвергова [Ю.Н. Ларина], В. Козловского; Предисл. С. Коэна; Общ. ред., послесл. и ком-мент. И.Е. Горелова. – М: Прогресс, 1989. – 574 с: ил.; – М.: Прогресс; Минск: Беларусь, 1989. – 570: ил.; – М.: Прогресс академия, 1992. – 570 с: ил.
The Soviet Union since Stalin. – Bloomington: Indiana Univ. Press; London: Macmillan, 1980. – Соред.
An end to silence: Uncensored opinion in the Soviet Union. – New York: W.W. Norton, 1982. – Ред.
Rethinking the Soviet experience: Politics and history since 1917. – New York: Oxford Univ. Press, 1985; Переосмысливая советский опыт: (Политика и история с 1917 г.). – Benson, Vt.: Chalidze Publications, 1986.
Sovieticus: American perceptions and Soviet realities. – New York: W.W. Norton, 1985.
Voices of glasnost: Interviews with Gorbachev's reformers. – New York: W.W. Norton, 1989. – Соавт., соред.
Изучение России без России: Крах американской постсоветологии / Предисл. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-ХХ, 1999. – 48 с. – (АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века; Вып. 4).
Failed crusade: America and the tragedy of post-communist Russia. – New York: W.W. Norton, 2000; Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России / Пер. с англ. И.С. Давидян. – М: АИРО, 2001. – 304с.
«Вопрос вопросов»: Почему не стало Советского Союза? / Пер. с англ. И.С. Давидян. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. – 200 с.
Статьи и предисловия к книгам
Marxist theory and bolshevik policy // Political Science Quarterly – 1970. – Vol. LXXXV, № 1. – P. 40–60.
Bukharin, Lenin and the theoretical foundations of bolshevism // Soviet Studies / Univ. of Glasgow. – 1970. – Vol. XXI, №4.-P. 436–457.
In praise of war communism: Bukharin's The Economics of the Transition Period // Revolution and politics in Russia: Essays in memory of B.I. Nicolaevsky / Ed. by Alexander and Janet Rabinowitch. – Bloomington: Indiana Univ. Press, 1972. – P. 192–203.
Stalin's revolution reconsidered // Slavic Review – 1973. – Vol. 32, №2.-P. 264–270.
Bolshevism and Stalinism // Stalinism: Essays in historical interpretation / Ed. by R.C. Tucker. – New York: W.W. Norton, 1977. – P. 3–27; To же // Dissent. – Spring 1977. – P. 190–205; Totalitarianism reconsidered / Ed. by E.I. Menze. – Port Washington; London: Kennikat Press, 1981. – P. 58–80.
Foreword // Medvedev Roi and Medvedev Zhores. Khrushchev: The years in power. – New York: W.W. Norton, 1978. – P. I–VIII.
Common and uncommon sense about the Soviet Union and American policy // The Soviet Union: International dynamics of foreign policy, present and future / Hearings in the House of Representatives. – Washington: U.S. Govt Print. Off., 1978. – P. 202–239; To же под загл.: A new look at the sources of Soviet conduct // Inquiry Magazine – 1977. – 19 Dec. – P. 11–17.
Soviet domestic politics and foreign policy // Detente or debacle: Common sense in U.S. – Soviet relations / Ed. by F.W. Neal. – New York: W.W. Norton, 1979. – P. 11–28. To же в сокр. // Common sense in Soviet relations / Ed. by С Marcy. – Washington: American Committee on East West Accord, 1978.-P. 11–25; To же под загл.: Premonitions of Stalinism // Dissent. – 1978. – Winter. – P. 79–82.
Why Bukharin's ghost still haunts the Kremlin // The New York Times Magazine – 1978. – 10 Dec. – P. 79–82.
The friends and foes of change: reformism and conservatism in the Soviet Union // Slavic Review. – 1979. – Vol. 38, № 2. – P. 187–202; To же // The Soviet Union since Stalin / Ed. by Cohen, A. Rabinowitch and R. Sharlet. – Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980. – P. 11–31.
What is fundamental? // Slavic Review – 1979. – Vol. 38, №2.-P. 220–223.
The rage of heresy // The Nation. – 1979. – 29 Dec. – P. 692–694.
Stalin's afterlife // The New Republic. – 1979. – 29 Dec. – P. 15–19.
Bukharin and the idea of an alternative to Stalinism // Bukharin and the bolshevik revolution. – Oxford Univ. Press, 1980. – P. XV–XXIV.
Bukharin and the Eurocommunist idea // Eurocommunism between East and West / Ed. by V. Aspaturian, J. Valenta and D.P. Burke. – Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980. – P. 56–71; To же // N.I. Bukharin. Selected writings / Ed. by R.B. Day. – White Plains: M.E. Sharpe, 1982. – P. IX–XXV.
Essays on the history of Stalinism // Stalin L'Uomo, La Nazinoe, II Partito. – Milan: Fabbri Editori,1980.
Cold warriors of the world, unite // Inquiry Magazine – 1980.-21 Apr.-P. 23–24.
Dissenso, democrazia e d'evoluzione dell 'autoritarismo so-vietico: 1917–1979 // Dissenso e democrazia new paesi dell'est. – Florence, 1980.-P. 24–34.
La sue visione della 'construzione del socialismo' // Rinas-cita. – 1980. – 4 July. – P. 18–20.
Il dopo Brezhnev: discuterne Josif Brodsky e Stephen F. Cohen // L'Espresso. – 1980.– 16 Nov. – P. 70–82.
Hard-line Fallacies // New York Times. – 1980. – 22 Aug.; To же // Social Education. – 1981. – Vol. 45, № 4. – P. 252–253.
The parity principle in U.S. – Soviet relations // The New York Times. – 1981.-26 June.
The survivor as historian // Antonov-Ovseyenko A. The time of Stalin. – New York: Harper and Row, 1981. – P. V1I–XI.
Roy Medvedev and Political Diary // An end to silence / Ed. by St. F. Cohen. – New York: W.W. Norton, 1982. – P. 7–14.
The Stalin question since Stalin // Ibidem. – P. 22–50.
Bucharin e il bucharinismo // Bucharin tra rivoluzione e riforme. – Rome: Ed. Riuniti, 1982. – P. 19–27.
How to save the world // The New York Times. – 1983. – 13 Nov.
Andropov in mezzo al Guado // L'Espresso. – 1983. – 12 Dec.
No Andropov era // The New York Times. – 1983. – 13 Nov.
Soviet domestic politics and foreign policy // World politics debated / Ed. by H.M. Levine. – New York: McGraw-Hill, 1983.-P. 126–137.
The Stalin question // The Soviet Union today / Ed. by J. Cracraft. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983. – P. 21–32.
Памяти Евгения Гнедина // СССР: Внутренние противоречия. Вып. 2. – Нью-Йорк, 1984. – С. 269–273.
The friends and foes of change // The Soviet policy in the modern era / Ed. by E. Hoffmann and R. Laird. – Hawthorne: Aldine, 1984.-P. 85–104.
Soviet state and society as reflected in the American media // Nieman Reports. – 1984. – Winter. – P. 25–28; To же // The other side: How Soviets and Americans perceive each other / Ed. by R. English and J. Halperin. – New Brunswick: Transaction Books, 1987. – P. 77–81; To же в сокр. // Bulletin of the American Society of Newspaper Editors. – 1984. – Nov. / Dec. – P. 36–37; Harper's. – 1985. – March.
Soviet domestic politics and foreign policy // Soviet foreign policy in a changing world / Ed. by R. Laird and E. Hoffmann. – New York: Aldine, 1986. – P. 66–83.
Stalin's terror as social history // The Russian Review – 1986. – Vol. 45, № 4. – P. 375–384.
A matter of global survival // Before the point of no return / Ed. by C. Snyder. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1986.-P. 49–53.
The struggle for detente // East-West Tension. North-South Conflict. – New York: Riverside Church Disarmament Program, 1986.-P. 9–13.
America's Russia: Can the Soviet system change? // Socialism and Democracy. – 1986. – № 3. – Fall/Winter. – P. 5–16; To же // Princeton Alumni Weekly. – 1986. – 30 Sept. – P. 11–15; To же в сокр. // Harper's. – 1986. – Nov.
Gorbachev's historic embattled program // II progetto Gor-baciov. – Rome: Rinascita. – 1987. – P. 158–165.
Perestroika: Debate with Richard Pipes // Princeton Alumni Weekly. – 1987. – 9 Dec. – P. 21–27.
Soviet state and society in the American media // The other side / Ed. by R. English and J. Halperin. – New Brunswick: Transaction Books, 1987. – P. 77–81.
Bukharin and the Eurocommunist idea // The crucible of socialism / Ed. by L. Patsouras. – Atlantic Highlands: Humanities Press, 1987. – P. 293–307.
The U.S. press and glasnost // Deadline. – 1988. – May-June. – P. 3–4.
Centrists lack the guts to respond to Gorbachev // New York Times. – 1988. – 19 Sept.; To же // International Herald Tribune. – 1988. – 20 Sept.; Эхо планеты. – 1988. – № 33. – С. 48.
The President's historic opportunity: Will we end the cold war? // The Nation. – 1988. – 10 Oct. – P. 305–314; To же // America's transition / Ed. by M. Green and M. Pinsky. – New York: Democracy Project, 1989. – P. 120–134; To же в сокр. // The Trenton Times. – 1988. – 16 Oct.; Rinascita. – 1988. – 22 Oct.-P. 28–30.
Supporters and opponents of perestroika: A roundtable // Soviet Economy. – 1988. – Oct. – Dec. – P. 275–318.
Gorbachev and the Soviet reformation // Voices of glasnost / Ed. by St. Cohen and K. vanden Heuvel. – New York: W. W. Norton, 1989.-P. 13–32.
Changing the image of the enemy: Dialogue with Vitaly Korotich // Michigan Quarterly Review – 1989. – Fall. – P. 507–520.
The moderate alternative // The Stalin revolution / Ed. by R.V. Daniels. – Lexington: D.C. Heath, 1990. – P. 35–53.
Gorbachev the Great // The New York Times. – 1991. – 11 March; To же // International Herald Tribune. – 1991. – 11 March; Известия. – 1991.-12 марта.
Gorbachev's reforms and American perceptions // Outlook. – 1990/91. – Winter. – P. 70–74.
Gorbachev's reforms after six years // Hearings before the Subcommittee on European Affairs of the Committee on Foreign Relations U.S. Senate. – Washington: U.S. Govt Print. Off. – 1991.-P. 41–47.