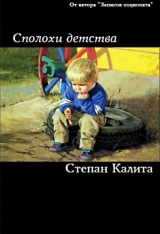
Текст книги "Сполохи детства"
Автор книги: Степан Калита
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поскольку я был самостоятельным мальчиком в свои шесть, я сел на трамвай и поехал домой, уже зная, что дома мама устроит мне скандал. Но скандала не последовало. Она продумала мой уход и поняла, что была не права, заставляя меня воспринимать слишком сложные взрослые спектакли. Тем не менее, «вакцинация культурой» продолжилась. Я уходил с оперы, разрывая программку в клочья. Я бросался прочь с балетной постановки, плюнув на пол от отвращения. Я едва не уронил скульптуру в музее естественной истории. И наконец добился права – не посещать с мамой культурные мероприятия.
– Ну и оставайся неучем! – заявила она.
– Ну и останусь! – упрямо ответил я.
Погружение в книги – вот что всегда было для меня главной «прививкой культуры», что развивало меня, формировало характер и делало личностью. Все остальное я решительно отвергал, перекормленный искусством до тошноты.
– Хотите в театр, девочки? – спрашиваю я иногда своих дочерей.
– Пап, мы лучше в кино… – Они у меня простоватые, если говорить откровенно. Но я не сильно переживаю по этому поводу.
– Ладно.
Я знаю, придет время – и им еще придется походить по театрам. Потому что приличные молодые люди в России (слава богу, мы не в США, где водят на стадион) пока еще приглашают девушек в театр – если, конечно, у них серьезные намерения. Помню, как я, молодой негодяй, водил девиц на один и тот же спектакль «Дон Жуан» в театр Моссовета, 12 раз, потому что билеты стоили очень дешево – и мне казалось – это отличный намек на то, как должны продолжиться наши отношения…
В драмтеатр водили нас время от времени и учителя. Для них это было настоящим кошмаром – попробуй уследи за неуправляемой толпой школьников. Для артистов – бесконечным ужасом. Для учеников – праздником жизни.
Помню, на одном спектакле происходила постельная сцена, и кто-то из хулиганов из параллельного класса крикнул на весь зал: «Да еби же ты ее, еби!..»
Тут же воцарилась тишина. Актеры сели на постели и уставились в зал, стараясь взглядами из-под насупленных бровей отыскать негодяя.
Между рядами уже пробиралась строгая учительница средних лет в роговых очках, которой было поручено проведение культ-похода.
– Я тебе поебу! Ох я тебе поебу!!! – хрипела она, стараясь при этом говорить шепотом.
Спектакль все же продолжился, когда нарушителя спокойствия (сейчас он был героем) за ухо вывели из зала. Но то и дело возникали смешки. Актеры реагировали очень нервно. Я заметил, что у главного героя подергивается глаз. А у актрисы трясутся руки…
Зато после антракта они вернулись веселые и продолжили действие с каким-то удивительным воодушевлением, словно не было этой отвратительной сцены – сейчас я думаю, за сценой оба накатили коньяка, грамм по сто пятьдесят, не меньше. Меня бы меньше, во всяком случае, не успокоили.
Мы с одноклассником и моим приятелем Максом Шмаковым (все звали его просто – Шмакс) пробрались за сцену перед третьим актом, и я слышал, как в гримерке артист вещает приятным баритоном:
– Ну, что поделаешь, ведь это же дети, Марго, ведь мы их, в сущности, любим. Хотя сейчас, признаться, я их где-то даже немножко ненавижу. И даже чуть-чуть удавил бы гаденышей вот этими самыми красивыми руками.
Марго при этом всхлипывала и жаловалась, что ее бросил какой-то Харитонов, а ведь она посвятила ему лучшие годы жизни, и что она не знает, что теперь она будет делать одна, когда из репертуара она вот-вот вылетит – и придется ехать в провинцию, чтобы хоть там играть что-то…
Тут распахнулась дверь. На пороге появился актер с бутылкой, зажатой в кулаке. Увидев нас, он грозно сказал:
– Подслушивали, я так и знал. Скажите, дети, а вы знаете, для кого в театре предусмотрен антракт?
– Для зрителей, – предположил Шмакс.
– Нет, мальчик, не для зрителей. А для актеров. Чтобы они успели привести себя в порядок. Немного отдохнуть… – Тут он отхлебнул из бутылки и спросил почему-то: – А вот ты, – он обращался к Шмаксу, – кем хотел стать в детстве?
– Водителем камаза, – ответил Шмакс. У него вообще были приземленные мечты.
– То есть дальнобойщиком, – обрадовался актер. – Почему-то я так и думал. Ты слышала, Марго? – закричал он, обернувшись. – Кого они к нам приводят. Мальчик хотел стать водителем камаза – а его в театр… Едешь по трассе, – он закатил глаза. – Солнце садится за горизонт. Рядом мелькают березки, сосенки. А вдоль дороги стоят одинокие девушки в чулочках. И их надо, обязательно надо, подобрать, согреть… Романтика дальнобойщиков. Ну а ты? – обратился он ко мне. – Кем ты хотел стать?
– Актером, – почему-то ляпнул я. – Хотя актером никак становиться не собирался. Я, вообще, тогда еще не определился с выбором. Но склонялся к мысли, что лучше всего быть писателем – сидишь себе где-нибудь на даче, отпустив длинную бороду, строчишь на машинке, и вокруг никого. Я жил с братом в одной комнате, он отвратительно играл на виолончели, и писательское одиночество представлялось мне пределом мечтаний.
– Актером?! – взревел наш собеседник. – Вон! Вон отсюда! Пошли вон из гримерки в зал, молодые люди! И нечего подслушивать о чем здесь говорят взрослые! – Он с грохотом захлопнул дверь. Я так и не понял, почему он вдруг так разозлился.
– По-моему, он пьяный, – сказал Шмакс.
Я пришел к тому же выводу. Мы еще немного побродили по внутренним помещением театра и, хотя было очень интересно, вернулись в зал.
Третий акт прошел еще задорнее и как-то очень быстро. Мне показалось, что слова актеры проговаривают наспех – лишь бы быстрее закончить. Затем они поклонились и быстро ушли за кулисы. Упал занавес…
На следующий день хулигану из «Б» класса в школе был такой нагоняй, что он, подозреваю, никогда больше не ругался матом на публике. К директору таскали его родителей, его фотографию повесили на «доску позора», и на три недели запретили посещать уроки физкультуры, которые он очень любил…
Однажды в школу пришли странные люди из социальной детской службы и стали опрашивать всех, кто и кем хотел бы стать. В основном, все метили в космонавты. А девочки – в актрисы кино. Я честно сказал, что хотел бы стать писателем. Это было необычно, и мне задали несколько вопросов – почему, как я до этого дошел, и есть ли у меня уже какие-нибудь достижения на этом поприще. Я честно отвечал, что пока ничего не написал, но собираюсь создать что-нибудь большое, «как Лев Толстой», «он мне вообще нравится», – поведал я. Потом рассказал, что у меня будет дача, где я буду писать в одиночестве. И что если кто-то приедет и помешает мне писать, то я очень быстро выгоню его со своей дачи, потому что писателям мешать нельзя. А это будет только моя дача!
Потом пришел черед Шмакса. Его спросили, кем бы он хотел быть, когда вырастет. А он вдруг взял и заявил, что хотел бы быть «фашистом».
– Кем? – у работников социальной службы чуть глаза из орбит не повылезали.
– Фашистом, – повторил Шмакс.
Я понял, что сейчас у моего приятеля будут неприятности и постарался помочь ему.
– Он шутит. Он еще недавно говорил, что хочет быть водителем камаза.
– Это так? – спросили Шмакса.
– Ну да, – серьезно ответил он. – Но я тут немного подумал, и решил, что фашистом быть лучше.
– А ты знаешь, что мы воевали против фашистов в Великую Отечественную Войну? – спросила строгая женщина из социальной службы.
– Ну да, знаю, – ответил Шмакс.
– И мы победили всех фашистов.
– Было дело, – согласился мой приятель.
– И как же ты хочешь стать фашистом, если их больше нет?
– Буду первым, – ответил он. – Потом наберем еще, других… Нас будет много…
Напротив фамилии Шмаков поставили красную крупную галочку и отправились опрашивать других детей. Кажется, никаких последствий для Шмакса его откровение не имело…
– Ты что, и правда хочешь быть фашистом? – спросил я через некоторое время.
– Правда, у них красивая форма. Они на губной гармошке умеют играть. Еще автоматы у них классные. А у наших, в основном, винтовки. Нет, фашистом быть здорово.
Этим откровением он сильно меня озадачил. Никогда не думал, что кто-то может захотеть стать «фашистом» – их все ненавидели и презирали. К тому же Шмакс – мой приятель. А ну как он, и правда, заделается фашистом?!
Но, к счастью, прошло некоторое время, и Шмакс опять передумал. Он решил работать на заводе, как его отец. Ему нравилось, что тот, когда выпьет, всегда веселый и добрый. Шмакс тоже теперь хотел работать на заводе и выпивать. По-моему, он так и поступил в конце концов. Во всяком случае, ни карьера «водителя камаза», ни тем более «фашиста» у него не задалась.
– А тебя спросили, кем ты хочешь стать? – решил я поинтересоваться у Сереги.
– Буду конюхом, – удивил он меня. – Я лошадей, знаешь, как люблю…
– Ты же их даже не видел ни разу, – я отлично знал, что Серега никогда не бывал в деревне.
– А я на картинке видел…
Конюхом он тоже не стал. Его убили в 90-х, когда Серега служил телохранителем одного очень известного человека. Закрыл его от пули. Зачем он это сделал? До сих пор не могу понять. Но уверен, он бы ответил просто: «Работа такая».
* * *
Не знаю, зачем это нужно было моей бабушке, но она сознательно поселяла в моей детской голове разнообразные глупости, которые потом, намертво там засев, покидали голову с большим трудом. Истины, усвоенные в детстве, выветриваются, знаете ли, с большой неохотой. Даже если не выдерживают никакой критики. Так научная истина, однажды утвердившись, с большим скрипом покидает занятое место. Ее попранию всячески противостоят профессора и академики, не желающие, чтобы стройное здание их представлений в одночасье рухнуло. Вот и мои представления были очень далеки от истины.
Бабушка, к примеру, убедила меня в том, что есть люди с двумя сердцами. И они живут не сто, а двести лет. И у меня, в отличие от обычных людей, два сердца, так что жить я буду долго-долго-долго. Видимо, внушая мне эту странную ерунду, она таким образом воплощала собственную мечту о долгой-долгой, почти бесконечной, жизни.
Вообще, с физиологией людей и животных было связано довольно много заблуждений. Поначалу я думал, что птицы не могут ходить, а только летают. Но потом увидел, как скачут воробьи и ходят голуби.
А однажды у меня появился повод вдоволь посмеяться над моим другом Серегой, который искренне считал, что у ракообразных ноги имеются только с одной стороны туловища. Сразу видно маленького горожанина. Дело в том, что в учебнике биологии была соответствующая иллюстрация. Серега очень обиделся, когда я поднял его на смех. Да еще поделился его заблуждением с нашими одноклассниками. Дело едва не дошло до драки. Летом Серега поехал в деревню, и потом взахлеб рассказывал мне, как ловил раков, и что ноги у них с двух сторон.
Обманывать детей, по всей видимости, было в традициях нашей семьи. Я буквально обожал «деревянную» советскую жвачку – апельсиновую, мятную, кофейную. Хоть она и дубела после жевания.
– Мама, купи жвачку, – просил я. Маме мои просьбы очень не нравились. Отчасти потому, что никогда не было денег.
– Так, – сказала однажды мама. – Ты мою начальницу видел, Ирину Сергеевну?
– Да, – я кивнул.
– Хочешь, чтобы у тебя была такая же лошадиная челюсть?
Тут я испугался. Челюсть у Ирины Сергеевны была массивной и сильно выдавалась вперед, отчего она, и правда, очень походила на лошадь.
– Она в детстве тоже много жвачки жевала, – продолжала мама. – Вот и развилась челюсть.
«Ничего себе», – подумал я. И с тех пор стал относиться к жвачке с опасением. Очень не хотелось в зрелом возрасте походить физиономией на коня.
А еще нельзя было есть много сладкого. Или «слипнутся кишки». Я так боялся этой перспективы, представляя, как живот прилипает к позвоночнику, что не позволял себе есть больше одной конфеты за раз. Впрочем, конфеты мне и так доставались редко. И по одной штуке. Но я отлично помню, как однажды, приехав к другой бабушке (папиной маме, с которой почти не общался, убитой им впоследствии ножницами), я увидел перед собой целое блюдо с конфетами. И побоялся съесть много, хотя вкусно было необыкновенно… Сосальные конфеты я любил больше шоколадных. И однажды, собрав десять копеек, купил себе сто грамм «Театральных» конфет – леденцовых – самых любимых. И ел их по одной штуке в день, опасаясь слипания кишок.
Исключение я делал для мятных таблеток. Они так и назывались. Я покупал их в аптеке (благо, стоили они 2 копейки) и жевал одну за одной. Удивительно, как в аптеке халатно относились к продажам лекарств. Могли бы поинтересоваться, зачем ребенок покупает таблетки. Пустые пачки прятал под подушку. И мама, конечно же, обнаружила их однажды. И был небольшой скандал. И я пообещал больше ничего не покупать в аптеке и не есть просто так.
У бабушки был начальник по фамилии Пиллипович. В детстве я искренне думал, что Пиллипович не человек, а какой-то монстр, регулярно терзающий бабушку, и что из-за этого чудовища наша семья постоянно терпит лишения. Что он изводит бабушку, и надеется когда-нибудь покончить с ней совсем. Я надеялся, что когда подрасту, одолею Пиллиповича, но пока я еще слишком мал, надо есть лучше, и расти быстрее – иначе с Пиллиповичем мне ни за что не справиться… Каково же было мое удивление, когда я наконец встретился с Пиллиповичем. Он оказался энергичным мужчиной в очках. Пожалуй, слишком энергичным, и весьма крикливым. На монстра он совсем не походил. А был холериком, исповедующим авторитарный стиль руководства. Как это обычно бывает с людьми такого склада, однажды его хватил инфаркт. И прямо с работы монстра Пиллиповича увезли в больницу, откуда он уже не вышел.
– Дельный был мужик, – заметила бабушка. И я, несмотря на то, что Пиллипович оказался человеком, удивился, услышав ее слова.
Еще я боялся засыпать без света. Просил, чтобы всегда была включена лампа. И обязательно мама должна была пожелать мне спокойной ночи. Пока она не говорила: «Спокойной ночи» я не мог заснуть. Потом я решил, что помимо «Спокойной ночи» ей следует желать мне приятных сновидений. Сновидения сновидениями, но и этого мне показалось мало. «А вдруг, – подумал я, – сновидения будут настолько приятными, что я, чего доброго не захочу просыпаться». С этих пор мамино вечернее заклинание звучало так: «Спокойной ночи, приятных сновидений, до завтра». Потом к этой формуле прибавилось «удачного пробуждения», затем – «хорошего завтрашнего дня», потом – «пусть ты ничем не заболеешь этой ночью» и наконец – «пусть ты не заболеешь и в последующие дни и ночи», после чего мама взбунтовалась.
– Все, – сказала она, – хватит этих капризов. Будешь спать так. Не хочу ничего говорить!
– Мама! – вскричал я, пребывая в священном ужасе, будучи уверен, что скончаюсь той же ночью. – Ты хочешь убить меня! Нет! Нет! Умоляю! Скажи все, что должна.
Но мама отличалась весьма упрямым характером. Нет – значит, нет.
Я не мог заснуть долго этой ночью. Несколько раз вставал и отправлялся на переговоры, надеясь уговорить маму – пощадить меня. Но тщетно. Потом, вдоволь намучившись, все же уснул… Затем были еще ночи, и новые мучения, но в конце концов я привык засыпать без пожеланий спокойной ночи и прочих «важных» слов. Казалось бы, сон наладился. Но меня ожидал новый удар.
Мама написала одну из своих картин (тогда она писала по большей части маслом) и повесила у меня в ногах, на стенку массивного секретера.
Поначалу я отнесся к этому новшеству спокойно, но потом стал просить, и даже умолять, убрать картину из комнаты. На ней была ваза с цветами. И в этой самой вазе отчетливо видна была мерзкая мышиная морда, очень злая – несколько мазков белилами – дорисованная моим богатым воображением.
– Мышь? – удивилась мама. – Какая еще мышь?
Я протопал по кровати и ткнул в картину указательным пальцем, очертил острую мордочку:
– Вот она.
– Глупости, – сказала мама. – Добрая мышка, она никак тебе не помешает.
– Нет, мама, убери ее, убери, она злая, очень злая! – закричал я.
Но мама осталась непреклонна.
– Привыкай, – сказала она. – Найди с ней общий язык, подружись.
Когда она закрыла дверь, мышь уставилась на меня с картины парочкой маленьких черных глазок. Смотрела она с любопытством, растянув морду в недоброй усмешке. Я лежал под одеялом, не шевелясь, стараясь не упустить ее из вида. Все ждал, что она выкинет. Но она не шевелилась.
Целые недели я привыкал к этому неподвижному злу, заключенному в сосуде. Но так и не привык… Лишь смирился с ним на время. Когда я приехал в квартиру много лет спустя, чтобы забрать мамины картины, этой уготована была особая судьба. Признаться, я был несколько пьян. И все же я так давно хотел это сделать, что состояние мое не имело никакого значения. Я осуществил давнее намерение. Это главное. Достал из кармана нож и вырезал из холста изображение мерзкой мыши. А потом на кухне сжег грызуна на газовой конфорке. Обезображенную картину я выбросил на помойку. Другие полотна забрал с собой. Мамины картины всегда мне нравились. В них была вся она – сильная, умная, наделенная отличным чувством юмора и жизнелюбием, отталкивающая от себя все дурное, и сомневающаяся, ищущая, противоречивая. Ее картины были молодыми, дышали поиском и талантом, и каждая отличалась от другой стилем и манерой исполнения. Как будто их писали разные люди. Теперь на стене в коридоре, в квартире, где я живу, висят ее «Человек под дождем» (опоясанный белыми рамками серый и мрачный тип под зонтиком – чей взгляд неприятен) и «Карты» (угловатый кубизм, исполненный неуютного морока, отчего и переехал из спальни). Мамины картины надо смотреть, наблюдать, они никогда не станут пустым украшением интерьера, не глянутся обывателю, не сделают счастливым любителя лубочных картинок с Арбата и глазуновско-шиловского прямолинейного художественного убожества.
* * *
Когда мне было одиннадцать лет, прямо посреди учебного года, осенью, бабушка взяла меня с собой в Ташкент – на биологическую станцию. Там трудились над выведением новой породы тутового шелкопряда аспиранты, чью работу она курировала – ребята самых разных национальностей. Для меня поездка стала настоящим подарком – ведь можно было две недели не ходить в школу. К тому же, предстоял первый в моей жизни полет на самолете – я предвкушал его настолько, что не мог заснуть в ночь перед полетом, нисколько не опасаясь, что с самолетом что-нибудь случится, и он грохнется на землю, и все мы обязательно погибнем.
Помню, с каким восторгом поднимался по трапу, как радостно усаживался в широкое кресло – сам я был худенький, и кресло казалось огромным. Конечно, мне досталось место возле окна. Через ряд от нас с бабушкой сидел толстенный узбек, ремень никак не хотел застегиваться на его огромном пузе, и бедная стюардесса в красивой форме всячески ему помогала, да так – что он кряхтел. Не успели мы взлететь, как толстяк распечатал пачку сигарет «Ява» и картинно закурил, потом извлек из сумки коньяк, налил в рюмку и, причмокивая, выпил – он тоже, похоже, любил летать. Но бабушка быстро испортила ему все удовольствие.
– Здесь же дети, – строго сказала она, – вы не могли бы курить в хвосте, как все порядочные мужчины?
Узбек сразу сильно расстроился, погрустнел. Ему пришлось отстегивать ремень, мучительно выбираться из кресла и топать в хвост самолета. Там уже висел смог и курила целая толпа «порядочных» мужчин. В те лихие времена мало кого волновало, сколько минут горит воздушное судно. Эта информация стала интересной и доступной гораздо позднее. Куда больше все задавались вопросом – когда будут кормить. Шу-шу-шу про еду перелетало из одного конца салона в другой. И вскоре появилась стюардесса с тележкой – все сразу успокоились – и стали ждать.
После того, как все покурили, выпили и поели, наступило временное затишье. Смотреть в окно оказалось совсем не интересно – сплошные облака и яркое солнце, земли не было видно. Зато когда самолет пошел на посадку, я вновь набрался ярких впечатлений. Все окружающие по очереди стали блевать в бумажные пакеты. Причем, делали это страшно, издавая надсадные звуки «буэ-э-э». До сих пор не могу понять, почему через некоторое время на самолетах совсем перестали изрыгать содержимое желудков. То ли самолеты стали летать аккуратнее, то ли их конструкция стала более щадящей по отношению к людям, а может, люди просто привыкли к полету – адаптировались. В общем, это одна из величайших загадок современности.
Зеленые, изможденные, с пустыми желудками и заложенными ушами все вывалились из самолета и поплелись по жаре к зданию аэропорта.
– Делай вот так, – показала бабушка, зажала нос и надула щеки.
– Зачем? – удивился я.
– Так быстрее уши отложит.
Так, с зажатым носом и раздутыми щеками, я и познакомился с Хамидом, самым веселым бабушкиным аспирантом. По национальности он был наполовину узбек и еще по четвертинке из каких-то малых народностей, про которые говорил: «Их никто не знает, но это лучшие люди в СССР».
– Что это с тобой? – спросил он меня и подмигнул.
– Это чтобы уши не закладывало, – пояснил я.
– Понятно.
Хамид подхватил наш тяжелый чемодан и потащил к машине.
– Как долетели? – задал он бабушке традиционный вопрос всех встречающих авиапутешественников.
– Хорошо. Только голова немного кружится.
– Это ничего, это пройдет, – успокоил Хамид. – А у нас тут чепэ. Настоящий. – И принялся уже без остановки излагать последние новости, связанные с тутовым шелкопрядом, то и дело называя имена и фамилии, которые мне ничего не говорили.
Ташкент запомнился мне зеленым городом с широкими аллеями деревьев и множеством небольших домиков с белеными известью стенами и заборами. Впрочем, центр выглядел очень современно. На многих зданиях был заметен колоритный восточный узор. А через несколько дней мне предстояло прокатиться на ташкентском метро – коротком, но мало чем отличающемся от московского…
Мы миновали несколько виноградников, полей, где рос хлопок, и выехали к зданию биологической станции. Прямо напротив входа росло раскидистое дерево.
– Вон, залезай, попробуй шелковицу, – предложил Хамид.
Я немедленно забрался на дерево и принялся горстями собирать и пихать в рот сладкие ягоды. Конечно же, сразу перепачкался – и рот, и руки и рубашка – все стало лилового цвета.
– Хороший парень Хамид, – сказала мне вечером бабушка, когда мы заселились в гостиничный номер, – но лодырь каких свет не видывал… Не знаю, как буду ему засчитывать практику.
Лодырь Хамид на время нашего пребывания в Ташкенте стал мне настоящей нянькой, везде таскался со мной – показывал город, возил в кочующий «чешский Луна-парк», который был в Ташкенте проездом, помогал воровать виноград и все время рассказывал о девушках – как они прекрасны, как сладки их губы, как наливисты перси…
– Знаешь, что такое перси? – интересовался Хамид.
– Нет.
– Э-э… еще узнаешь. Маленький еще… – Он смеялся и трепал меня по шевелюре.
С аспирантками Хамид вел себя развязно. Особенно доставалось красивой грузинке по имени Нана, к которой «мой друг», я про себя уже называл его только так, грязно приставал.
– Нанка, давай сегодня ночью приду, – говорил он, пока мы шли из столовой.
– Отстань, – отвечала Нана.
– Ну, Нанка. Ты ведь без меня не заснешь. А со мной, знаешь, какие сладкие сны увидишь…
– Отстань, говорю.
– Юля, – обращался Хамид к другой аспирантке, – скажи Нане, что она дура. Сама не видит, что упускает. Такого парня упустит. Потом локти кусать будет.
Юля в ответ смеялась.
– А может я к тебя приду, а, Юль? – не унимался Хамид.
– Ты же уже к Нане собирался…
– Так я передумал.
– Нет уж. Раз собирался к Нане, иди теперь к Нане.
– Нужен он мне, – смеялась Нана. – У меня, может, жених есть…
– Жених?! У тебя?! – кричал Хамид. – Не раздражай мое тонкое чувство юмора. Нет у тебя никакого жениха. А если бы был, он бы тебя в Узбекистан одну ни за что бы не отпустил.
– Это еще почему?
– Потому что – как можно отпускать такую девушку?! Такую девушку надо крепко к сердцу прижать, и держать, не отпускать всю жизнь. Поняла?
– Болтун, – отмахнулась Нана.
– А если я серьезно? Если я влюбился раз и навсегда? И никого больше не полюблю?
Эти разговоры возникали каждый раз, когда они встречались, и продолжались бесконечно, но ни к чему серьезному, насколько я понимаю, так и не привели.
Сейчас Хамид – солидный человек, директор института, сильно в теле, отец четверых детей, женился на местной девушке, и сделал блестящую карьеру. Думаю, «лодырю» это вполне под силу, если он умеет находить подход к людям. А Хамид умел подружиться с каждым. Я наблюдал этот его талант не один раз – когда случайные знакомые делались ему почти что друзьями, и они вместе раскуривали по сигаретке, обсуждая какие-нибудь важные местные новости.
В Луна-парке «моего друга», правда, сильно разозлили. Это был какой-то блуждающий парк аттракционов. Почему-то все называли его «чешским». Они стояли шатрами, как цыгане, разъезжая по стране. Здесь можно было прокатиться на лошадях, покидать мячи или кольца, что-нибудь выиграть, но особым спросом у посетителей пользовался «Тоннель страха». Вы садились в машинку, рассчитанную на двоих – и отправлялись в путешествие по наглухо задрапированному пространству, где вас ждали самые разнообразные неожиданности: скрежет зубовный, дикий хохот, фосфорицирующие рыбы, выпадающие из стен скелеты и напоследок – мокрой тряпкой по физиономии. Почему-то это последнее испытание так разозлило Хамида, что он кинулся ругаться с обслуживающим аттракцион парнем. Ругался он, перемежая русские и узбекские слова, так что почти ничего было не понять, кроме того, что он очень недоволен. Парень тоже пришел в неистовство, кричал, что всем всё нравится, кроме него, и толкал Хамида в грудь. В конце концов, когда они оба наорались и выпустили пар, Хамид взял меня за плечо и сказал:
– Пошли отсюда, нас здесь не уважают, сволочи…
И мы покинули Луна-парк, взяв напоследок по мороженому. Хамид ворчал еще добрых полчаса, я же был в полном восторге от проведенного дня, и особенно от «Тоннеля страхов» – мне казалось, что мокрая тряпка – это просто отличная затея, чтобы как следует напугать посетителей, вон как Хамид перепугался – даже в драку полез.
– Ты вот что, Степ, бабушке об этом не рассказывай, не надо, – попросил он напоследок.
Когда несколько лет назад он приезжал в Москву, мы так и не смогли увидеться – я был слишком занят, но поговорили по телефону. Я напомнил ему тот давний случай, и он, к моему удивлению, вспомнил его.
– Да, – сказал солидный директор института, – вот же сволочи, мокрой тряпкой прямо по физиономии… – И выругался по-узбекски…
Поразил мое воображение и местный базар. Тогда в Москве еще не было вещевых рынков – и мы не знали, что такое массовая торговля, а в магазинах был скудный набор товаров. Здесь же было почти все – но больше всего ковров, халатов и тюбетеек, самых ярких расцветок. И пестрые женские платья. Хотя большинство узбечек по городу ходили не в них, а в непримечательных серых и черных нарядах. Зато мужчины все носили яркие халаты, бардовые и синие, и тюбетейки с кисточками, сидели в чайханах прямо на полу и тянули чай из расписных пиал.
– А они что, не работают? – спросил я Хамида.
– Ну, знаешь, – ответил он. – Ташкент – это же не Москва. Здесь спешить не любят. Тут любят посидеть, поговорить… И работать, честно говоря, тоже не очень любят. Пусть ишак больше работает. А мужчина должен думать. И быть большим начальником.
На базаре Хамид предложил угостить меня местным пловом. Но готовили его в огромном казане, мешая громадной грязной ложкой. И руки, которые держали ложку, были все в жиру, особенно меня оттолкнули черные нестриженные ногти. Такой же, не самый чистый человек, готовил бараний шашлык, запах прогорклого жира распространялся на всю округу, а халат у него был весь в белесых разводах от пота.
– Видишь, кто, в основном, работает, – разглагольствовал Хамид, – бедные, необразованные, им даже помыться негде… Поэтому, я пошутил, мы этот плов, этот шашлык есть лучше не будем. А то заведутся у тебя потом в животе глисты. Оно тебе надо, а, Степан? И что я потом твоей бабушке скажу?
– Не надо, – согласился я. – Лучше в столовой поедим…
В один из дней за бабушкой и мной приехала черная Волга – машина представительского класса в Узбекистане тех лет. И какой-то местный «начальник» по имени Убайдула, очень важный, в синем костюме и при галстуке, с личным водителем, повез нас – показывать сельскую местность.
Там случился неприятный эпизод, который я запомнил на всю жизнь. Моя бабушка, ярко выраженная блондинка, вышла ополоснуть руки в местном ручье. Откуда-то вдруг раздался крик: «Русские!» И в нашу машину полетели камни. Причем, швыряли их не только подростки, но и взрослые мужчины, и даже женщины.
– Опомнитесь, люди! – кричал Убайдула в открытое окно, но из машины так и не вышел.
– Русские, вон отсюда! – кричали они нам вслед, когда мы уезжали. Летели и какие-то узбекские ругательства, но я их не понимал. Только чудом никто не пострадал.
– Это дикари, – пояснил смущенный «начальник» по дороге назад. – Сами не знают, что творят. Русские нам такую жизнь подарили. Такое метро построили. Такие дороги. А они недовольны. Дикари – одно слово! Совсем мало таких. Почти нет. Отвечаю за свои слова.
Но бабушка была очень удручена случившемся и попросила поскорее отвезти ее в гостиницу. Да и мне было очень не по себе.
Когда через пару дней к дереву шелковицы, на котором я сидел, подошли два женщины и спросили, русский я или узбек (а я был в черной тюбетейке), я на всякий случай ничего не ответил. Тогда они обратились ко мне по-русски, попросили сбросить немного ягод, и я выполнил их просьбу…
Когда мы уезжали, на аэровокзале бабушка, вздохнув с улыбкой, сказала запомнившуюся мне навсегда фразу: «Как хорошо в Узбекистане, вот только узбеки…»
* * *
Практически невозможно предсказать, кем станет в будущем тот или иной мальчик или девочка, как сложится его судьба. И уж конечно, успехи в учебе нисколько не влияют на жизненный успех. Кривая судьбы может вывести в люди, а может уронить на самое дно. От нас, конечно, многое зависит. Но куда больше зависит от трех факторов: стартовых возможностей, которые дают нам родители, личных способностей, которые дает нам Господь Бог, и удачи (подозреваю, кости швыряет сам Сатана).
Когда появились социальные сети, многие с интересом кинулись узнавать, как там дела у одноклассников, Вовки или Петьки. Небось – давно в тюрьме сидят. Она всегда по ним плакала. Как поживает первая школьная любовь, Маринка или Светка. Сильно ли растолстела, и сколько у нее детей. Была, конечно, была, промелькнула задорная мыслишка – а вдруг Светка все так же хороша, и не замужем. А может, теперь удастся осуществить то, что тогда не получилось? А жена… ну, что жена… жена ничего не узнает. И потом, она же появилась через много лет после Светки. Светка – это святое… Но нет, Светка выглядит на свои сорок с гаком. Трое детей. Муж – дипломат, сволочь. Карьерист, по холеной роже видать. И самое неприятное, Петька совсем не в тюрьме, а успешный бизнесмен. Вот его фото рядом с красивым дорогим авто, а вот он же – на Подмосковной вилле. И сразу делается тошно… Как же так? Ты же был всегда умнее, активнее, лучше учился… Почему им все – а тебе ничего? И думаешь, откупорю-ка я бутылочку, выпью за своих одноклассников, чтоб им пусто было.








