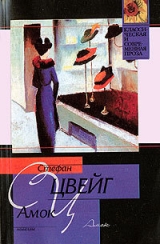
Текст книги "Амок"
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан. – Итак, слушайте… но сначала постарайтесь вдуматься во все это: к человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты… И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел: мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу – не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была… тут была железная, чисто мужская решимость… с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня… что она может подчинить меня своей воле… Однако… однако… во мне поднималась какая-то злоба… гордость мужчины, обида, потому что… я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага. Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал. Я заговорил, но… уклончиво… невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что – не знаю, можете ли вы понять это – я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот… хотел, чтобы она попросила… именно она, явившаяся с таким повелительным видом… И, кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные, холодные женщины. Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей, более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов… Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и… все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит. И действительно, она резким движением прервала меня, словно отметая все эти успокоительные разговоры. – Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии… но теперь я уж не та… у меня бывают сердечные припадки… – Вот как, сердечные припадки? – повторил я, изображая на лице беспокойство. – Сейчас послушаем! – Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда. – У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования – вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие к вам. Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его. – Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью. Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо – такое, какое боялся увидеть: непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере, Отмеченное не зависящей от возраста красотою, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок, – очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд. Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала: – Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете? – Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния… хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив… устранив причину. В этом все дело? – Да. Как нож гильотины, упало это слово. – А вы знаете, что подобные эксперименты опасны… для обеих сторон? – Да. – Что закон запрещает их? – Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется. – Но это требует заключения врача. – Так вы дайте это заключение. Вы – врач. Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», – нашептывало мне какое-то смутное вожделение. – Это не всегда во власти врача. Но я готов… посоветоваться с коллегой в больнице… – Не надо мне вашего коллеги… я пришла к вам. – Позвольте узнать, почему именно ко мне? Она холодно взглянула на меня. – Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы… – она в первый раз запнулась, – вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если… если вы сможете увезти домой значительную сумму. Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня, как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон. – И эту значительную сумму вы… вы предоставили бы в мое распоряжение? – За вашу помощь и немедленный отъезд. – Вы знаете, что я, таким образом, теряю право на пенсию? – Я возмещу вам ее. – Вы говорите очень ясно… Но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара? – Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме. Я задрожал… задрожал от гнева и… от восхищения. Все она рассчитала – и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу… Но когда я поднялся (она тоже встала) и посмотрел ей прямо в глаза, взглянув на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела… овладела… какая– то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека; ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то… за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал… сказал ей… Но постойте, так вам не понять, что я сделал… что сказал… мне нужно сначала объяснить вам, как… как зародилась во мне эта безумная мысль…
Опять тихонько звякнул во тьме стакан. И голос продолжал с еще большим волнением: – Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя… Но вы без этого не поймете… Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком… но, кажется, помогал я всегда охотно… А там в моей собачьей жизни это была ведь единственная радость: пользуясь горсточкой знаний, вколоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу… Я чувствовал себя тогда господом богом… Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, – еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, – сознание, что ты нужен другому. Но эта женщина – не знаю, сумею ли я объяснить вам, – она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимоходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все… как бы это сказать… будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом… потом… в конце концов от игры в гольф не родятся дети… я знал… то есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал – это и была та мысль, – с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ… почти негодование, – что она два-три месяца назад лежала в постели с мужчиной и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуя… Вот это, вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер… И тогда, тогда у меня помутилось в голове… я обезумел от желания унизить ее… С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело… с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это… это я и хотел вам объяснить… Как я ни опустился, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача… но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне… я ведь не стал бы отпираться… только страстное желание победить ее гордость… победить как мужчина… Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели надо мной особую власть… но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления… Здешние женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, «господину»… Они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом… Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей… Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти… когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя… Это… вот это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное… поняли то, что произошло потом. Итак… полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушие. Я холодно произнес: – Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, на это я не согласен. Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мои отказ вызван не алчностью. Все же она спросила: – Сколько же вы хотите? Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне. – Будем играть в открытую. Я не делец… не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за corrupted gold [2]2
Презренное золото (англ.).
[Закрыть]; может быть, я меньше всего делец… этим путем вы своего не добьетесь. – Так вы не желаете? – За деньги – нет. На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание. – Чего же вы еще можете хотеть? Тут меня прорвало: – Прежде всего я хочу, чтобы вы… чтобы вы не обращались ко мне, как к торгашу, а как к человеку… Чтобы вы, если вам нужна помощь, не… совали сразу же ваши гнусные деньги… а попросили… попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку… Я не только врач, у меня не только приемные часы… у меня бывают и другие часы… может быть, вы пришли в такой час… Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит: – Значит, если бы я вас попросила… тогда вы бы это сделали? – Вот вы уже опять торгуетесь! Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю! Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу. Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня. – Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть! Тут мною овладевает гнев, неистовый, безумный гнев. – Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее – вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда… тогда я вам помогу. Она с изумлением посмотрела на меня. Потом – о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, – на миг ее лицо словно окаменело, а потом… потом она вдруг расхохоталась… с неописуемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо… с презрением, которое уничтожило меня… и в то же время еще больше опьянило… Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный… Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я… да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение… словно молния огнем опалила меня… Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери. Я невольно бросился за ней… хотел объяснить ей… умолять ее о прощении… моя сила была ведь окончательно сломлена… но она еще раз оглянулась и проговорила… нет, приказала: – Посмейте только идти за мной или выслеживать меня… Пожалеете! В тот же миг за ней захлопнулась дверь.
Снова пауза. Снова молчание… Снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света. И, наконец, опять его голос: – Хлопнула дверь… но я стоял, не двигаясь с места… Я был словно загипнотизирован ее приказом… я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь… я слышал все и всем существом рвался к ней… чтобы ее… я не знаю, что. Чтобы вернуть ее, или ударить, или задушить… но только бежать за ней… за ней… Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током… я был поражен, поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора… Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать… Это может показаться смешным, но я все стоял и стоял… и. Прошло несколько минут, может быть пять, может быть десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли… Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать… Вмиг слетел я с лестницы… Она ведь могла пойти только к станции… Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы, и вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку… я должен… я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль… я должен поговорить с ней… Я мчусь по пыльной улице… теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении… Но вот… на повороте к лесу, перед самой станцией, я вижу ее, она идет торопливым твердым шагом в сопровождении боя… Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна… Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю на педали… Вдруг что-то кидается мне наперерез на дорогу… ее бой… я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю… Поднимаюсь с бранью… невольно заношу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается… Встряхиваю велосипед, собираясь снова вскочить на него… Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here» [3]3
Вы останетесь здесь (англ.).
[Закрыть]. Вы не жили в тропиках… Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белою «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. В ответ на это я бью его по лицу… он шатается, но все– таки не выпускает велосипеда… Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха… но он держит руль, держит его дьявольски крепко… " You remain here ", – бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца. – Прочь, каналья! – прорычал я. Он глядит на меня, весь съежившись, но не отпускает руль. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость… я вижу, что ее уже нет, может быть она уже уехала… Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног… Теперь велосипед опять в моем распоряжении… Вскакиваю в седло, но машина не идет… во время борьбы погнулась спица… Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее… ничего не выходит… Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, тот встает весь в крови и отходит в сторону… И тогда – нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец… но я уже не понимал, что делаю… у меня была только одна мысль: за ней, догнать ее… и я побежал, побежал, как сумасшедший, по деревенской улице, мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор. Обливаясь потом, примчался я к станции… Мой первый вопрос был: – Где автомобиль? – Только что уехал. – С удивлением смотрели на меня люди – я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос… На дороге за станцией я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля. Ей удалось уехать удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие намерения. Но бегство ей не помогло… В тропиках нет тайн между европейцами… все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в событие… Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало… через несколько минут я уже знаю все… Знаю, кто она… что живет она в… ну, в главном городе района, в восьми часах езды отсюда по железной дороге… что она… Ну, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка… Знаю, что ее муж пробыл пять месяцев в Америке и в ближайшие дни… должен приехать, чтобы увезти ее в Европу… А она – и эта мысль, как яд, жжет меня, – она беременна не больше двух или трех месяцев…
– До сих пор я еще мог все объяснить вам… может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя… сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка… я потерял способность управлять своими поступками… то есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю, но я уже не имел власти над собой… я уже не понимал самого себя… я как одержимый бежал вперед, видя перед собой только одну цель… Впрочем, подождите… я все же постараюсь объяснить вам… Знаете вы, что такое «амок»? – Амок?.. Что-то припоминаю… Это род опьянения… у малайцев… – Это больше чем опьянение… это бешенство, напоминающее собачье… припадок бессмысленной, кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления… Во время моего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев – когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты! – но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни… Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему, пока, наконец, она не взрывается… О чем я говорил? Об амоке?.. Да, амок – вот как это бывает: какой– нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку… сидит, отупевший, равнодушный, вялый… как я сидел у себя в комнате… и вдруг вскакивает, хватает нож, бросается на улицу… и бежит все вперед и вперед… сам не зная куда… Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его… Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь… и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни вправо, ни влево, бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути… Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком… они кричат, предупреждая других, при его приближении. «Амок! Амок'», и все обращается в бегство… а он мчится, не слыша, не видя, убивая встречных… пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет на землю… Я видел это раз из окна своего дома… это было страшное зрелище… но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни… Точно так же, с тем же ужасным, неподвижным взором, с тем же исступлением ринулся я… вслед за этой женщиной… Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло… Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две… после того как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию… уехал, не предупредив окружного чиновника… не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол судьбы… Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся… помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город… Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался, гонимый амоком, сам не зная зачем… Я мчался вперед очертя голову… В шесть часов вечера я приехал… в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе… Это было… вы понимаете… самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать… но у гонимого амоком незрячие глаза, он не видит, куда бежит… Через несколько минут слуга вернулся… сказал вежливо и холодно… госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять… Я вышел, шатаясь… Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной… лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски… Виски и двойная лоза веронала помогли мне… я, наконец, уснул… и навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.
Прозвучал колокол – два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня; мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом: – То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, – человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Иокогамы ее муж; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог говорить с не". Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все– таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было… да, постойте… как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели… Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унизить, а я… в этом и была вся ужасная бессмыслица… я больше и не думал об этом… я был вконец уничтожен, я хотел только помочь ей, услужить… Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей… Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому; у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу, и заметив меня – несомненно, он меня поджидал, – проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе… ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема… но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духу сделать еще одну попытку… У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел… ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего. Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы… Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе… В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство… может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком… Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту… я должен переехать немедленно… Он взглянул на меня… не могу вам передать, как он на меня взглянул… ну, примерно так, как смотрит врач на больного… – У вас не выдержали нервы, милый доктор, – сказал он, – я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного… Скажем, недели четыре… мне нужно сначала подыскать вам заместителя. – Не могу ждать ни единого дня, – ответил я. Он опять окинул меня странным взглядом. – Нужно потерпеть, доктор, – серьезно сказал он, – мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он, со светской любезностью, опередил меня – Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите по крайней мере сегодня вечером, – сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают пожелание, чтобы вы перебрались сюда. Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что, гонимый нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания; безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец, пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор – мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительна была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом, матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи; она разговаривала, окруженная группой гостей Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе – она не видела или не хотела меня видеть – и вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она… потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное уменье притворяться. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж… Как может она так улыбаться, так… так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того чтобы комкать его от волнения? Я… я, чужой… я уже два дня дрожу в ожидании того часа… я, чужой, мучительно переживаю за нее ее страхи, ее отчаяние… а она явилась на бал и улыбается, улыбается… Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее; она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу – но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, сказала «добрый вечер, доктор!» – и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет. Никто не мог бы разгадать, что таилось во взгляде этих серо-зеленых глаз, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась… почему вдруг узнала меня?.. Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица, а я ведь знал, что она… что она, так же, как и я, думает только об одном… только об одном… что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна… а она танцевала… В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она, – я не мог заставить себя смотреть в другую сторону, я должен был… да, должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, издали впивался в ее невозмутимое лицо – не спадет ли маска хотя бы на миг. Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб… Но… но… я ведь уже говорил вам… меня гнал амок, я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее – этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания! возьми себя в руки!» – Я знал, что она… как бы это выразить?.. что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале… я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею… Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь… я знал, что она – и с полным основанием – боится какой-нибудь моей неловкой выходки… Вы видите… я знал все, я понял этот повелительный взгляд, но… но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них… Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался, точно побитая собака, под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание… безусловно… потому что никто не сказал мне ни слова; и она, наверно, страдала от моего нелепого поведения. Сколько бы я так простоял, не знаю… может быть, целую вечность… я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю… Я был словно парализован яростным своим упорством… Но она не выдержала… Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружавшим ее мужчинам: – Я немного утомлена… хочу сегодня пораньше лечь… Спокойной ночи! И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит… что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение… и так я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого… а тогда… тогда… Однако погодите… погодите… Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка… сначала я должен описать вам место действия… Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом… пары ушли танцевать, мужчины – играть в карты… только по углам беседовали небольшие кучки гостей… Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр… и она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны… шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней… Я… я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит, а когда я это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тут… о, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом… тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал – вы слышите – я побежал… я не пошел, а побежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался от стен зала… Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня… я сгорал со стыда я уже во время бега сознавал свое безумие… но я не мог не мог остановиться… Я догнал ее у дверей Она обернулась… ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева… Я только открыл было рот… как она… вдруг громко рассмеялась… звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала… громко, чтобы все слышали: – Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика… уж эти ученые!.. Стоявшие вблизи добродушно засмеялись… Я понял, я был поражен – как мастерски спасла она положение. Порывшись в бумажнике, я второпях вырвал из блокнота чистый листок… она спокойно взяла его и… ушла… поблагодарив меня холодной улыбкой… В первую секунду я обрадовался… я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение… но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность… ненавидит больше смерти… понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку. Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят… у меня был, вероятно, очень странный вид… Я пошел в буфет, выпил подряд две, три… четыре рюмки коньяку… Это спасло меня от обморока… нервы больше не выдерживали, они словно оборвались… Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник… Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха… Я пошел… точно не знаю, куда я пошел… в какие-то кабаки… и напился, напился, как человек, который хочет все забыть… Но… но мне не удалось одурманить себя… ее смех отдавался во мне, резкий и злобный… этого проклятого смеха я никак не мог заглушить… Потом я бродил по гавани… револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой… с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер… с одной этой мыслью. Если я тогда не застрелился… клянусь вам, это была не трусость… для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок… Но, как бы объяснить это вам… я чувствовал, что на мне еще лежит долг… да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг… Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу… я ведь говорил вам… в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь… Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей… Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно… я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей… Часами, часами метался я по своей тесной комнате… был уже день, время приближалось к полудню… И вдруг меня толкнуло к столу… я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей… я все написал… я скулил, как побитый пес, я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником… умолял ее довериться мне… Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала… лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час… Я исписал двадцать страниц… Вероятно, это было безумное, немыслимое письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту… комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды… Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов… дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт… и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь!» После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!








