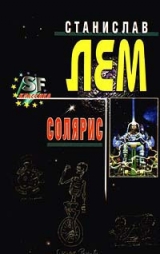
Текст книги "Рассказ Пиркса (др. перевод)"
Автор книги: Станислав Лем
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Станислав Лем
РАССКАЗ ПИРКСА
Фантастика? Люблю, а как же, но только плохую. То есть не то что плохую, а непохожую на правду. На корабле у меня всегда что-нибудь такое найдется – почитать в свободную минуту, хотя бы из середины, а потом отложить. С хорошими книгами все по-другому – те я читаю только на Земле. Почему? Толком и сам не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдивы в другом смысле: если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так непохожую на земную, это спокойствие – абсолютное, неподвижное… О чем бы в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном: там человек никогда не будет у себя дома. На Земле все такое случайное, какое попало: дерево, стена, сад, вместо одного всегда может быть что-то другое, за горизонтом – другой горизонт, за горой – долина, а там все совершенно иначе. На Земле людям никогда не приходит в голову, до чего это жутко, что звезды не движутся; лети на полной тяге хоть год – не заметишь никаких изменений. Здесь, на Земле, мы летаем, ходим, и кажется нам, будто мы знаем, что это такое – пространство. Словами этого не передашь. Помню, возвращался я как-то из патрульного рейса, где-то в районе «Арбитра» слышал далекие разговоры – перебранку из-за того, кому приземляться первым, – и случайно увидел другую возвращающуюся ракету. Тот парень думал, что он один. Он швырял свой бочонок так, словно бился в припадке. Все вы знаете, как это бывает: через несколько дней на тебя вдруг находит безумная охота что-нибудь сделать, все равно что, – дать полную тягу, разогнаться, порулить на большом ускорении, чтобы язык вылез…
Раньше я думал, что это как-то нехорошо – не должен человек давать себе столько воли. Но это, в сущности, только отчаяние, только желание показать вот этот самый язык Космосу. Ведь Космос не поменяешь местами с чем-то еще, как дерево; потому-то, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот, хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающий не станет читать об агонии, то и мы, чуточку побаиваясь звезд, не хотим, летя среди них, слышать о них правду. Тут, конечно, годится все, что отвлекает внимание, как эти приключенческие, космические истории, потому что в них все-все, даже Космос, такое добропорядочное… Конечно, это добропорядочность для взрослых, поэтому есть там и катастрофы, и убийства, и прочие ужасы, но и ужасы тут добропорядочные, невинные, потому что выдуманные с начала до конца: тебя пугают, а ты только посмеиваешься. История, которую я расскажу, как раз такая. Она случилась со мною в действительности. Но это не важно.
Дело было в Год спокойного солнца. Как обычно в такое время, устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железок, которые кружат на уровне орбиты Меркурия; за шесть лет, что ушли на строительство в его перигелии большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых, ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе Ле Манса и, вместо того чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Ле Манс был хорошим экономистом, но плохим инженером: правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда Ле Манса осенила новая мысль – перетащить эту покойницкую на Землю; чего, мол, ей без пользы кружить до второго пришествия, если можно переплавить ее в мартенах? Но чтобы затея окупилась, для буксировки пришлось взять ракеты, немногим лучшие, чем ракетные трупы. Я тогда был патрульным пилотом, отлетавшим положенные часы, то есть пилотом лишь на бумаге, по первым числам, когда выдавали получку. А летать мне хотелось так, что я согласился бы и на железную печку, только бы давала хоть чуточку тяги; ясное дело, я явился в бразильскую контору Ле Манса, едва прочитал его объявление. Не стану утверждать, что экипажи, набиравшиеся Ле Мансом, вернее его агентами, были чем-то вроде Иностранного Легиона или шайки головорезов, – не стану, потому что головорезы вообще не летают. Но теперь мало кто отправляется в Космос в поисках приключений; их там нет – во всяком случае, как правило, нет; многие решаются на это от безысходности, а то и просто случайно, это – самый негодный материал, ведь наша служба требует большей закалки, чем морская, и тем, кому все едино, не место на корабле. Я тут не развожу психологию, а только хочу пояснить, почему уже после первого рейса я потерял половину команды. Пришлось уволить механиков, потому что их споил телеграфист, маленький такой мексиканец, метис, изобретавший просто гениальные способы протаскивать на борт спиртное. Этот субъект играл со мной в прятки. К примеру, запускал полиэтиленовые кишки в канистры… ну да ладно. Пожалуй, он засунул бы виски в реактор, если бы смог. Представляю, как возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. И почему это они верили, что выход на орбиту вдруг превратит человека в ангела? Может, у них в голове, помимо сознания, застряло голубое, райское небо, которое так быстро кончается во время старта? Впрочем, чего я к ним привязался…
Тот мексиканец родом был, собственно, из Боливии, приторговывал марихуаной, а изводил меня потому, что это его забавляло. У меня бывал народ и похуже. Ле Манс, как и положено важной персоне, не вдавался в детали, а только установил своим агентам финансовые лимиты, и мне не только не удалось набрать экипаж, но еще приходилось дрожать над каждым киловаттом тяги; никаких тебе резких маневров – после каждого рейса уранографы проверяли, как бухгалтерские книги, чтобы, упаси Боже, не улетучился куда-нибудь десяток долларов, превращенных в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не учили; что-то похожее творилось, пожалуй, лет сто назад, на старых трампах, курсировавших между Глазго и Индией. Впрочем, я не жаловался, а теперь вспоминаю об этом, стыдно сказать, с умилением. Вы только представьте себе: «Жемчужина ночи» – что за название! Корабль понемногу разваливался, навигация на нем сводилась к поискам всевозможных протечек и замыканий, каждый старт и каждое приземление совершались вопреки всем законам – не только физическим; кажется, у агента Ле Манса были знакомства в порту Меркурия, иначе любой инспектор немедленно опечатал бы все, от рулей до реактора. В общем, мы выходили на лов в перигелий, искали радаром старые остовы ракет, а потом сгребали их в кучу и формировали «поезд»; у меня было тут сразу все: скандалы с механиками, выкидывание спиртного в пустоту (там и теперь еще кружит уймища «Лондонского сухого джина») и чудовищная математика – управление кораблем заключалось в отыскивании приближенных решений задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени. Я запирался у себя в каюте и читал. Автора не помню – какой-то американец, в заглавии было что-то о звездном песке или что-то похожее. Не знаю, какое там было начало, – я читал с середины; герой находится в камере реактора, разговаривает по телефону с пилотом и тут слышит крик: «Метеориты за кормой!» До этой минуты тяготения не было, и вдруг он видит, как громада реактора, сверкая желтыми глазищами циферблатов, наезжает на него все быстрее; это двигатели дали тягу, и корабль рванулся вперед, а он, вися в воздухе, сохранил прежнюю скорость. К счастью, он как-то оттолкнулся ногами, но ускорение вырвало у него из рук трубку; он повис на телефонном шнуре, потом упал, распластавшись, трубка болталась прямо над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее поймать, но, понятно, весил целую тонну и не мог пальцем пошевелить; однако как-то схватил ее зубами и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил, а еще больше понравилось мне, как они проходили через метеоритный рой. Облако пыли затянуло – обратите внимание! – третью часть неба, только самые яркие звезды просвечивали сквозь пелену, но это еще ничего, потому что затем герой вдруг видит на экранах, что из этого желтого тайфуна к нему устремляется бледно светящаяся полоса с черным ядром; не знаю, что это такое было, но я прямо прослезился от смеха. Как он все это прелестно вообразил! Эти тучи, тайфун, эта трубка – так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре; ну, а что в каюте его ждала женщина неописуемой красоты, уж это само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, а может, боролась против этой тирании, не помню уже. Во всяком случае, насчет красоты у нее было все в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому, что та книжка была моим спасением. Метеориты? Да ведь я остовы ракет по двадцать, по тридцать тысяч тонн искал неделями и даже половины не разглядел на радаре. Летящую пулю и ту легче увидеть. Как-то мне пришлось взять за шиворот моего метиса, когда мы шли без тяги; это небось потруднее, чем поймать телефонную трубку, – ведь оба мы плавали в воздухе, – хотя и не так эффектно. Похоже, я заболтался. Знаю. Однако история развивалась именно так. Двухмесячная охота закончилась, я тянул на буксире сто двадцать или, может, сто сорок тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к Земле.
Вопреки правилам? Ну да. У меня не было топлива на маневры. Я же сказал. Приходилось тащиться без тяги два с лишним месяца. Тут-то и грянула катастрофа. Нет, не метеориты, это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные; физиономии распухли, глаза будто щелки, температура высокая, о вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт Нгеи, негр, он был на «Жемчужине ночи» коком, стюардом, интендантом и неведомо кем еще. Он тоже болел, а как же! Делают ли в Южной Америке прививку от свинки? Не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер; телеграфист с утра, уже за завтраком, был пьян. А собственно, даже не пьян – то ли голова у него была такая крепкая, то ли прикладывался он понемногу, – во всяком случае, на ногах он держался совсем неплохо, особенно если отсутствовала сила тяжести (то есть почти все время, если не считать мелких поправок курса); но алкоголь был у него в глазах, в мозгу, и всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать – я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим; на борту я не мог себе этого позволить, да и как ударишь пьяного? В трезвом виде это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая, и еще он имел премилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой Морзе по столу, и несколько раз чуть не доходило до мордобоя, ведь все понимали морзянку, а он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик. Нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу, так он выстукивал ногой или вилкой – артист, да и только. Единственным совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки, и агенту этого было вполне достаточно, а я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах; он ответил, что да, – в машинах он разбирался. В дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Ле Манс проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок и, если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы им. Заперся бы в каюте… Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. Сто тысяч тонн в пустоте все равно ничего не весят – отцепив их, я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду, а я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову, когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин; единственным отдыхом была для меня та книжка о любви в пустоте, среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал раз десять. Там были все кошмары, какие только возможны, – взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов, красотка родом из другой солнечной системы, – но о свинке я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. Свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой – тоже.
В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались, просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспиртоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе? Как бы то ни было, я сновал по ракете, как муха по потолку, плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким как перст. Вся компания лежала с распухшими физиономиями по каютам, инженер торчал в рулевой рубке и учил с лингафоном французский – тишина, будто на зачумленном корабле, и лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение. Того боливийского мексиканца. К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть, к счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, когда свинка кончится, – такая робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал, хотя по-своему он был парень вполне приличный и все клялся мне, что, если бы не ужасные денежные передряги, в которые впутали его жена с шурином, он ни за что не подписал бы контракт.
Но он был из породы людей, которых я не выношу, – раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знаю, только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие, – навряд ли, потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык, а он мог рассказывать обо всем, и я просто не знал, куда деться; хорошо еще, что «Жемчужина ночи» была достаточно велика – двадцать восемь тысяч тонн массы покоя, было где спрятаться.
Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Ле Манса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той, несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал – помните? – что это будет история почти как из той книжки.
Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры, но телеграфист спал, а может, просто не принял его, во всяком случае, я узнал об этом лишь наутро, из выпуска новостей, который передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои ходят, в конце концов, в положенные сроки, правда, Юпитер с его возмущениями любит подстраивать всякие шутки, но к этой шутке он не имел отношения – радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный, правда, ширина фронта значительная – посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух. Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился; необычным было лишь второе, дневное сообщение: телезондирование показало, что рой – внесистемный!
Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты – это остатки комет, и перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках; внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов Большой Галактики, – просто сенсация, правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, – в скорости. Системные рои не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую. А рой, приходящий извне, может иметь – и обычно имеет – гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет, так что в волнение приходят метеоритологи и астробаллистики, а не мы, пилоты.
Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления; я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатели на малую тягу; так мы корректировали курс, а заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки.
Зато инженер перепугался ужасно. То, что о рое я говорил, будто о летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, рой пылевой и очень разреженный, а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре; во-вторых, все равно ничего не сделаешь – «Жемчужина» не способна выполнить маневр расхождения; наконец, по чистой случайности наш курс почти совпадает с траекторией роя, так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз.
Похоже, я не очень-то его убедил, но мне уже надоела эта психотерапия, надо было заняться телеграфистом и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов: в конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного – сигнала SOS. Кораблей здесь хватало, мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение – не только грузовое – заметно оживилось; держа телеграфиста под рукой, я до шести часов по корабельному времени, то есть четыре часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир; к счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в экраны радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки, и я бы не поручился, что эти зеленые привиденьица не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, который по имени звезды радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, и стало известно, что он, не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца, – как он вынырнул, так и канет в бездны Галактики, чтобы к нам уже не вернуться.
Дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку, а я его гнал оттуда, требуя, чтобы он присматривал за рулями; разумеется, это было чистейшей фикцией: мы шли без тяги, а без тяги нет управления, к тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр, которого, впрочем, я никогда бы ему не доверил; но надо же было чем-то его занять, а себя избавить от его нескончаемого нытья. Он все допытывался, случалось ли мне уже проходить через рой, и сколько раз, приводило ли это к авариям, и насколько серьезным, и много ли шансов спастись в случае столкновения… Вместо ответа я дал ему «Основы космической навигации и космодромии» Краффта; он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее, ведь ему хотелось задушевных признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести; в таких условиях движения людей, даже вполне трезвых, выглядят довольно комично – постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, о страховке, иначе, нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку. Телеграфист, однако, держался другой системы: он набивал карманы чем попало – какими-то гирьками, гайками, ключами и, если ему случалось зависнуть над полом, просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия и противодействия, однако он не слишком удобен, особенно для окружающих: брошенная вещица рикошетом отскакивает от стен, и такой беспорядочный полет твердых и способных пребольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской.
В эфире тем временем делалось тесно; многие пассажирские корабли, на всякий случай и в соответствии с правилами, меняли курс, у Луны с ними было немало работы, автоматические передатчики, передающие морзянкой орбитальные и курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями – слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов: пассажиры за немалые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно и ничего им не угрожает, Луна-Астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущений роя, результаты спектрального анализа его состава, словом, программа была насыщенной, и особенно скучать у приемника не приходилось.
Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха.
Около одиннадцати я пошел в кают-компанию перекусить; телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул, а я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту; выглядел он заметно спокойнее и снова сокрушался главным образом из-за шурина, а уходя к себе (зевал он уже как кашалот), сказал, что левый экран радара, должно быть, неисправен: там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел; я доедал холодную говядину из консервной банки – и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер.
Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его «неисправный экран»…
Мгновенье спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится, на самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стен и потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена, индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей; уже с порога я глядел на левый экран.
В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка, собственно даже – как я увидел, подойдя совсем близко, – пятнышко размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы; оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная, лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный – но не теперь, не теперь, а полчаса назад! – он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных, я опоздал на полчаса, я был один и делал, право, все сразу – запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу (реактор был холоден, как давно окоченевший покойник), – ведь минуты бежали; я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим, – разница составляла доли минуты, вероятность столкновения, и без того в пустоте невообразимо малая, равнялась почти нулю.
Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в девятистах километрах, то есть неслыханно близко, и, честное слово, я уже видел себя в Космическом трибунале (разумеется, не за «действия, приведшие к катастрофе», а просто за «нарушение параграфа восемь Космонавигационного кодекса в результате ОС – опасного сближения»). Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще, этот корабль упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив, постепенно приближался к «Жемчужине» потому, что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны; он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую; и верно, два замера с интервалом в десять секунд показали, что он проходил девяносто километров в секунду. А мы – каких-нибудь сорок пять!
Он не отвечал и приближался; выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящаяся линза, видимая сбоку, острое веретенце… Я посмотрел на радарный дальномер: уж больно это пятнышко выросло. Расстояние – четыреста километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Ох уж эта мне „Жемчужина ночи“! – подумал я. – Все тут не как у людей». Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла оторопь. Может, это тоже какой-нибудь «поезд Ле Манса», вроде того, на котором я машинист? Штук сорок ракетных остовов, один за другим, отсюда эти размеры… Но откуда сходство с веретеном?
Радароскопы работали, автоматический дальномер все тикал и тикал. Триста километров. Двести шестьдесят. Двести…
Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гаррельсбергеру – прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно: когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом «Жемчужины» в каких-нибудь тридцати-сорока километрах. Я проверил оба передатчика – автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать.
До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна: ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на шурина и желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла и все навалилось на меня одного, – но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование, истинного виновника я видел уже в этом глухом, немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы!
Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал сразу всего – чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, название, место назначения, судовладельца, – все это, конечно, условными сокращениями; а он преспокойно летел себе, молча, ни на волос не меняя ни курса, ни скорости, и был уже в восьмидесяти километрах от нас.
До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас обгонял: каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы; вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше тридцати наверняка, а может, всего только двадцать. Я должен был тормозить – такое сближение недопустимо, – но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не полтораста тысяч тонн ракетного кладбища; всю эту рухлядь пришлось бы сперва отцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее тут пригодилась бы философия, чем космодромия: стоицизм, фатализм и даже, если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии.
На расстоянии двадцать два километра тот корабль уже явно стал обгонять «Жемчужину». Теперь дистанции предстояло лишь увеличиваться, так что все вроде было в порядке; до этой минуты я не сводил глаз с траектометра – расстояние было важнее всего – и лишь теперь перевел взгляд на радароскоп.
Это был не корабль, а летающий остров, впрочем, не знаю – что. В двадцати километрах он был размером с мои два пальца, идеально правильное веретено превратилось в диск, нет – в кольцо!
Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль «пришельцев». Раз уж в длину он имел десять миль… Легко сказать, но кто же верит в корабли «пришельцев»? Первым моим побуждением было пуститься вдогонку. Ей-богу! Я схватился за рычаг главной тяги – но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома; ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенную в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось: подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля три штуки, одну за другой, так быстро, как только мог, и, когда первая вспыхнула, начал его искать. Он был огромен, как остров, но нашел я его не сразу. Вспышка ослепила меня, пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы, а третья – выше. В ее неподвижном, белом-белом свете я увидел того чужака.
Я видел его каких-нибудь пять, ну, может, шесть секунд: ракета, как это порою бывает, вспыхнула сильней и погасла. Но за эти мгновения я в ночную, восьмидесятикратную трубу разглядел освещенную сверху – довольно слабо, призрачно, но целиком – темную громаду металла; я видел ее как бы в нескольких сотнях метров. Она едва умещалась в поле обзора; в самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, – словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве, пустой в середине туннель. Но в последней вспышке ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина; я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда, – этот колосс был повернут ко мне углом, как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое.
Понятно, я не стал размышлять над увиденным, а пустил еще несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла, четвертая и пятая осветили его – в последний раз. Потому что теперь, пересекши курс «Жемчужины», он уходил все быстрее; он был уже в ста, в двухстах, в трехстах километрах – визуальное наблюдение стало невозможным.
Я немедля вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует рассчитать элементы его движения; затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космическая навигация; я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны.







