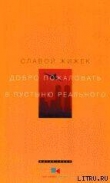Текст книги "Искусство смешного возвышенного. О фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда»"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
«Шоссе в никуда» Дэвида Линча – это холодное постмодернистское упражнение по возвращению к сценам изначальных страхов, хорошо скрытых в образах нуара. Это упражнение, как кратко выразился Джеймс Нэйремор, «без какой-либо цели, кроме как возвращения… таким образом, несмотря на весь ужас, сексуальность и формальное великолепие, „Шоссе в никуда“… остается вмерзшим в своего рода фильмотеку; это очередной фильм о фильмах».[28]28
Naremore J. More Than Night. Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 275.
[Закрыть] Подобная реакция, отражающая полностью искусственную, «межтекстуальную», иронически шаблонную природу вселенной Линча, как правило, сопровождалась противоположным нью-эйджевским прочтением, которое сосредотачивается на потоке подсознательной Жизненной энергии, предположительно объединяющей все события и людей, превращая Линча в певца юнгианского коллективного бессознательного духовного либидо.[29]29
См.: Nochimson M. P. The Passion of David Lynch. Austin: University of Texas Press, 1997.
[Закрыть] Хотя это второе прочтение должно быть отклонено (по причинам, которые будут предложены ниже), оно тем не менее оказывается голосом против представления о Линче как о деконструктивисте-насмешнике, ведь на некоем, пусть пока и на неведомом уровне к вселенной Линча нужно относиться совершенно серьезно. Проблема лишь в том, что такое прочтение абсолютно ложно толкует данный уровень. Вспомните заключительный экстатический восторг, отразившийся на лице Лоры Палмер в «Твин Пикс: Огонь иди за мной» после ее зверского изнасилования и убийства; или вспышку гнева Эдди по отношению к водителю, который не следует «гребаным правилам», в «Шоссе в никуда»; или часто цитируемую беседу между Джеффри и Сэнди в «Синем бархате», когда Джеффри возвращается из квартиры Дороти. Джеффри, глубоко взволнованный, жалуется: «Почему существуют такие люди как Фрэнк? Почему в этом мире так много проблем?», а Сэнди говорит ему о хорошем предзнаменовании – своем сне о малиновках, которые приносят свет и любовь в темный мир. В парадигме постмодернизма эти сцены являются забавными, невыносимо наивными, вызывают смех, и все же они абсолютно серьезные. Их «серьезность» не указывает на более глубокий духовный уровень, лежащий в основе поверхностных клише, а скорее на безумное признание искупительной ценности наивных клише как таковых. Это эссе – попытка распутать загадку подобного совпадения противоположностей, которое является в некотором смысле загадкой самого «постмодернизма».
Глава 1
ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСГРЕССИЯ
Ленин любил говорить о том, что человек зачастую может осознать основные составляющие собственной слабости, поняв своих умных врагов. Поскольку в настоящем эссе предпринимается попытка лаканианской интерпретации фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, может оказаться полезным сделать ссылку на появившуюся недавно «пост-теорию» когнитивистской ориентации кинематографических исследований – теорию, которая определяет идентичность за счет полного отказа от лакановских принципов исследования кино. В эссе, которое многими признается одним из лучших в «пост-теории» и которое является своеобразным манифестом нового направления, Ричард Молтби фокусирует внимание на хорошо известной короткой сцене в «Касабланке»:[30]30
См.: Maltby R. 'A Brief Romantic Interlude': Dick and Jane go to 3½ Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 434–459.
[Закрыть]
Ильза Лунд (Ингрид Бергман) заходит в комнату Рика Блейна (Хэмфри Богарт), стремясь заполучить разрешительные письма, которые позволят ей и ее мужу Виктору Ласло, руководителю Сопротивления, перебраться из Касабланки в Португалию, а затем в Америку. После того как Рик отказался передать ей эти разрешительные письма, она достала пистолет и стала ему угрожать. Он сказал Ильзе: «Давай, стреляй, ты окажешь мне услугу». Ильза срывается и в слезах начинает рассказывать Рику о том, почему она бросила его в Париже. К тому времени, когда она говорит: «Если бы ты знал, как я любила тебя, как я до сих пор люблю тебя», они уже обнимаются в сцене, снятой крупным планом. Затем на три с половиной секунды в кадре появляется команднодиспетчерский пункт аэропорта, прожектор которого вращается, пытаясь что-то обнаружить. После чего зритель вновь видит Рика, стоящего у окна и курящего сигарету. Он отворачивается и говорит вглубь комнаты: «А что было потом?».
Ильза продолжает свой рассказ.
Естественный вопрос: что произошло за эти три с половиной секунды, пока зрители смотрели на аэропорт? Занимались ли герои любовью? Молтби справедливо подчеркивает, что на этом этапе фильм не просто становится двойственным, а дает четкие возможности для двух взаимоисключающих интерпретаций: между персонажами либо была любовная связь, либо нет. С одной стороны, зритель получает неоднозначный намек на то, что это произошло, с другой стороны, что-то указывает и на то, что между ними за этот промежуток времени ничего не было. С одной стороны, зритель получает закодированные сигналы о том, что герои занимались любовью, и что за эти три с половиной секунды прошло гораздо больше времени, в которое укладываются оставшиеся за кадром события (страстные объятия героев и возвращение к диалогу после затемнения сцены); закуренная сигарета – это также обычный знак расслабления после секса, не говоря уже о вульгарной фаллической коннотации башни КДП аэропорта; с другой стороны, ряд параллельных элементов указывают на то, что секса между героями не было, и что эти три с половиной секунды соответствуют реально прошедшему времени (кровать на заднем плане заправлена, продолжается тот же диалог и т. д.). Даже окончательный разговор между Риком и Ласло о событиях предыдущей ночи можно трактовать двояко:
РИК: Ты говоришь, что ты знал обо мне и Ильзе?
ВИКТОР: Да.
РИК: А ведь ты не знаешь, что вчера вечером она приходила ко мне за разрешительными письмами. Ведь так, Ильза?
ИЛЬЗА: Да.
РИК: Она попыталась сделать все возможное, чтобы их получить. Она постаралась убедить меня, что все еще любит меня. Это было уже давно; для твоего же блага она притворилась, что все еще любит меня, я ей не мешал.
ВИКТОР: Я понимаю…
Молтби предлагает следующее решение: он настаивает, что эта сцена идеально показывает, как «Касабланка» «предоставляет альтернативные возможности получения удовольствия двум совершенно разным людям, которые оказались в одном кинотеатре», т. е. «эта сцена может понравиться как „невинным“, так и „умудренным опытом“ людям».[31]31
Maltby R. 'A Brief Romantic Interlude': Dick and Jane go to 3½ Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 443.
[Закрыть] Внешне может показаться, что фильм снят с соблюдением самых строгих моральных устоев, но вместе с тем в нем достаточно намеков, позволяющих воспринимать картину как сексуально насыщенную. Эта стратегия более сложна, чем может показаться на первый взгляд: именно потому, что вам известно, что официальной сюжетной линией вы «совершенно освобождены от ветреных импульсов»,[32]32
Maltby R. 'A Brief Romantic Interlude': Dick and Jane go to 3½Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 441.
[Закрыть] вы можете позволить себе погрузиться в мир грязных фантазий; вы знаете, что эти фантазии «нереальны», что они не воспринимаются большим Другим. В связи с этим хотелось бы предложить Молтби единственную поправку: вовсе не обязательно, чтобы два разных зрителя сидели рядом друг с другом: достаточно будет и одного зрителя, раздираемого острыми противоречиями.
Если говорить лаканианским языком, во время этих постыдных трех с половиной секунд Ильза и Рик не занялись любовью ради большого Другого, ради соблюдения общественных приличий, но при этом они все же сделали это ради удовлетворения грязных фантазий нашего воображения. Это являет собой наиболее цельную структуру внутренней трансгрессии, а Голливуду для успешного функционирования требуются оба уровня.
В терминах теории аргументации, разработанной Освальдом Дюкро, в данном случае имеет место противопоставление исходной предпосылки и сделанных выводов: исходная предпосылка непосредственно подтверждается большим Другим, мы за нее не отвечаем. Однако ответственность за сделанные выводы напрямую ложится на плечи зрителей (или читателей). Автор текста всегда может заявить: «Я не виноват в том, что зрители сделали такие грязные выводы из текстуры фильма!».
Если рассматривать данное противопоставление в контексте психоанализа, то, конечно, это противопоставление символического Закона (эго-идеала) непристойному супер-эго: ничего не происходит на уровне общественного символического Закона, текст выглядит чистым и понятным, на другом уровне тот же текст атакует различными бесстыдными намеками супер-эго зрителя: «Наслаждайтесь, дайте простор вашей грязной фантазии!». Иными словами, мы сталкиваемся с недвусмысленным примером фетишистского раскола, с отрицанием структуры на уровне: «Да, я понимаю это, но всё-таки…». Само осознание того, что между героями ничего не было, дает простор грязному воображению – вы можете получать от этого удовольствие, потому что вы освобождены от осознания вины фактом того, что для большого Другого этого, безусловно, НЕ произошло…
Подобная двоякая трактовка – не просто компромисс с Законом в том смысле, что символический Закон лишь стремится соблюсти приличия и дает вам возможность грязно фантазировать, если только это не посягает на общественную нравственность и на ее нормы. В таком случае Закону нужно это непристойное дополнение, которое он сам производит и поддерживает.
Итак, зачем в данном случае нам требуется психоанализ? Что здесь выступает на уровне бессознательного? Разве зрители не осознают в полной мере порождения своего грязного воображения? Мы можем очень точно указать, откуда берется потребность в психоанализе: мы не осознаем не некое глубоко укоренившееся, секретное содержание, а внешнее проявление этого феномена, которое ИМЕЕТ значение – у человека могут быть самые разные грязные фантазии, но важно то, какие из них выходят в общественную сферу и в сферу символического Закона, т. е. большого Другого.
Таким образом, Молтби прав, подчеркивая, что постыдный голливудский кодекс производства фильмов 1930-40-х[33]33
Кодекс Хейса (Production Code, Hays Code) – кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, уже в 1934-м ставший действующим национальным стандартом Соединенных Штатов Америки. В 1967 кодекс был упразднён. – Прим. ред.
[Закрыть] был не просто негативным кодом цензуры, но также и положительными (Фуко бы сказал, продуктивными) кодификацией и регулированием, создававшими эксцессы, прямую демонстрацию которых они же и ограничивали. В связи с этим показателен диалог, который однажды состоялся между Джозефом фон Штернбергом и Джозефом Брином (со слов Молтби). Когда Штернберг сказал: «А сейчас между двумя главными героями состоится романтическая интерлюдия», Брин перебил его: «Вы пытаетесь сказать, что эти двое покувыркаются, что у них будет секс?». Возмущенный Штернберг ответил: «Господин Брин, вы меня оскорбили». Брин же сказал: «Ради всего святого, перестаньте юлить и называйте вещи своими именами. Если вы хотите, мы можем помочь вам со сценарием о супружеской неверности, но только если вы перестанете называть секс „романтической интерлюдией“. Чем эти двое занимались? Поцеловали друг друга и разошлись по домам?». «Нет, они занимались сексом», – ответил Штернберг. «Отлично! Теперь мне сюжет стал понятнее!» – прокричал Брин. Кинорежиссер закончил свой рассказ, а Брин посоветовал ему, как он может обойти «кодекс».[34]34
Maltby R. 'A Brief Romantic Interlude': Dick and Jane go to 3½ Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 445.
[Закрыть] То есть, даже запрещая что-то, нам нужно четко понимать, что мы запрещаем – кодекс производства фильмов в этом случае не только запретил какую-то содержательную часть, но и кодифицировал ее зашифрованную артикуляцию.
Молтби также цитирует известную инструкцию Монро Стар сценаристам из романа Фицджеральда «Последний магнат»: «Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед – ею движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком».[35]35
Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Последний магнат. Рассказы. М.: Художественная литература, 1990. С. 180.
[Закрыть]
Из этого примера видно, каким образом основополагающий запрет не только выступает в отрицательной роли, но и способствует чрезмерной сексуализации самых заурядных повседневных событий – все, чем занимается бедная, изголодавшаяся героиня, начиная с ее хождения по улицам и заканчивая приемом пищи, гиперболизируется в желание заняться любовью с мужчиной ее мечты. Мы видим, что функционирование этого основополагающего запрета достаточно превратно, когда оно неизбежно затрагивает зону рефлексии, превращая защиту от запрещенного сексуального содержания в чрезмерную, всепроникающую сексуализацию. Роль цензуры в этом случае более двойственна, чем это может показаться на первый взгляд.
Очевидный упрек данной точки зрения в том, что Кодекс производства фильмов Хейса возвышается до уровня разрушительной машины, которая угрожает системе доминирования даже больше, чем прямолинейная толерантность: разве мы не утверждаем, что чем более жесткой будет прямолинейная цензура, тем более разрушительными станут непреднамеренно произведенные ею побочные эффекты? Хочется ответить на этот упрек, подчеркнув, что эти непреднамеренные, извращенные побочные эффекты на самом деле не только не угрожают системе символического доминирования, но и являются ее внутренней трансгрессией, то есть ее непризнанной, непристойной опорой.
Что же произошло после отмены кодекса производства фильмов Хейса? Среди ярких примеров внутренней трансгрессии в «эпоху, пришедшую после кодекса», – такие недавно вышедшие на экраны фильмы, как «Мосты округа Мэдисон» и «Лучше не бывает». Всегда следует помнить о том, что в «Мостах округа Мэдисон» (киноверсия романа) адюльтер Франчески в итоге спас три брака: ее собственный (память о четырех днях, наполненных страстью, позволяет Франческе терпеть совместную жизнь со скучным супругом), а также браки двух ее детей, которые, потрясенные признанием матери, примирились со своими партнерами.
Недавно в прессе писали, что в Китае, где этот кинофильм пользовался огромной популярностью, даже официальные идеологи восхищались утверждением в нем семейных ценностей: Франческа остается со своей семьей, она ставит свои семейные обязанности выше любовной страсти. Конечно, нашей первой реакцией будет мысль о том, что глупые коммунистические моралисты упустили из виду самое главное – это трагический фильм, Франческа утратила свою настоящую любовь, ее отношения с Кинкейдом были самым главным событием всей ее жизни… Однако на более глубоком уровне китайские моралисты-бюрократы оказались правы: этот фильм действительно утверждает семейные ценности, эту связь было нужно прекратить, прелюбодеяние – это внутренняя трансгрессия, которая поддерживает семейные отношения.
В «Лучше не бывает» ситуация еще более парадоксальна: разве цель фильма не заключается в том, чтобы мы насладились двумя часами отсутствия политической корректности, потому что знаем, что в итоге герой, которого сыграл Джек Николсон, обретет золотое сердце и полностью исправится, отказавшись от своего стиля жизни? Здесь мы снова сталкиваемся со структурным проявлением внутренней трансгрессии, хотя это уже не мотивы непокорности, подавляемые доминирующей патриархальной идеологией (наподобие femme fatale[36]36
Роковая женщина (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть] в фильмах нуар), а радостное погружение в неполиткорректные, расистские/сексистские эскапады, запрещенные доминирующим либеральным, толерантным режимом. Короче говоря, здесь подавляется «плохой» аспект.
В отличие от логики femme fatale, позволяющей мириться с унижением патриархальных устоев, потому что в итоге, как мы знаем, для нее настанет час расплаты, в настоящем случае нам разрешается радоваться неполиткорректным выходкам Николсона, ведь нам известно, что в конечном счете его ждет искупление. В этом фильме также сохранена структура пары – неполиткорректный Николсон должен отказаться от своих выходок, чтобы вступить в правильные гетеросексуальные отношения. В этом смысле фильм рассказывает нам печальную историю о предательстве собственной этической (эксцентрической) позиции. Когда Николсон «нормализуется» и превращается в теплого, заботливого человека, он утрачивает свою настоящую этическую позицию, которая и делала его привлекательным. В итоге мы получаем образцовую ячейку общества в лице двух скучных супругов.
Глава 2
АКТ ЖЕНЩИНЫ
Как можно сломать структуру «внутренней трансгрессии»? Выход из структуры осуществляется с помощью АКТА: акт – это то, что разрушает любовную фикцию, не имеющую прямого отношения к фильму и навязанную внутренней трансгрессией.[37]37
Понимание моральной свободы, прагматически выраженное в пословицах или в великой французской традиции моралистов, начинающейся с явления Ларошфуко, оппозиционно Акту: так называемые максимы свободы заключаются в однообразных вариациях того, как катастрофично следовать за своим желанием и того, что единственный способ обрести счастье – научиться искать компромиссы с ним. По этой причине, моральные истории Эрика Ромера на самом деле, – один из вариантов французской интерпретации этики психоанализа Лакана (не идите на компромисс со своим желанием [ne pas ceder sur son desir]); 6 рассказов о том, как заработать или защитить счастье с помощью компромисса с желанием. Матрица всех фильмов включает героя-мужчину, поставленного перед выбором между идеальной женщиной, его будущей женой, и искусительницей, которая будит в нем желание страстных приключений. Как правило, герой – не пассивный объект женских авансов, скорее он активно конструирует детальный фантазмический сценарий приключения только для того, чтобы быть способным сопротивляться соблазнению. Короче, он жертвует приключением в порядке повышения ценности предстоящей женитьбы. Финальная формула таких фильмов (наполовину-насмешливо поддерживаемая Ромером) такова: фантазировать о запрещенном любовном приключении, но не превращать фантазию в акт, позволять приключению оставаться приватной фантазией о том, что «могло бы быть», фантазией, которая позволяет поддерживать брак. См. прекрасное исследование: Bonitzer P. Eric Rohmer. Paris: Cahiers du Cinema, 1993.
[Закрыть] Жак-Ален Миллер полагает, что истинная женщина определяется некоторым радикальным актом: акт осуществляется через мужчину, ее партнера, в этом акте женщина разрушает или даже полностью уничтожает то, что «больше его самого», что «значит для него все», то, что ему дороже собственной жизни; акт осуществляется через уничтожение ценности, вокруг которой строится жизнь мужчины.[38]38
См.: Miller J.-A. Des semblants dans Ia relation entre les sexes // La Cause freudienne. Paris: Le Seuil. 1997. № 36. P. 7–15.
[Закрыть] Показательная фигура такого акта в литературе – Медея, которая, узнав, что Ясон, ее муж, собирается оставить ее ради молодой женщины, убивает двух своих маленьких детей, т. е. уничтожает самое ценное, что было у Ясона. В этом ужасном акте разрушения, по определению Лакана, Медея действует, как une vraie femme.[39]39
Настоящая женщина (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть] (Другой пример Лакана – это акт жены Андре Жида: после смерти мужа она сожгла все любовные письма Жида, адресованные ей, так как они были самым ценным, что у него было).[40]40
См.: Lacan J. La jeunesse de Gide // Tcnts. Paris: Seuil, 1966.
[Закрыть]
Нельзя ли подобным образом интерпретировать уникальную фигуру femme fatale в неонуаре 1990-х годов, примером которой может служить актриса Линда Фиорентино в «Последнем соблазнении» Джона Даля? В отличие от классической femme fatale 1940-х годов, которая оставляет иллюзорное призрачное присутствие, новую femme fatale характеризуют прямолинейная, неразговорчивая, сексуальная агрессия, ментальная и физическая; самотоваризация и самоиспользование; принцип «ум – сводник, тело – развратник». Рекламный слоган к фильму хорошо отражает сущность новой femme fatale: «Most people have a dark side… She had nothing else».[41]41
«У большинства людей есть темная сторона… У нее нет никакой другой» (англ.). – Прим. ред.
[Закрыть] Показательны два диалога: классический обмен двусмысленностями о «скоростных ограничениях», который завершает первую встречу между Барбарой Стэнвик и Фредом МакМюрреем в фильме «Двойная страховка» Билли Уайлдера, и первая встреча Линды Фиорентино с ее партнером в «Последнем соблазнении» Джона Даля, в которой она откровенно расстегивает его штаны, залезает в них и проводит экспертизу товара (пениса) до того, как принять его в качестве любовника: «Я никогда не покупаю то, чего не вижу своими глазами»; показательно также, что Линда отвергает любые «теплые человеческие отношения» с сексуальным партнером.[42]42
Здесь я опираюсь на беседу с Кейт Стейблз (BFI, Лондон).
[Закрыть] Как брутальная самотоваризация, низведение самой себя и своего партнера до объекта удовлетворения и эксплуатации, действуют на статус femme fatale, якобы разрушающей патриархальную свободу слова?
Следуя стандартной феминистской теории кино, в классическом нуаре femme fatale оказывается эксплицитно наказана; ее уничтожают за самоутверждение и подрыв мужского патриархального господства, за то, что она представляет угрозу: «Миф о сильной, сексуально агрессивной женщине сначала чувственно выявляет ее опасную силу и ее пугающие действия, а затем разрушает все это, тем самым выражая напрасность женской угрозы мужскому господству».[43]43
Place J. Women in film noir // Women in film noir. Ann Kaplan (ed.). London: BFI, 1980. P. 36.
[Закрыть] Femme fatale таким образом «в конечном счете, лишается физической привлекательности, влияния на камеру и реально или символически подчиняется сюжету, власть которого над ней проявляется и выражается визуально… иногда она счастлива под защитой любовника».[44]44
Place J. Women in film noir // Women in film noir. Ann Kaplan (ed.). London: BFI, 1980. P. 45.
[Закрыть] Однако, хотя ее и уничтожают или приручают, образ femme fatale переживает физическое уничтожение, оставаясь доминирующим элементом сцены. В том, каким образом характер фильма искажает и низлагает его эксплицитную нарративную линию, заключается разрушительный характер фильмов нуар. В отличие от классических фильмов нуар, неонуар 1980-х и 1990-х годов, начиная с «Жара тела» Касдана и заканчивая «Последним соблазнением», позволяет femme fatale открыто, на уровне явного нарратива, побеждать, приуменьшая значение партнера до сосунка, осужденного на смерть; она живет богато и одиноко, оставляя в прошлом мертвое тело своего любовника. Она не проживает свою жизнь в качестве призрачной «бессмертной» угрозы, которая либидозно доминирует на сцене даже после своего физического или социального исчезновения; она – открытый триумфатор в самой социальной реальности.
Как это влияет на деструктивную сторону фигуры femme fatale? Разве тот факт, что ее триумф реален, не подтачивает ее намного более значимый (можно даже соблазниться назвать его возвышенным) призрачный/фантазмаческий триумф: вместо призрачной всесильной угрозы, неустранимой при ее физическом устранении, femme fatale становится просто вульгарной, холодной, расчетливой сукой, лишенной любых эмоций? Другими словами, не находимся ли мы здесь в ловушке диалектики полной неудачи и высшей точки достижения, в которой эмпирическое уничтожение – цена за бессмертное призрачное всемогущество? Возможно, следует изменить условия обсуждения, сперва указав на то, что femme fatale – далеко не просто угроза мужской патриархальной идентичности, ее классическая функция – это «внутренняя трансгрессия» патриархального символического мира; это воплощение мужской мазохистской, параноидальной фантазии об эксплуатирующей, сексуально ненасытной женщине, которая одновременно подавляет и наслаждается своими жертвами, провоцируя нас жестоко брать и оскорблять ее. (Фантазия о всесильной женщине, чья непреодолимая притягательность представляет угрозу не только мужскому господству, но истинной идентичности мужчины-субъекта, есть фундаментальная фантазия, в противостоянии которой мужская символическая идентичность определяет и поддерживает себя). Угроза femme fatale поэтому ложна: это действенная фантазмическая поддержка мужского превалирования, обеспечиваемая фигурой врага, порожденной самой патриархальной системой. В терминах Джудит Батлер[45]45
См.: Butler J. The Psychic Life of Power. Stanford: Stanford University Press, 1997.
[Закрыть] femme fatale – фундаментальное отрицание «страстной привязанности» современным мужчиной-субъектом; фантазмическая формация, которая необходима, но не может быть свободно присвоена, и именно поэтому она может быть истребована лишь условно: на уровне внешней повествовательной линии (развивающейся в публичной социально-символической сфере) femme fatale наказана и порядок мужского господства подтвержден. Или, если перевести это на язык Мишеля Фуко, направленность дискурса на сексуальность, на ее подавление и регулирование делает из секса мистическую, непроницаемую вещь для завоевания; патриархальный эротический дискурс создает femme fatale – врожденную угрозу, – в борьбе с которой мужская идентичность должна утвердиться. Достижение нового нуара заключается в демонстрации потаенной фантазии; новая femme fatale полностью принимает мужскую игру в манипуляции, побеждает мужчину в его же игре и благодаря этому является большей угрозой для патриархального закона, чем классическая призрачная femme fatale.
Кто-то может, конечно, возразить, что новая femme fatale не менее иллюзорна, а ее непосредственный подход к мужчине – не более чем реализация мужской фантазии; однако не стоит забывать, что новая femme fatale свергает мужскую фантазию именно с помощью откровенной и брутальной реализации, воплощая эту фантазию в жизнь. Это значит, что femme fatale не только реализует мужскую иллюзию, она полностью осознает, что мужчины желают прямолинейности, и что прямота, дающая им то, чего они хотят – наиболее эффективный способ подорвать их доминирование. Другими словами, вышеописанная сцена «Последнего соблазнения» – это точная женская копия сцены из фильма «Дикие сердцем» Линча, в которой Уильям Дефо оскорбляет Лору Дерн, заставляя ее произнести: «Трахни меня!». И когда она, наконец, делает это (так как ее фантазия разыгралась), он обходится с этим приказом, как с ни к чему не обязывающим предложением и вежливо его отклоняет: «Нет, спасибо, я должен идти, но, может быть, как-нибудь в другой раз». В обеих сценах, субъекты оказываются унижены в тот момент, когда их фантазия обретает конкретную форму и предстает перед ними.[46]46
Для детального анализа сцены из «Диких сердцем» см. второе приложение к: Zizek S. The Plague of Fantasies. London: Verso, 1997. В данном случае, критический момент «Последнего соблазнения» наступает тогда, когда в процессе дикого акта совокупления в машине, любовник, осуждающе, определяет Линду Фиорентино, как «чертову суку», на что она отвечает дикими ударами руками в крышу машины и повторением с жутким «неестественным» удовольствием «Я чертова сука…». Эта вспышка, которая действует как нечто вроде «воинственного крика», – единственный момент в фильме, в который Линда Фиорентино свободно оставляет дистанцированную позицию и увлечено кричит в «полный голос» – ничего удивительного, что есть нечто уязвимое в таком неожиданном взрыве саморазоблачения.
[Закрыть] Линда Фиорентино действует в фильме как настоящий садист, не только из-за низведения своего партнера до носителя органа, обеспечивающего удовольствие (партнер, таким образом, лишен в сексуальном акте «человеческого и эмоционального тепла»; секс превращен в холодные физические упражнения), но также из-за жестокой манипуляции с другими (мужскими) фантазиями, которые она воплощает и в акте воплощения разрушает основание желания.
Не является ли этот жест умышленного и брутального подавления призрачной ауры традиционной femme fatale версией акта une vraie femme?[47]47
Первая настоящая женщина (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть] В таком случае не является ли объектом, который для партнера «больше, чем он сам», ценностью, вокруг которой строится его жизнь, сама femme fatale? Грубо уничтожая призрачную ауру «женской тайны», действуя как холодный и расчетливый субъект, интересующийся исключительно сексом, низводя значение партнера до объекта, до приложения к пенису (носителя пениса), не уничтожает ли она то, что «для него больше, чем он сам»? Вкратце, послание Линды Фиорентино к ее партнеру-сосунку следующее: «Я знаю, что в желании обладать мной то, чего ты действительно хочешь – это фантазмический образ меня, и я помешаю твоему желанию с помощью его удовлетворения. Так, ты получишь меня, но лишишься фантазмической основы, которая делает меня объектом желания». В отличие от традиционной femme fatale, которая разрушается в реальности, чтобы выжить и восторжествовать как фантазмическая, призрачная вещь, персонаж Линды Фиорентино выживает благодаря уничтожению или принесению в жертву своего фантазмического образа. Или это не так?
Загадка новой femme fatale заключается в том, что в отличие от классической, она полностью прозрачна (явно принимает роль расчетливой стервы, идеальное воплощение того, что Бодрийяр назвал «прозрачностью зла»), ее загадочность не исчезает. Здесь мы встречаемся с парадоксом, замеченным еще Гегелем: иногда полное саморазоблачение и прозрачность, т. е. осознание того, что нет никакого спрятанного содержания, делает субъект более привлекательным; иногда быть полностью откровенным – наиболее эффективный и коварный способ обмануть других. По этой причине femme fatale неонуара имеет непреодолимую, соблазнительную власть над своими бедными партнерами: ее стратегия – обманывать их, открыто говоря им правду. Мужчина-партнер не способен принять этого; он отчаянно цепляется за убеждение, что за холодным, расчетливым образом должно быть золотое сердце, которое необходимо спасти; что на самом деле она способна испытывать теплые человеческие чувства, а холодный, расчетливый подход – это лишь один из видов защитной реакции. Стоит вспомнить хорошо известную фрейдовскую шутку: «Почему ты говоришь, что поедешь в Лемберг, когда на самом деле ты поедешь в Лемберг?». Основной имплицитный упрек партнера-сосунка к новой femme fatale может быть сформулирован так: «Почему ты ведешь себя как будто ты холодная сука-манипулятор, когда на самом деле ты просто холодная сука-манипулятор?». В этом заключается фундаментальная неясность характера Линды Фиорентино: ее поступок нельзя рассматривать как правильный этический акт, она представлена как одержимое существо, субъект с дьявольской волей, который идеально осознает то, что делает. Она полностью владеет своими действиями, т. е. безнравственность ее желаний соответствует безнравственности ее действий. Следовательно, фантазия в мире неонуара не уничтожена. Femme fatale остается мужской фантазией – фантазией встретить идеального субъекта в облике абсолютно развратной женщины, которая полностью осознает то, что она делает и желает.
Поступок Линды Фиорентино таким образом оказывается поставлен в тупик внутренней трансгрессии: в конце концов он следует извращенному сценарию самым непосредственным образом осуществленной фантазии. Стоит сказать, что femme fatale неонуара помещена в контекст разрушения кодекса производства фильмов Хейса: тема, которую лишь задели в поздних 1940-х годах, сейчас показана эксплицитно. В неонуаре кадры, содержащие любовные сцены, явно граничат с (мягкой) порнографией (как, например, в «Жаре тела»); гомосексуализм, инцест, садомазохизм и т. д. открыто обсуждаются и показываются; правило, по которому плохие герои наказываются в конце фильма, откровенно игнорируется и нарушается. Неонуар явно инсценирует основное фантастическое содержание, на которое было лишь указано или которое показывалось имплицитно в классическом нуаре. В данном случае эмблематичен пастиш Оливера Стоуна «Поворот», в котором мы видим инцест, дочь, убивающую свою мать, чтобы соблазнить своего отца и т. д. Странно, однако, что эта открытая трансгрессия, эта прямая инсценировка основных извращенных фантазий, сочетается с безвредностью их разрушающего воздействия и подтверждает старый фрейдовский тезис: развращение не разрушает; нет ничего действительно разрушающего в извращенной откровенной инсценировке отрицаемых фантазий.