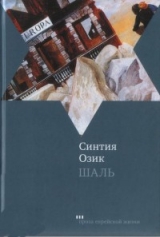
Текст книги "Шаль. Роза"
Автор книги: Синтия Озик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Шаль
Стелла – холод, холод, хлад ада. Как они шли вместе по дорогам, Роза с Магдой, свернувшейся комочком между истерзанными грудями, с Магдой, завернутой в шаль. Иногда Магду несла Стелла. Но она завидовала Магде. Стелла, тощая девчонка четырнадцати лет, недоросток, с тощими грудками, тоже хотела, чтобы ее укутали в шаль, спрятали, чтобы она спала, убаюканная ходьбой, – ребенок, пухлый младенец на руках. Магда хваталась за сосок Розы, а Роза – ходячая колыбель – шла и шла. Молока не хватало, иногда Магда сосала воздух и потом кричала. Стеллу раздирал голод. Колени у нее были как наросты на ветках, локти – цыплячьи косточки.
Голода Роза не чувствовала, ей было легко, она будто и не шла, а была как в обмороке, в трансе, замерла за гранью сознания – парила ангелом, который все видит, все примечает, но сам не здесь, летит по воздуху, не касаясь дороги. Она словно покачивалась на цыпочках. Она заглянула в лицо Магды, выглядывавшее из шали: белочка в дупле, никому не добраться до нее, надежно упрятанной шалью. Лицо круглое-прекруглое – как карманное зеркальце, но не как у Розы – мрачное, страшнее холеры; нет, оно было совсем другое: глаза голубые как небо, гладкие прядки волос, желтые почти как звезда, нашитая на пальто Розы. Ее можно было принять за их ребенка.
Роза парила и мечтала оставить Магду в одной из деревень. Она могла бы на миг выйти из строя и бросить Магду на руки любой женщине у дороги. Но выйди она из строя, они бы начали стрелять. Да выскочи она из строя на полсекунды и сунь кокон из шали незнакомой женщине, возьмет ли та его? Изумится или испугается или уронит шаль, Магда выпадет, ударится головой и умрет. Голова у нее маленькая, круглая. Такая хорошая девочка, плакать совсем перестала, только сосет иссохший сосок. Сжимает крохотные десны. На нижней прорезался один зубок, он прямо-таки крохотное надгробие белого мрамора. Магда, не жалуясь, отпускала Розины соски – сначала левый, потом правый; оба потрескались, и молока ни капельки. Пересохшая протока, потухший вулкан, глаз слепца, выстуженная нора: вот Магда и доила вместо этого уголок шали. Сосала и сосала, слюнявила нитки. Добрый запах шали, тряпичная соска.
Это была волшебная шаль, она могла питать дитя три дня и три ночи. Магда не умерла, она жила, только тихонечко. Из ее рта шел странный запах – корицы и миндаля. Она не смыкала глаз, забыла, как моргать, как дремать, и Роза, а порой и Стелла всматривались в их голубизну. Они шли, через силу передвигая ноги, и смотрели на Магду.
– Арийка, – сказала Стелла голосом тонким, как струна, и Роза подумала, что Стелла смотрит на Магду взглядом юного каннибала. Когда Стелла сказала: «Арийка», для Розы это прозвучало как «Давай ее сожрем».
Магда дожила до своих первых шагов. Она прожила так долго, только ходила плоховато, потому что ей было всего год и три месяца, а еще потому, что ножки-жердочки не выдерживали ее вздутого живота. Он вздулся от воздуха, стал большим и круглым. Роза почти всю свою еду отдавала Магде, Стелла не отдавала ничего; Стеллу раздирал голод, она сама росла, только не очень-то и росла. У Стеллы не было месячных. У Розы не было месячных. Розу тоже раздирал голод, но она его усмиряла: научилась у Магды высасывать весь вкус из собственного пальца. Они оказались в том месте, где жалости не было, из Розы ушла вся жалость, она смотрела на превратившуюся в скелет Стеллу без всякой жалости. Она твердо знала: Стелла ждет смерти Магды, чтобы впиться зубами в крохотную ляжку.
Роза понимала: Магда скоро умрет, она бы уже давно умерла, но схоронилась в волшебной шали, которую принимали за колышущиеся холмы Розиной груди; Роза куталась в шаль так, будто под ней ничего больше не было. Никто эту шаль у Розы не забрал. Магда онемела. Она никогда не плакала. В бараке Роза прятала ее под шалью, но понимала, что кто-нибудь рано или поздно донесет, или кто-нибудь, даже не Стелла, украдет Магду, чтобы ее съесть. Когда Магда пошла, Роза поняла, что она скоро умрет, что-то да случится. Она боялась спать и спала, положив ногу на Магду и боялась, что раздавит Магду. Весила Роза все меньше и меньше, Роза со Стеллой становились невесомыми.
Магда была тихая, а глаза у нее были все время начеку – как два голубых тигра. Она наблюдала. Иногда смеялась – вроде бы смеялась, да только с чего бы? Магда никогда не видела, чтобы люди смеялись. И все же Магда смеялась – когда ветер играл уголками шали, злой ветер с черными крошками, от которых у Стеллы и Розы слезились глаза. У Магды глаза всегда были ясные, ни слезинки. Она бдила как тигр. Охраняла свою шаль. Никому нельзя было трогать шаль, только Розе. Стелле не разрешалось. Шаль была Магдиным ребеночком, котенком, сестренкой. Когда ей хотелось покоя, она заворачивалась в шаль и сосала уголок.
Тогда Стелла забрала шаль и этим погубила Магду.
Потом Стелла говорила:
– Мне было холодно.
Ей потом всегда было холодно, всегда. Холод проник ей в сердце: Роза видела, что сердце у Стеллы стало холодным. Магда, подавшись вперед, выписывала ножками-палочками загогулины, искала шаль; у выхода из барака, там, откуда шел свет, палочки застыли. Роза увидела это и помчалась догонять. Но Магда уже вышла на площадь перед бараком, на радостный свет. Там проходили переклички. Каждое утро Розе приходилось кутать Магду в шаль и класть у стены, а самой со Стеллой и сотнями других идти и стоять часами на площади, а Магда в одиночестве тихо лежала в шали и сосала свой уголок. Каждый день Магда молчала, потому и не умерла. Роза поняла, что сегодня Магда умрет, и тут же радость и страх обожгли ладони Розы, пальцы ее были как в огне, она была потрясена, ее била лихорадка; Магда, раскачиваясь в солнечном свете на своих ножках-палочках, вопила. С тех пор как иссохли соски Розы, с тех пор, как в пути Магда издала последний крик, она не проронила ни звука, онемела. Роза думала, у нее что-то со связками, с дыхательным горлом, с гортанью; Магда была неполноценная, без голоса – может, глухая; а может, с умственным развитием что не так; Магда тупая. Даже смех, раздававшийся, когда несший пепел ветер играл с шалью, был просто свистом воздуха во рту. Даже когда вши, головные и нательные, сводили ее с ума и она бесилась – как крысы, на рассвете рыскавшие по бараку в поисках трупов, она терлась, скреблась, чесалась, вертелась, брыкалась, даже не пискнув. А теперь изо рта Магды вязкой струей тек вой.
– Маааа!
Это был первый – с тех пор, как иссохли соски Розы, – звук, который произнесла Магда.
– Маааа!..
Опять! Магда колыхалась в опасном солнечном свете на площади, ковыляла на жалких кривых ножках. Роза поняла. Она поняла, что Магда тоскует по утраченной шали, поняла, что Магда сейчас умрет. В Розины соски стучались команды: «Беги, найди, принеси!» Она не знала, куда бежать – к Магде или за шалью. Если она выскочит на площадь за Магдой, вой не прекратится – без шали Магда не успокоится; но если она помчится в барак искать шаль и если найдет ее, если кинется за Магдой уже с шалью, тогда она вернет Магду, Магда сунет шаль в рот и снова онемеет.

Роза отправилась во тьму. Шаль найти труда не составило. Под ней свернулась Стелла, спала, кутая свои косточки. Роза сдернула шаль и полетела – она могла летать, ведь она была не тяжелее воздуха, – на площадь. Жар солнца нашептывал о другой жизни, о бабочках летом. Свет был мирный, мягкий. По ту сторону железного забора, далеко-далеко, раскинулись зеленые луга в крапинках одуванчиков и густо-лиловых фиалок: а за ними, еще дальше, поднимали свои оранжевые колпачки высокие, невинные тигровые лилии. В бараке разговаривали о «цветах», о «дожде»: испражнения, толстые колбаски дерьма, медленные вонючие потоки бурой жижи, стекавшие с верхних нар, смрад, смешанный с горьковатым густым дымом, оседавшим жирными разводами на Розиной коже. На краю площади она на мгновение замерла. Иногда электрический ток, пропущенный через забор, словно напевал; даже Стелла говорила, что это только кажется, но Роза слышала в гудении проволоки голоса, хрипловатые и горькие. Скорбные голоса звучали так убедительно, так страстно, что в их призрачность даже не верилось. Голоса велели ей поднять шаль над головой, голоса велели развернуть, тряхнуть ей, помахать как флагом. Роза подняла, развернула, тряхнула, помахала. Далеко, очень далеко Магда с трудом перегнулась через живот, протянула вперед ручки-прутики. Она взлетела высоко, ехала на чьем-то плече. Но плечо, на котором сидела Магда, двигалось не к Розе и не к шали, оно уплывало прочь, и пятнышко силуэта Магды удалялось в дымчатую даль. Над плечом поблескивала каска. Луч света упал на каску, и она засияла как драгоценный кубок. Черный, как домино, плащ под каской и черные сапоги двинулись к забору с током. Электрические голоса загомонили. «Маааа, маааа, мааа», – в унисон гудели они. Теперь Магда была совсем далеко от Розы, их разделяли площадь и десяток бараков – она была уже на другом краю. Такая маленькая, не больше мотылька.
И вдруг Магда поплыла по воздуху. Она вся, целиком, летела высоко-высоко. Как бабочка, коснувшаяся серебристой лозы. И когда круглая, в перышках головка Магды, ее ножки-палочки, раздутый как шар живот и изломанные зигзагом ручки шмякнулись о забор, стальные голоса взревели как безумные, погнали Розу к тому месту, куда упала Магда, долетев до забора, по которому бежал ток, но Роза, конечно же, их не послушалась. Она просто стояла – ведь если бы побежала, в нее стали бы стрелять, и если бы попробовала собрать останки тельца Магды, в нее стали бы стрелять, и если бы она не сдержала волчий вой, рвавшийся из ее нутра, в нее стали бы стрелять; поэтому она взяла шаль Магды и засунула себе в рот, пихала шаль все глубже и глубже, пока не распробовала, сглотнув волчий вой, вкус Магдиной слюны, пахнувшей корицей и миндалем; Роза высосала Магдину шаль досуха.
Роза
Роза Люблин, сумасшедшая и старьевщица, бросила свой магазин – разгромила собственными руками – и переехала в Майами. Cовершенное безумие. Во Флориде она стала иждивенкой. Племянница из Нью-Йорка присылала ей деньги, и она жила среди стариков в мрачной дыре, в одноместном номере «отеля». С настольным холодильником и плитой с одной горелкой. В углу громоздился на массивном подножии круглый дубовый стол, но за ним она только пила чай. Ела же она то в кровати, то стоя у раковины: бутерброд со сметаной и половинкой сардинки или консервированный горошек, разогретый в жаростойкой кружке. Никаких горничных – только скрипучий кухонный лифт. По вторникам и пятницам он заглатывал ее жалкий мусор. Трос лифта черным месивом облепляли уже вялые мухи. Ее постельное белье было таким же черным – прачечная самообслуживания была в пяти кварталах. Улицы – как печи, солнце – палач. Оно лупило и лупило изо дня в день, поэтому она сидела у себя в номере, подкреплялась в кровати кусочком-другим крутого яйца, пристраивала на коленях доску для письма – с недавних пор она стала сочинять письма.

Она писала иногда по-польски, иногда по-английски – племянница забыла польский: в основном Роза писала Стелле по-английски. Английский у нее был топорный. Своей дочери Магде она писала на изысканном литературном польском. Писала она на хрустких пожелтевших листах, которые непонятно каким образом оказывались в квадратных отсеках старого обшарпанного бюро в холле. Или просила у кубинки за стойкой чистые бланки счетов. Порой находила в мусорной корзине в холле конверты: она аккуратно расклеивала их, разглаживала – получался отличный белый квадрат, чистое поле для очередного письма.
Письмами была завалена вся комната. Посылать их было непросто: почта находилась на квартал дальше прачечной, а на автомате для марок в холле отеля уже много лет висела табличка «Не работает». Со вчерашнего дня у раковины стояла початая овальная банка сардин. От нее уже шел тошнотворный запах. Не иначе как она в аду – такое у нее было чувство. «Золотая, прекрасная Стелла, – писала она племяннице, – где я оказалась, так это в аду. Когда-то я думала, хуже того худшего быть не может. Но теперь знаю: и за худшим есть еще хуже». Или писала: «Стелла, ангел мой, дорогая моя, дьявол забирается в тебя и опутывает твою душу, а ты и не знаешь».
Магде она писала: «Ты превратилась в львицу. Рыжая, ты расправляешь свои могучие лохматые лапы. Кто похитит тебя, похитит собственную смерть».
Глаза у Стеллы были девчоночьи, кукольные. Круглые, небольшие, но красивые, под ними кожа прозрачная, над ними светлая, чистая, нежные брови радугой, ресницы словно гладью вышитые. У нее было личико юной невесты. Не поверишь, глядя на всю эту красоту: на эти кукольные глазки, девичьи губки, детские щечки – не поверишь, что кровопийца может иметь столь безобидный вид.
Иногда Розе снились про Стеллу каннибальские сны: она варила ее язык, уши, правую руку – такую жирную, пальцы пухлые, каждый ноготок ухоженный, розовый, и колец столько – не современных, а старомодных, из лавки старьевщика. Стелле в Розиной лавке нравилось все – все ношенное, старое, с патиной истории других людей. Чтобы умиротворить Стеллу, Роза называла ее дорогой, чудесной, прекрасной, называла ангелом; называла так, чтобы все было мирно, но на самом деле Роза была холодна. У нее не было сердца. Стелла, уже почти пятидесятилетняя, Ангел Смерти.
Кровать была черна, черна, как Стеллино нутро. Когда грязь стала такая, что дальше некуда, она погрузила тюк с бельем на тележку и отправилась в прачечную. Было всего десять утра, но солнце жарило убийственно. Флорида, ну почему Флорида? Потому что здесь ото всех, как и от нее, остались одни оболочки, высушенные солнцем. И все равно она ничего с ними общего не имела. Старые призраки, старые социалисты – идеалисты. Их заботило одно – род человеческий. Рабочие на пенсии, они ходили на лекции, просиживали в сырой и темной библиотеке. Она видела, как они разгуливают с Толстым под мышкой, с Достоевским. Знали толк в тканях. Что ни надень, они пощупают и скажут: фай, плис, твид, чесуча, джерси, драп, велюр, креп. Она слышала их разговоры про крой по косой, корсажную ленту, усадку и отрезы. Желтый они называли горчичным. Что для всех было красным, они именовали «пунцовым», оранжевый – палевым, голубой – перваншем. Они были из Бронкса, из Бруклина – отживших, выдохшихся мест. Кое-кто был и с Вест-Энд-авеню. Однажды она встретила бывшего владельца зеленной лавки с Колумбус-авеню; лавка его была на Колумбус-авеню, а жил он неподалеку – на Западной Семидесятой, за Сентрал-парком. Даже в вечнозеленой Флориде он предавался воспоминаниям о пышных зеленых кустиках салата романо, алеющей клубнике и глянцевых авокадо.
Розе Люблин казалось, что весь полуостров Флорида живет под гнетом сожаления. Каждый оставил свою настоящую жизнь. Здесь ни у кого ничего не было. Все были пугалами, раскачивающимися под убийственным диском солнца, с опустевшими грудными клетками.
В прачечной она сидела на шаткой деревянной скамье и смотрела в круглое оконце стиральной машины. Внутри в бурунах пены билось о стекло ее исподнее.
Рядом сидел нога на ногу какой-то старик с газетой в руках. Она разглядела заголовки на идише. Мужчины во Флориде были повыше качеством, чем женщины. Они чуть лучше знали жизнь, они читали газеты, их волновало, что творится в мире. Что бы ни случилось в израильском кнессете, они все отслеживали. А женщины только перечисляли блюда, которые готовили в прошлой жизни: пироги, кугель [1]1
Кугель ( идиш) – запеканка, в основном с картофелем или лапшой. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть], латкес [2]2
Латкес ( идиш) – картофельные оладьи.
[Закрыть], блины, салат с селедкой. Женщины в основном заботились о своих волосах. Они отправлялись к парикмахеру и выходили в сиянье дня с развесистыми кронами цвета циннии. С морской волны тенями на веках. Их можно было пожалеть: они с упоением пережевывали истории о своих внуках: Кэти в Брин-Море, Джефф в Принстоне [3]3
Престижные учебные заведения Брин-Мор – женский университет в Пенсильвании, Принстон – университет в Нью-Джерси.
[Закрыть]. Для их внуков Флорида была трущобой, для Розы – зоопарком.
У нее никого не было, кроме черствой племянницы в Нью-Йорке, в Квинсе.
– Нет, вы представьте! – сказал старик с ней рядом. – Только поглядите: сначала он имеет Гитлера, потом он имеет Сибирь – лагерь в Сибири. Оттуда попадает в Швецию, оттуда в Нью-Йорк, становится уличным торговцем. Торгует себе, но теперь у него жена, у него дети, и он открывает лавочку – всего-навсего лавочку, жена у него женщина больная, у них там так называемый магазин распродаж.
– Что? – сказала Роза.
– Магазин распродаж на Мэйн-стрит, в Вестчестере, даже не в Бронксе. Пришли рано утром, он даже пакеты для покупок вывесить не успел, а они, грабители-разбойники, его придушили, прикончили. Сибирь прошел – и вот.
Роза ничего не сказала.
– Ни в чем не повинный человек, один в своей лавочке. Радуйтесь, что вы уже не там. Впрочем, здесь тоже не рай. Можете мне поверить, когда доходит до грабителей и душителей, чудес не бывает.
– У меня машина достирала, – сказала Роза. – Мне надо в сушку переложить. – Про газеты и их злобные писания она знала – сама в них попадала. «Женщина разгромила собственный магазин». «Роза Люблин, 59 лет, владелица магазина подержанной мебели на Утика-авеню в Бруклине, вчера днем преднамеренно уничтожила…» Заметки в «Ньюз» и «Пост». Большая фотография: Стелла стоит рядом, рот разинут, руки воздеты. В «Таймсе», шесть строчек.
– Извините, я заметил, вы говорите с акцентом.
Роза покраснела.
– Я родилась в другом месте, не здесь.
– Я тоже родился в другом месте. Вы беженка? Берлин?
– Варшава.
– Я тоже из Варшавы! Уехал в девятьсот двадцатом. Родился в девятьсот шестом.
– С днем рождения, – сказала Роза. И стала вытаскивать вещи из стиральной машины. Они переплелись как клубок змей.
– Позвольте мне, – сказал старик. Отложил газету и помог ей все вытащить. – Нет, вы представьте, – сказал он, – два человека из Варшавы встречаются в Майами, штат Флорида. В девятьсот десятом я о Майами, штат Флорида, и не мечтал.
– Моя Варшава – это не ваша Варшава, – сказала Роза.
– Главное, чтобы ваш Майами, штат Флорида, был моим Майами, штат Флорида. – Он улыбнулся двумя рядами сияющих зубов: гордился, что есть чем пококетничать. Они вместе засунули змеиное гнездо в сушку. Роза опустила два четвертака, и машина загрохотала. Они слышали, как пояс ее платья в синюю полоску, того, что порвано под мышкой, бьется о железное нутро.
– На идише читаете? – спросил мужчина.
– Нет.
– Может, хоть чуть-чуть разговариваете?
– Нет. Моя Варшава – это не ваша Варшава. – Но бабушкины колыбельные она помнила: бабушка была из Минска. Унтер рейзлс вигеле штейт а клорвайс цигеле. Как же гнушалась этими звуками Розина мать! Сушка остановилась, и мужчина сноровисто вынул вещи. Ей было стыдно, что он касается ее исподнего. «Под колыбелью Розиной козленок беленький…» Но рукав он находил, куда бы тот ни спрятался.
– Что такое? – спросил он. – Вы смущаетесь?
– Нет.
– В Майами, штат Флорида, люди более дружелюбные. Что, – сказал он, – вы все еще боитесь? Нацистов здесь нет, даже ку-клукс-клановцев нет. Что вы за человек такой, что все еще боитесь?
– Я такая, – сказала Роза, – какую видите. Тридцать девять лет назад была другой.
– Тридцать девять лет назад я и сам был хоть куда. Зубы выпали – так ни единой дырки не было, – похвастался он. – Периодонтоз.

– Я была почти что химиком. Физиком, – сказала Роза. – Думаете, я бы не стала ученым? – Эти воры украли ее жизнь! Вмиг пейзаж в ее воображении вышел из-под контроля: вспыхнуло ярким светом поле; и тот темный коридор к кладовке при лаборатории. Во снах кладовка тоже появлялась. Она всегда мчалась по сумрачному проходу к кладовке. На полках ряды колб и микроскопов. Однажды, когда шла туда, вдруг почувствовала, как ее переполняет восторг: новые коричневые туфли, скромные, на шнурках, белый халат, короткая стрижка, челка – серьезная девушка семнадцати лет, трудолюбивая, ответственная, будущая Мария Кюри. В старших классах один из учителей хвалил ее за, как он выразился, «литературный стиль» – о, утраченный, похищенный польский! – а теперь она писала и говорила по-английски так же беспомощно, как этот старик-иммигрант. Из Варшавы! Родился в девятьсот шестом! Она представила, как этот древний убогий переулок, заставленный лотками и вешалками с дешевой одеждой, поет на жаргонном идише. Ее все равно называли беженкой. Американцы были не в силах отличить ее от этого типа с фальшивыми зубами, с отвислыми подбородками, с залихватским рыжим париком, купленным Б-г знает где – на Деланси-стрит, в Нижнем Ист-Сайде. Пижон… Варшава! Да что он понимает? В школе она читала Тувима – такая тонкость, такая возвышенность, так по-польски. Варшава ее девичества – светоч, она включала ее, хотела держать перед внутренним взором. Изгиб ножек у маминого бюро. Строгий кожаный запах папиного письменного стола. Белый кафель кухонного пола, пыхтят огромные кастрюли, узкая винтовая лестница на чердак… в доме ее девичества тысяча книг. На польском, немецком, французском; отцовские книги на латыни, полка со скромными литературными журналами, где иногда печатались стихи матери – короткими, как тревожные телеграммы, строками. Культура, цивилизация, красота, история! Чудесные извивы улиц, почтенные формы особняков, благородно состарившиеся крыши, неожиданные силуэты воздушных башенок, шпили, сияние, старина! А сады? Кто говорит о Париже, тот не видел Варшавы. Ее отец, как и мать, идиш только передразнивал, в нем не осталось ни частички гетто, ни грана гнили. Кто жаждет аристократической изысканности, пусть включит великий светоч Варшавы.
– Как вас зовут? – спросил ее собеседник.
– Люблин Роза.
– Приятно познакомиться, – сказал он. – Только почему в обратном порядке? Я что, анкета? Что ж, хорошо. Вы подаете, я принимаю. – Он перехватил у нее тележку. – Где бы вы ни жили, я все равно как раз туда иду.
– Вы забыли забрать свое белье, – сказала Роза.
– Я постирал его позавчера.
– Тогда зачем вы сюда пришли?
– Обожаю природу. Люблю шум водопада. Люблю посидеть и почитать газету в прохладе.
– Рассказывайте! – фыркнула Роза.
– Ну хорошо, я хожу сюда общаться с дамами. Скажите, вы любите концерты?
– Я люблю свою комнату, больше ничего.
– Дама желает быть отшельницей!
– У меня свои невзгоды, – сказала Роза.
– Так поделитесь ими со мной.
По улице она брела за ним молча – послушно, как телок. Туфли старые – надо было надеть те, другие. Солнцепек обволакивал – словно тек расплавленным медом на макушку, одна капля – хорошо, а в потоке тонешь. Она была рада, что хоть тележку кто-то катит.
– У вас предубеждение против незнакомцев – не хотите с ними разговаривать? Если я называю свое имя, я уже больше не незнакомец. Я Саймон Перски. Троюродный брат Шимона Переса [4]4
Шимон Перес (1923 г. р.) – израильский политик, был премьер-министром, в настоящее время – президент Израиля.
[Закрыть], израильского политика. У меня много разных знаменитых родственников, семье есть чем гордиться. Вы слыхали про Бетти Бэколл [5]5
Лорен Бэколл (1924 г. р.) – американская актриса, вдова Хамфри Богарта, урожденная Бетт Джоан Перски, двоюродная сестра Шимона Переса.
[Закрыть], кинозвезду, на которой женился Хамфри Богарт, – она ведь еврейская девушка? Она тоже моя дальняя родственница. Я мог бы рассказать вам историю всей моей жизни, начиная с Варшавы. Вообще-то, я родился не в Варшаве, а в городишке в нескольких километрах от нее. В Варшаве у меня были дядья.
– Ваша Варшава – не моя Варшава, – повторила Роза.
Он остановил тележку.
– Это что такое? Песня из одного припева? Думаете, я не понимаю про разницу между поколениями? Мне семьдесят один, а вы, вы просто девчонка.
– Пятьдесят восемь. – Хотя в газетах, где рассказывали, как она разгромила свою лавку, написали пятьдесят девять. А все Стелла, ее вина, ее злая воля, арифметика Ангела Смерти.
– Вот видите! Я же говорил – девчонка!
– Я из образованной семьи.
– Ваш английский ничуть не лучше, чем у других беженцев.
– С чего мне учить английский? Я его не выбирала и никакого отношения к нему не имею.
– Нельзя жить прошлым, – наставительно сообщил он. Снова заскрипели колеса тележки. Роза шла как телок. Подошли к кафе самообслуживания. Оттуда разносились, точно их насосом выкачивали, запахи баклажанов, жареной картошки, грибов. Роза прочитала вывеску:
Кошерная комея Коллинза
На тарелке – как на картинке
Вспомнишь о Нью-Йорке и о чудной маминой стряпне;
Восхитительные яства: амброзия и ностальгия
Работает кондиционер

– Я знаком с хозяином, – сказал Перски. – Заядлый книгочей. Чаю хотите?
– Чаю?
– Только не со льдом. Чем горячей, тем лучше. Закон физиологии. Зайдите, остудитесь. У вас лицо пылает, честное слово.
Роза посмотрелась в витрину. Пряди волос, выбившиеся из пучка, свисали до плеч. В витрине отражалась старая потрепанная птица с обвисшими перьями. Тощая – аист. На платье не хватало пуговицы, но, может, этот срам прикрывала пряжка ремня. Да плевать. Вспомнила про свою комнату, кровать, радио. Разговоров она терпеть не могла.
– Мне пора, – сказала она.
– У вас встреча?
– Нет.
– Тогда пусть у вас будет встреча с Перски. Идемте, сначала чаю выпьем. Если возьмете со льдом, совершите ошибку.
Они вошли, выбрали крохотный столик в углу – липкий круг на шаткой пластиковой ножке.
– Садитесь, я принесу, – сказал Перски.
Она, задыхаясь, села. Кругом позвякивали ножи с вилками. Одно старичье собралось. Словно в столовой санатория. У каждого палка, спина колесом, акриловые зубы, туфли специально для подагрических ног. В вырезах и распахнутых воротах крапчатая кожа, устрашающие ключицы, морщины над сникшими грудями. Кондиционер работал слишком рьяно; она чувствовала, как прохладный пот струится вниз, от шеи, по позвоночнику, к копчику. Она боялась пошевелиться; у стула была плетеная спинка и черное пластиковое сиденье. Хоть одно движение, и поползет старушечий запах – мочи, соленого пота, усталости. Одышка прошла, теперь била дрожь. Да плевать мне. Я ко всему привыкла. Флорида, Нью-Йорк – какая разница? Но все-таки вытащила две шпильки, подхватила выбившиеся пряди, засунула их в седой пучок и пригвоздила. У нее не было ни зеркала, ни расчески, ни сумочки, даже носового платка не было. Только бумажный – за рукавом, – и несколько монет в кармане платья.
– Я просто в прачечную вышла, – сказала она, когда Перски, охнув, поставил на стол груженый поднос: две чашки чаю, блюдечко с порезанным лимоном, салат с баклажанами, хлеб на вроде бы деревянном, а на самом деле пластиковом блюде, еще одно пластиковое блюдечко со слоеными пирожками. – Наверное, не хватит денег расплатиться.
– Не беспокойтесь, вы пришли с богатым, отошедшим от дел налогоплательщиком. Я человек состоятельный. Когда я получаю социальное пособие, это для меня тьфу.
– А чем вы занимались?
– Да тем, что, гляжу, вы потеряли. Я про ту, на поясе. Пуговицами занимался. Обидно. Такую трудно подобрать: что до меня, так мы их уже лет десять не выпускаем. Плетеные пуговицы вышли из моды.
– Пуговицами? – сказала Роза.
– Пуговицами, пряжками, булавками, прочей галантереей. Фабрика была. Я думал, дело продолжит сын, но он не того хотел. Он философ, вот и стал лодырем. Избыток образования делает из людей дураков. Больно об этом говорить, но из-за него я вынужден был все продать. А девочки – что старшей хотелось, то и младшей. Старшая нашла юриста, ну и младшая туда же. У одного из моих зятьев свой бизнес – налогами занимается, а второй, молодой, все еще на Уолл-стрит.
– Милая семейка, – буркнула Роза.
– В лодыре милого мало. Вы пейте, пока горячий. Иначе обмен веществ не пойдет. Любите баклажаны с хлебом с маслом? Не беспокойтесь, фигура вам позволяет. Скажите, вы одна живете?
– Сама по себе, – сказала Роза и опустила язык в чай. Стало горячо до слез.
– Моему сыну за тридцать, я все еще ему помогаю.
– Моей племяннице сорок девять, не замужем, помогает мне.
– Старовата. А то я бы сказал: давайте-ка мой сын на ней женится, пусть она и ему помогает. Ничего нет лучше независимости. Если силы позволяют, работа – это счастье. – Перски погладил себя по груди. – У меня сердце больное.
Роза тихо сказала:
– У меня было свое дело, я его разрушила.
– Обанкротились?
– Часть – большим молотком, – сказала она раздумчиво, – часть железной штуковиной, которую подобрала в сточной канаве.
– Вы сильной не выглядите. Кожа да кости.
– Вы мне не верите? В газетах писали – топором, но где мне взять топор?
– Разумно. Где вам взять топор? – Перски пальцем выковырял что-то из-под нижней челюсти. Рассмотрел – оказалось зернышко баклажана. На полу около тележки валялась какая-то белая тряпка. Платок. Он подобрал его, сунул в карман брюк. И спросил: – А что было за дело?
– Всякое старье. Мебель. Барахло. Я собрала много старых зеркал. Расколотила все, что там было. Ну вот, – сказала она, – теперь вы жалеете, что со мной связались.

– Ни о чем я не жалею, – ответил Перски. – Если я в чем и понимаю, так это в психических срывах. Всю жизнь мне их жена устраивала.
– Вы не вдовец?
– В некотором смысле.
– Где она?
– В Грейт-Нек, на Лонг-Айленде. Частная клиника, и стоит далеко не гроши. – Он сказал: – У нее психическое заболевание.
– Серьезное?
– Раньше болела время от времени, теперь постоянно. Она принимает себя за других. Телезвезд, киноактрис. По-разному. В последнее время – моя родственница, Бетти Бэколл. Втемяшила себе в голову.
– Печально, – сказала Роза.
– Видите? Я на вас все вывалил, теперь вы на меня вываливайте.
– Что бы я ни сказала, вы меня не услышите.
– С чего это вы разрушили свое дело?
– Это была лавка. Мне не нравились те, кто туда ходил.
– Латины? Цветные?
– Какое мне дело, откуда они? Кто бы ни заходил, все были как глухие. Что им ни объясняй, они не понимали. – Роза встала, взялась за тележку. – Спасибо, что угостили меня пирожком, мистер Перски. Очень вкусно. А теперь мне пора.
– Я вас провожу.
– Нет-нет, иногда человеку надо побыть одному.
– Если долго бываешь один, – сказал Перски, – начинаешь слишком много думать.
– Когда жизни нет, – ответила Роза, – человек живет там, где придется. Если ничего кроме мыслей не осталось, значит, в них.
– У вас нет жизни?
– Воры ее забрали.
Она ушла, с трудом волоча ноги. Ручка тележки была как раскаленный прут. Шляпку, шляпку надо было надеть! Шпильки в пучке обжигали кожу. Дышала она тяжело – как собака на солнцепеке. Даже деревья выглядели изможденными: каждый листок клонился книзу под слоем пыли. Лето без конца – что за наказание!
В вестибюле она ждала лифта. «Постояльцы» – некоторые обитали тут лет десять с гаком – уже слонялись одетые к обеду, старухи в летних платьях, обнажавших заплывшие ключицы и синеватые впадины шей над ними. Сзади шеи обросли шматами жира. Все были без чулок. С оплывшими икрами в мраморном узоре синюшных вен; в своих мечтах они снова были молодыми, со стройными белыми ногами бессмертных, ядреных богинь; только вот позабыли, что ничто не вечно. На их лицах тоже было видно все, чего они сами в себе не замечали: их нарисованные рты сияли алым блеском не в попытке вернуть юность. А в желании продлить ее. Семидесятилетние кокетки. Для них все осталось прежним: намерения, действия, даже надежды – они никуда не продвинулись. Они верили в счастливое продолжение жизни тела. Мужчины были больше погружены в себя: прокручивали перед внутренним взором свою жизнь – кино для них одних.


![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)



