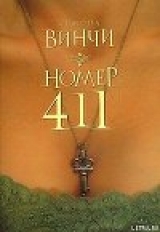
Текст книги "Номер 411"
Автор книги: Симона Винчи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
В какой-то момент мы останавливаемся. Неподвижно лежим, раскинувшись на смятой простыне, глядя на луну за окном. Сколько времени прошло? Два или три часа? А мы ещё не сделали этого. Мы пока только привыкали к коже друг друга, словно животные: недоверчивые и осторожные. Я голоден, сказал ты, сегодня я почти ничего не ел, так был занят, ты ведь тоже голодна. И мы одеваемся и выходим. Я не помню, что мы ели и где, помню, что это было рядом с отелем и что я уговорила тебя выпить стакан вина, которое выбрала сама для тебя. Потом мы шли будто пьяные, хотя выпили совсем немного. Твоё бедро прижималось к моему бедру, твоё плечо к моему плечу, твоя рука в моей руке. Я смотрела на город, окружавший нас, на розовато-серые памятники, на меты времени на камнях, на вечерние фонари. Этот город был похож на номер 411, который ждал нас. Два небольших пространства, которые не помнили нас и никогда не запомнят. Город, похожий на гостиничный номер. И номер, похожий на город. Посреди этих пространств – мы, голые, не имеющие ни имён, ни истории. Мужчина и женщина. Подобные миллионам других. И каждое пространство – комната и город – первый круг ада, возведённый в абсолют.
Когда мы вернулись в гостиницу, мы взялись за это серьёзно. Мы были близки, как бывают близки мужчина и женщина, а не как два влюблённых подростка. Ты взял меня, я позволила тебе взять меня. Возьми меня, сказала я тебе, становясь коленями на постель, уткнув лицо в подушку и сложив руки за спиной. Возьми меня. Забудь, кто я такая, забудь мои слова, мои письма, моё имя, забудь все. Это тело женщины, можешь взять его, использовать его, делать с ним, что хочешь. И это моё лоно: пустой сосуд, ничья комната в незнакомом городе. Белая страница. Буква алфавита, которого никто не знает до конца.
Почти рассвело, когда мы, приняв снотворное, уснули. Обнявшись. Что прежде я всегда ненавидела и что, напротив, в эту нашу первую ночь оказалось очень простым и похожим на чудо.
В одном из первых е-мейлов я написала тебе, что было бы прекрасно встретиться, не видя друг друга. Один приезжает, а другой уже ждёт в абсолютно тёмной комнате. Мы бы могли трогать друг друга руками, как это делают слепые, обнюхиваться, как собаки, и только позднее включить свет. Однако неизвестно почему мы этого не сделали, мы встретились, как встречаются все, я сошла с поезда, а ты стоял уже на вокзале, ожидая меня, прислонившись к колонне, и в тот момент, как поезд затормозил, я, взглянув через оконное стекло, встретила твой взгляд и сразу поняла, что это ты, хотя никогда прежде тебя не видела.
Я все ещё в этой незнакомой ванной комнате. В комнате за дверью ничего и никого. Ни звука. Я ещё раз оглядываю себя в зеркале и размышляю о женщинах, запечатлённых в бронзе скульптором Джакометти.[3]3
Альберто Джакометти (1901-66 года), швейцарский художник. В его живописи и графике, а также скульптурах доминирует мотив одиночества, потерянности в бездушном мире, невозможности душевного контакта и хрупкости жизни, выраженные в человеческих фигурах подчёркнуто удлинёнными пропорциями, истончёнными до ощущения «призрачной» нематериальности.
[Закрыть] Мне приходят на память слова из книги Жана Жене «Студия Альберто Джакометти» , которую мы покупали вместе в моем городе весенним утром. Вот эта аллегорическая фраза:
«… ноги женщин вдавлены в огромный грязный блок, чрезмерно худые тела устремлены вверх, что не умаляет впечатления устойчивости и прочного сцепления с землёй. Эти женщины, которые никогда не освобождаются от тяжести грязи жизни, по ночам соскальзывают вниз по крутому обрыву, тонущему во мраке».
Я их видела: хрупкие и бесцветные, с невидящими глазами, тонкими ногами, маленькими острыми грудями, мощь спин передана напряжением мышц и костей, сильные руки, крупные узловатые ступни, какие бывают у крестьянок, привыкших к постоянной ходьбе босыми. Я видела их: это были моя бабушка, моя мама, это были мои сестры, тётки, тётки моего отца и моей матери, мои предки.
И я.
Вот она я. Такая же хрупкая и бесцветная, с вдавленными в грязь ступнями: женщина.
Круглая дверная ручка из белой керамики податливо поворачивается под моими пальцами. Комната пуста. Мой синий чемодан в углу. Сапоги валяются на ковре. Пачка сегодняшних ещё не пролистанных газет валяется на кровати, рядом лежит большой ключ с тяжёлой латунной табличкой. Бутылка минеральной воды откатилась к стене комнаты. Окно закрыто, шторы задёрнуты. За этими шторами, за этими стёклами та же площадь, тот же город, с Парламентом, вооружённой охраной, японскими туристами, демонстрантами, паломниками, лавками букинистов, с египетским обелиском Гелиополиса[4]4
Вывезенный в 20-х годах до н.э. из египетского города Гелиополь, обелиск был установлен на римской площади для использовался его в качестве стрелки солнечных часов. По плитам площади проходит меридиан, показывающий уменьшение и увеличение дневного времени.
[Закрыть] – города солнца, который сейчас показывает неверное время, одни говорят, это потому, что под ним осела почва, другие – потому что за века изменилась орбита солнца, третьи – что сместился центр Земли, но точного и окончательного ответа не существует, – и я ощущаю некоторое беспокойство, глядя на тень от обелиска, растягивающуюся вдоль всей площади, сознавая, что она не совпадает по фазе с солнцем и поэтому время, показываемое им, неточное.
Вообще, говоря о Времени, можно ли утверждать, что оно Точное?
Я вновь наблюдаю через окно эту площадь, дворец Монтечиторио, обелиск, чуть дальше, хотя мне отсюда и не видно, но я все равно ощущаю его присутствие – Пантеон, непоколебимо стоящий в центре города. Безмолвный храм с глазом, устремлённым в небо.
Все на месте.
Нет только тебя.
Я опускаюсь на пол в темноте и прижимаю колени к груди.
Я в самом центре комнаты.
В центре города.
В центре безграничного одиночества.
Я – женщина, сидящая на светло-жёлтом паласе в номере черырехзвездочной гостиницы.
Я свободна.
Ни одно другое место в мире не заставляет тебя чувствовать свободным, как номер отеля. Голое пространство, всегда похожее на себе подобные. Ты входишь в номер гостиницы и сбрасываешь с себя все. Ты гол. Ты – абсолютная сущность. Кто ты в таком случае? Ты – мужчина или женщина в пути. Ты – чемодан. Зубная щётка. Банный несессер. Кровать. Телевизор, прикреплённый к стене, демонстрирующий одни и те же программы на всех языках мира. Ты – подушка. Коричневое покрывало. Одежды комнаты. С тобой небольшое количество жизненно необходимых вещей. Часы. Кольцо. Записная книжка. Том, который ты читаешь. Пишущие ручки. Затупленный карандаш. Флакон Лексотана или Ксанакса в каплях, упаковка Тавора[5]5
Лексотан, Ксанакс, Тавор – снотворные средства
[Закрыть] в пастилках по 1, 0 мг, глицериновые свечи для взрослых, ватные тампоны, лосьон для снятия макияжа. Или же бритва и крем для бритья. Трусы, носки. Дезодорант. Кусачки и картонная пилка для ногтей. Многие из этих вещей так и останутся в чемодане забытыми до следующей поездки. В этом безымянном месте ты ищешь следы тех, кто проживал здесь до тебя. Вызываешь их образы. Пепел сигареты на ковре, длинный тонкий волос на бледном фарфоре ванны, след карандаша на поверхности стола. Сколько людей занимались любовью на той же кровати, на которую ты рухнул, уставший? Сколькие из них были любимы впервые, сколькие познали предательство, сколькие были брошены? Сколько разнообразных звуков прозвучало за многие годы в этих четырех стенах? Ты спрашиваешь себя, пытался ли кто-нибудь выброситься из этого окна на четвёртом этаже, лил ли кто горькие слезы в подушку, на которой ты засыпаешь с открытым ртом, оставляя на ней круглый след капли слюны.
С каждым днём растёт количество новых вещей в номере, напластование предметов, которые горничная твоего этажа аккуратно собирает, смахивает с них пыль, переставляет на другое место. После чего каждое утро комната вновь становится безликой и нейтральной, ограничивая твоё общение с небольшим набором вещей, собранных в кучку на ночном столике, и двумя твоими костюмами, висящими в шкафу. Ты вновь захламляешь номер разной ерундой, типа чеков из бара или пластиковых пакетов. По сути дела, этот номер неотличим от всех других гостиничных номеров, в которых ты останавливался прежде, идёт ли речь о номере пятизвездочного отеля с корзиной фруктов и тапочками, которыми пользуются и выбрасывают, или о комнате без ванной в дешёвом пансионе, особой разницы не ощущаешь. Во всех случаях это – пространство, где, едва пересекаешь порог, превращаешься в статиста, в архетип истории.
В этом пространстве свободы, где их и быть не может, я все равно ищу следы нашего временного пребывания тут. Голова на коленях, колени, прижатые к груди, я посреди этой комнаты первой из многих последующих. Ибо наша история, как все истории, это ещё и история комнат. Снимаемых, одалживаемых, семейных, но больше всего гостиничных. Я помню их все.
Быть может, неслучайно, что наша история развивалась почти целиком на подмостках съёмных комнат, временных жилищ, мест, где мы оказывались без какой-либо защиты, без истории. Оболочки в чистом виде. Маски комедии дель арте, которые мы, как могли, пытались наполнить нашими движениями, нашими телами, нашими словами.
Это не гостиничный номер, но по сути то же самое. Владельца дома не видно. Он оставил тебе ключи, кота-неврастеника для пригляда и пару соседей, румын или албанцев, – я никак не могу запомнить национальность этих людей, которые живут в противоположной части дома и которых я не встречала за все время, что здесь нахожусь, но по едва различимым шорохам могу с уверенностью сказать, что они где-то рядом, прячутся в каких-то щелях, как тараканы, крысы или телефонные провода. В нашем распоряжении комната, антресоли, кухня и ванная. В этом доме несколько лет назад снимали фильм, и в нем можно увидеть комнату, которая служит нам сейчас спальней, только обставленную иначе, и ещё одну – гостиную, где стены выкрашены в красный цвет. В этом фильме женщина и мужчина выклеивают гигантский глобус из папье-маше, но они ленивы, работают ни шатко, ни валко, хотя деньги за эту работу очень нужны обоим. В конце концов дело сделано, глобус получился замечательный, на нем видны все моря и рельефные изображения гор. Но когда работа закончена, парочка замечает, что глобус не проходит в двери комнаты, о чем они даже не подумали. Он слишком велик. Чтобы вытащить его наружу, они вынуждены протискивать его, пинать ногами, в результате он испорчен, смят, работа, которую они делали в течение многих недель, пошла прахом.
Мы сидели на балконе кухни перед двумя стаканами с ледяной водой, на тебе надето только парео[Парео, или саронг – большой кусок ткани, который носят вместе с купальником как юбку, платье или шаль.
] в серую и красную полоску, и у тебя задрожали руки, когда ты сказал мне тихо: не бросай меня. Я улыбнулась и попыталась сменить тему: на полу стояла миска с сухим кормом для кота, и я спросила тебя: ты покормишь кота или мне сделать это, ты не забыл, что его надо кормить? Но ты не был настроен говорить о чем-либо постороннем. Останься здесь, настаивал ты, я прошу тебя об этой милости, останься, не бросай меня одного. Теперь затрясло меня, но я дрожала от раздражения. Я поеду на пару дней к морю, сказала я, здесь уже за сорок, а у меня всего два свободных дня, и я должна навестить свою мать, если хочешь поехали вместе. На этот раз разозлился ты и тебя затрясло так сильно, что я вынуждена была пообещать: ну не знаю, посмотрим.
Ты утащил меня в постель и трахал меня, не целуя, не лаская, и никто из нас двоих на самом деле не желал этого в тот момент. Была какая-то слепая ярость в наших телодвижениях, в моих широко раскрытых глазах, отражавшихся в твоих, в безразличии моего тела, отвечавшего движениям твоего без малейшей страсти. Опрокинутая на кровать, залитая каплями пота, которые струились у тебя по груди и лбу и стекали на моё тело одна за другой, под визг трамвайных колёс, снующих туда и сюда под самыми окнами, я испытывала одно лишь отвращение. Мысленно я перенеслась во времени и представила себе ровную голубую поверхность моря, открывающуюся мне навстречу, шаг за шагом, и себя, погружающуюся в его манящую прохладу.
Когда, наконец, я уехала, я подумала, что наша любовь, как всякая любовь, – точное подобие глобуса из того фильма: слишком велика, чтобы пройти сквозь дверной проем и существовать в мире обыденности. И слишком абсурдна, чтобы демонстрировать её чужим взглядам.
Сегодня в полдень я обошла Пантеон по всему периметру, медленно, маленькими шагами. И пока шла, я размышляла о закольцованной экспрессии, заложенной в его план, безукоризненной, неизменной, без конца и без начала, тождественной ходу времени, смене сезонов, вращению космического небосвода и годичному зодиакальному циклу. Я подняла голову и опять оглядела купол, этот символ небесной сферы, аллегорию Вселенной. Я остановила взгляд на светлом луче, падавшем сквозь отверстие, и мне вспомнилась старинная легенда, согласно которой ров, окружающий храм, был вырыт самим Дьяволом. История такова: один волшебник по имени Байалардо заключил с Сатаной сделку, по условиям которой получил от Сатаны Книгу Верховного Руководства, секретный учебник по искусству колдовства, в обмен на собственную душу. Однако после, пожалев об этой сделке, он с помощью знания, почерпнутого из Книги, совершил паломничество в Иерусалим, а затем вернулся в Рим. И когда он появился у Пантеона, Сатана уже ждал там, чтобы потребовать его душу, как было договорено между ними. Волшебник вовсе не собирался её отдавать и, зная о слабости Дьявола к грецким орехам, протянул тому несколько ядер. Сатана отвлёкся, и маг успел укрыться в храме, где принялся истово молиться, искренне раскаиваясь в содеянном. Дьявол, рассвирепев из-за того, что его так глупо провели, в бешенстве принялся носиться вокруг храма, выбив копытами глубокую канаву. И Oculus, отверстие в центре купола, как гласит легенда, тоже был сотворён чертями. Семь чертей, по числу семи языческих божеств, от которых они произошли, проживали в запертом храме. Когда католические прелаты вошли в Пантеон для церемонии его освещения в честь Святой Матери Всех Мучеников, черти забегали по кругу как угорелые в поисках выхода, они носились до тех пор, пока самому здоровому из них не удалось ударами рогов выбить украшение в виде позолоченной виноградной грозди, закрывавшее отверстие, через него они все вырвались, вытекли, словно ядовитый газ.
Может, и мы делаем то же самое: бегаем по кругу, как сумасшедшие, и выбиваем канаву вокруг Храма. Сейчас мы в храме, точно в его центре, и в то же время мы снаружи, желаем остаться и одновременно желаем сбежать, по возможности, как можно дальше. У Альберто Джакометти есть другая скульптура, названная Маленькая фигура в коробке между двумя другими коробками, являющимися двумя домами. Мне очень хочется, чтобы ты когда-нибудь увидел её. А пока постарайся нарисовать в своём воображении: женщина, маленькая-маленькая, с неестественно длинными ногами и крупными ступнями, идёт, наклонившись, как идут против ветра. Она неподвижна – это все же фигурка из бронзы – но ощущение движения полное. Теперь представь себе её поднятую пятку, взмах тонких рук, смещённый вперёд центр тяжести. Маленькая женская фигурка заключена в куб из плексигласа и бронзы. Два дома – это два других кубика, полых, без дверей и без окон. Женщина движется в определённом направлении, но вполне могла бы двигаться в другом. Никакого различия в этих двух домах, двух жизнях, и её движение – лишь имитация. Кажется, она делает попытку что-то изменить, но двигаться – вовсе не означает менять что-либо. Даже в перспективе. Один и тот же пейзаж, одна и та же пустота, одна и та же тишина. Эта скульптура очень похожа на мою жизнь. И кто знает, быть может, и на твою тоже, и на жизнь всех людей. Мы ездим на поездах, летаем в самолётах, меняем местожительство, меняем любимых, постели, окна, дороги, но всегда оказываемся в одном и том же равноценном месте. Мы – пленники постоянного движения. Черти в поисках дыры, через которую, наконец-то, удастся выскользнуть.
В то время, когда я пыталась заснуть, свернувшись клубком на твоей стороне кровати, я услышала звук, доносившийся из соседнего номера. Неожиданный женский голос в ночи. Было около двух часов. Ночь изобиловала звуками лифта, позвякивающего на этажах, непрерывным жужжанием электрогенератора, порывами сильного дождя и ветра за окном, сухим шелестом накрахмаленной простыни. Среди этих привычных звуков возник другой, все более явственный и звонкий. Ритмичный стон, становящийся все более интенсивным, в сопровождении непрекращающегося скрипа. Я зажмурила веки как можно крепче и ещё сильнее сжалась в клубок под простыней. Потом я открыла газа, вытянула ноги и руки в стороны, заняв своим телом все пространство кровати. Я столько раз была по другую сторону этой стены и каждый раз спрашивала себя, а вдруг кто-то сможет услыхать, не стоит ли кто-то, замерев, в темноте, и слушает. Кажется, я задремала, но внезапно вновь пробудилась. Женщина за стеной почти кричала. Моя рука быстро скользнула под простыню. Все произошло очень быстро. Бурный спурт случился синхронно с теми двумя, там, по другую сторону стены. И так же синхронно, я полагаю, мы заснули в наступившей покойной тишине нашего временного жилища, который похож на все, что угодно, кроме настоящего дома. Даже дождь прекратился.
В первую нашу встречу мы гуляли с тобой. Почти два часа. Кажется, ни разу не взглянув друг другу в глаза, а напротив, не отводя глаз от города, твоего города, для меня абсолютно нового и необъяснимо уютного. Мы едва соприкасались рукавами тёплых курток – было очень холодно, я сейчас уже не помню толком, что было надето на мне в тот день, и как был одет ты, помню, что мы защищались от холода слоями шерсти, пуха, носками и шарфами. В тот первый день ты сказал мне, я забыла, с чего начался разговор, может быть, ты рассказывал о своём разводе, о муке угасшей любви, о ненависти, мелочной мести и гневе: теперь я хочу нормальной истории. А я разглядывала здания, стоящие вдоль улицы, на которую мы свернули – это был широкий проспект с множеством магазинов и гуляющей толпой, в основном, молодые пары, которые толкали перед собой детские коляски и тащили за собой на поводках раскормленных собак. Я сунула руки в карманы и глубоко вздохнула, а я, ответила я тебе, я напротив, сейчас я хочу быть свободной.
С первого момента мы говорили друг другу правду. И таким образом с самого начала нашей истории выявилась несовместимость наших позиций. Начало уже содержало зародыш конца, начало исхода. Может быть, мы поняли это сразу, мгновенно, тем днём, там, на людной улице, или же сделали вид, что не поняли, и спрятали тревожный отблеск будущего в дальний угол нашего сознания, потому что в тот момент нам было не до этого. Конечно же, все то время, что длилась наша история, мы то и дело возвращались к этой теме, и каждый старался утвердить собственную истину, несовместимую с истиной другого.
Если ты способен видеть, то в состоянии прочитать и понять все, что заложено в начале.
Во время второй встречи мы сидели на скамейке общественного парка. День подходил к финалу, было ужасно холодно, у меня покраснел нос и закоченели руки, мой поезд должен был скоро отправляться, и ты сказал мне: я нечего не могу предложить женщине. А я ответила: и что с того, и так хорошо. Именно в этом я и нуждалась, в том, у кого нет ничего, что бы он мог предложить, кроме самого себя. Ты ещё добавил: моё положение в этот период довольно неопределённое, потому что заниматься тяжёлой работой, которая до сих пор кормила, у меня больше нет сил, я имею в виду физических сил, уже не тот возраст, а главное, уже не те мозги, чтобы делать её, у меня нет дома, только съёмная комната, мне нечего тебе дать, мне никому нечего дать. Ну и ладно, ответила я тебе, а я как раз этого и ищу, то есть ни-че-го, стало быть, мы с тобой похожи, добавила я – но может быть, эти слова прозвучали только в моей голове, так и не дойдя до моих губ, – похожи, как две капли воды, и ты сказал: я не хочу ошибиться, на этот раз не хочу. О какой ошибке ты говоришь, спросила я с удивлением, большинство людей постоянно ошибается, избежать ошибок невозможно, жить и значит ошибаться, каждый шаг – ложный шаг, но всегда можно вернуться назад. Нет, ответил ты, на этот раз резко, назад не возвращаются. Я ждала тебя, сказала я, такого, какой ты есть, не лучше и не хуже, и глаза у тебя именно такие, какие я представляла себе все эти годы, ещё даже и не зная тебя.
Это был наш первый долгий разговор. Двух людей, которым суждено было стать любовниками. Любовникам хочется броситься друг другу в объятья, раствориться друг в друге – мы же, напротив, стали возводить стены, да ещё из камня. И эти стены, которые мы начали строить с той самой скамейки, с того унылого привокзального сквера, с того лютого февральского дня, выросли на удивление быстро, словно дома на окраине города, здания-уроды, с квартирами, похожими на соты в улье, скучные коробки, скрывающие от взглядов все, что было прежде видно: деревья, луга, прежнее человеческое жильё, да и самих человеков, гуляющих по улицам. Все омертвляют эти жуткие фасады, с вечно закрытыми окнами, словно запертыми ртами, чьи жалюзи раскрашены в абрикосовый или бледно-жёлтый цвет. Пейзаж, настолько безобразный, что трудно понять, как люди могут выносить такую жизнь, разве только если вынуждены делать это. Но не влюблённые. Им-то какая нужда глазеть на эти стены, они всегда могут отвернуться и начать свой путь заново, не оглядываясь назад.
Но здесь в этой комнате под номером 411, выгравированном на обратной стороне двери, наши мысли, ясно, заняты вовсе не этим. Прошли два дня и две ночи наших объятий, разговоров, вдыхания запаха кожи друг друга, поцелуев. И когда приходит пора покинуть её, эту комнату, конечно же, мы, закрывая дверь, выходим, не оборачиваясь, чтобы не видеть ни смятых простыней, ни кожуры бананов, оставленной в корзине, ни серебряного подноса с останками роскошного завтрака: мы достаточно увлечены начавшейся историей нашей любви, и наши взгляды устремлены вперёд, а не назад, и полны надежд и ожиданий от каждого последующего дня.
На вокзале Термини мы целуемся и обнимаемся все то время, пока ждём прибытия наших поездов, двух разных поездов, отправляющихся в два разных города. И когда я вхожу в свой вагон, ты уже уходишь, ни разу не обернувшись, как потом будешь делать всякий раз, потому что ты, как и я, ненавидишь прощания. Я улыбаюсь вослед твоей удаляющейся фигуре, и у меня сильно бьётся сердце. Глядя, как ты пробиваешься по перрону сквозь спешащую в противоположном направлении толпу пассажиров, я думаю: вот он, мужчина что надо. На твоём месте мог быть любой, один из тех, кого я не знаю и не узнаю никогда, незнакомец среди толпы на огромном вокзале, на кого упал мой взгляд, может быть, потому, что мне понравилась его походка, или он показался очень мужественным, или потому что в форме его плеч или в манере щуриться и слегка наклонять голову, когда прикуривает сигарету, я уловила нечто, что произвело на меня впечатление. Чужеземец, один из многих себе подобных, фигура, схваченная периферийным зрением, чтобы исчезнуть раз и навсегда. Но нет, это был ты. Именно ты. И я тебя знала. Я знала, как сладка кожа твоего тела, знала, что у тебя на груди мягкие каштановые волосы, а на спине бледный шрам, я любила твои слова, манеру строить фразы, твой голос, я знала даже то, что мы встретимся, потому что обязательно должны были встретиться и, встретившись, мы сразу же, несмотря на страхи, предшествующие первой встрече, поймём, что в этом не будет никакой ошибки. И в то время, когда я смотрела на тебя, уходившего все дальше и дальше, пока ты совсем не исчез из виду, мне в голову пришли стихи Виславы Шимборской[6]6
Вислава Шимборска,(1923), польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 1996. Многие её стихотворения – своеобразные небольшие нравственно-политические трактаты или же лирико-философские зарисовки, порою краткие шедевры утончённой любовной лирики
[Закрыть], которые звучат так:
Два человека убеждены,
Что внезапное чувство свяжет их.
Прекрасна такая уверенность,
Но неуверенность намного прекрасней.
Прежде, не зная друг друга, они полагали,
Что ничего подобного с ними никогда не случится.
Но что думали об этом улицы, лестницы, коридоры,
Знавшие, что они встретятся?
Хотелось бы спросить их,
Помнят ли они,
Как столкнулись лицом к лицу
во вращающейся двери?
А первое «извините» в толчее?
Или «я ошибся номером» в телефонной трубке?
Но мне их ответ известен:
Нет, не помнят.
Их здорово поразило бы,
Коль скоро они б узнали,
Что с некоторых пор,
Случай играет с ними.
Ещё не все готово,
Чтоб судьбы их изменились,
Случай то приближается к ним, то удаляется,
То оказывается у них на пути
И, подавляя, смешок,
Одним прыжком отскакивает обратно.
Он подаёт им сигналы и знаки,
Неважно, что они не расшифровываются.
Быть может, тремя годами раньше
Или в прошлый вторник
Маленький листик
Перелетел с плеча одного на плечо другого?
Что-то было потеряно, но что-то обретено.
Кто знает, быть может, то был мячик,
Забытый в кустарнике детства?
И были поручни и дверные звонки,
На которые, одно на другое,
Наложились касанья их рук.
И их чемоданы прижались боками
В тесноте багажного склада.
И один и тот же сон, пришедший к обоим ночью,
Заставил их проснуться в смущении.
И правда, любое начало
является лишь продолженьем
И книга исхода
Всегда открыта лишь наполовину.
Я поднялась в вагон, повторяя про себя финал этого стихотворения, и внезапно ощутила на языке горечь послевкусия: книга исхода всегда открыта наполовину. Я тряхнула головой, прогоняя мысль, достала из сумки журнал, открыла и, прижавшись виском к замёрзшему стеклу, принялась читать, не глядя на Рим, убегающий за окном, и стараясь не возвращаться к тому, что книга, открытая наполовину, может таить в себе множество разных финалов.
Пришла весна, и единственный финал, до которого я додумалась, выглядел так: дом, весь белый внутри и снаружи, зимний пейзаж, удерживающий нас в своём снежном безмолвии. Мы работаем бок о бок за одним столом, с дымящимся кофейником перед нами и музыкой под сурдинку, каждый, склонившись над собственным ноутбуком. Мы будем жить в одном доме и спать в одной постели и, быть может, заведём ребёнка. Мальчика с твоими глазами и моей улыбкой. Сладостные и беспредметные грёзы, абсолютно противоречащие благоразумию, если учесть то, что я всегда ненавидела спать в одной постели с кем-либо и никогда не хотела иметь детей. Но разве не иррациональные грёзы – ведь ты тоже так считаешь – питают ненасытную любовь?
Движение всех тех поездов, на которые я садилась, чтобы приехать к тебе, и всех тех, на которые садился ты, чтобы приехать ко мне, было перемещением во времени: вперёд к новой жизни или назад, к жизни предыдущей, и то, что для тебя было жизнью новой, для меня было старой, с обратным знаком. Я переводила дух в твоём городе, а ты не чаял сбежать из него. Зато ты отдыхал в моем доме, а я в нем задыхалась.
В соседней комнате – двое: хотя они не разговаривают, это ясно вытекает из шумов, которые одновременно доносятся из ванной и из угла комнаты. Там ещё ребёнок. Ребёнок грудной, время от времени он плачет. Монотонный тихий плач, который мгновенно стихает. Я представляю себе, как его мать достаёт из кофточки грудь, засовывает сосок между губ младенца, медленно укачивает, шепчет ему что-то, поглаживая по головке. Его отец валяется на кровати, наверное, в одних трусах, задрав вверх босые ноги, и смотрит телевизор. Голоса, рекламные джинглы, репортажи футбольных матчей, информационные выпуски, эстрада. Он без конца перескакивает с канала на канал. Плач ребёнка и бормотание женщины похожи на звуки из телевизора: безразличные, бессодержательные, как рокот мотора проезжающего по улице автомобиля.
Кто эти люди, что обитают в соседней комнате, от которых меня отделяет тонкая стенка из гипсокартона? Как так случилось, что мы совсем рядом, едва не касаемся друг друга, но ничего друг о друге не знаем и никогда не узнаем? Я делю с незнакомцами мою интимную жизнь, могу слышать их, когда они принимают ванну, разговаривают, едят, занимаются любовью, но даже понятия не имею, как их зовут. Что делают в этой жизни. Кто они такие. Мне известны их привычки, но я не знаю их. Ведь и они могут слышать меня? – задаю я себе вопрос. В какой-то момент они замирают, задерживают дыхание, пытаясь расшифровать мои движения по комнате. Переход от кровати к ванной, повторяющийся щелчок почти высохшей зажигалки, шарканье мокрых резиновых шлёпанцев по полу. Что я сегодня одна, должно быть, им тоже понятно. Как и то, что я – женщина. Движения женщины в комнате отличаются от движений мужчины. Я, по крайней мере, смогла бы отличить их.
Дни проходят, за этой стеной они похожи один на другой, судя по тому, что мне дано понять. Я начинаю придумывать историю. Я никогда не встречала их на лестничной площадке, их дверь никогда не открывается, но всякий раз, как я вхожу в отель, шумы, а следовательно и обитатели, производящие их, по-прежнему там, за стеной. Звуки посуды во время обеда. Постоянно включённый телевизор. Плачущий ребёнок. Женщина, поющая колыбельную. А вчера ночью я услышала голос мужчины. Это меня поразило, словно выстрел в тишине. Мрачный голос, говоривший на южном диалекте, и очень быстро. Иногда он делал паузы, потом продолжал. Я ничего не могла понять, ни единого слова: только оттенки звуков и общую атмосферу.
Я увидела перед своим внутренним взором мужчину, укрывшегося в номере отеля со своей семьёй. Быть может, он получил увольнительную из тюрьмы в качестве награды за примерное поведение с условием не покидать комнаты на весь период действия отпуска? Или сбежал? Факт. Этот человек скрывается от правосудия. Устроил себе на несколько дней имитацию нормального существования, со своей женщиной и своим ребёнком, воссоздав в номере отеля подобие семейной жизни, с регулярным питанием, телевизионными программами и кормлением новорождённого.
Ночью эти двое занимались любовью, и ребёнок не плакал. Я их немного послушала, в какой-то момент заткнула уши берушами и погрузилась в сон. На следующий день, когда я вышла, дверь в их номер была распахнута. Горничная, наклонившись над кроватью, стелила новую простыню. Тележка с мётлами, полотерной щёткой и моющими средствами перекрывала дверь, но мне все равно удалось понять, что в номере нет человеческого присутствия, только кровать с наматрасником, заляпанным пятнами выцветшей крови, столик, придвинутый к стене, стулья и занавеска с жёлто-зелёными ромбами, похожая на ту, что висит в моем номере. Они уехали, рассеялись, словно дым, и мне никогда не узнать, какие у них были лица.
Во время второй нашей встречи, состоявшей из прогулки, на которой ты сказал мне, что тебе нечего дать женщине, мы шли парком вблизи вокзала твоего города. В парке висело постановление коммунального совета, запрещавшее есть и распивать напитки, и где, несмотря на запрет, все продолжали есть и пить, мы это видели. Мужчины и женщины, болтавшие на разных языках, доставали бутерброды, завёрнутые в фольгу, передавали друг другу банки с пивом и обменивались информацией о рабочих местах, о кроватях в наём, о возможностях заработать и многом ином, что наполняло смыслом их день и жизнь.








