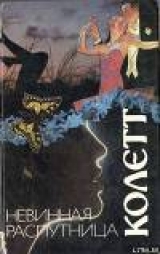
Текст книги "Странница"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Часть вторая
Какой прелестный уютный уголок! И как трудно представить себе вас в мюзик-холле, когда видишь здесь, между этой лампой под розовым абажуром и вазой с гвоздиками!
Вот что сказал уходя мой поклонник в тот день, когда он впервые пришёл ко мне на обед вместе с Амоном, этим старым сводником…
Итак, у меня появился поклонник. Иначе чем этим вышедшим из моды словом я его назвать не могу. Он не мой любовник, не человек, с которым я флиртую, не мой сутенёр… Он мой поклонник.
«Прелестный уютный уголок»… В тот вечер я горько рассмеялась ему вслед… Неяркая лампа, хрустальная ваза, в которой мерцает вода, кресло, придвинутое к столу, просиженный диван, вмятины в котором умело скрыты ловко разбросанными подушками, – и случайный гость, окинув всё поверхностным взглядом, ослеплён, он воображает, что в тускло-зелёных стенах женщина высшего порядка ведёт свою уединённую жизнь, отдавая всё свободное время книгам и раздумьям… Но ведь он не заметил пустой запылённой чернильницы, давно высохшего пера, неразрезанной книжки, лежащей на пустой коробке из-под писчей бумаги…
Сухая ветка остролистника, съёжившаяся, словно вытащенная из пламени, засунута в глиняный горшок… Небольшая пастель – эскиз Адольфа Таиланди – в рамке с треснутым стеклом, которое давно уже надо бы заменить… Небрежно, наспех, на один вечер сколотое булавкой подобие абажура из какого-то обрывка бумаги до сих пор прикрывает электрическую лампочку над камином. Тяжёлая пачка фотоснимков, наклеенных на серые паспарту, сцены нашей пантомимы «Превосходство» – пятьсот штук, – лежит на резной шкатулке из слоновой кости XV века, рискуя её проломить.
От всей обстановки веет безразличием, запущенностью, так и слышится вопрос «А зачем?», словно ожидается скорый отъезд… Уютно? Да какой уют может возникнуть вокруг лампы с выгоревшим абажуром? Я рассмеялась и устало вздохнула после ухода моих двух гостей. И ночь тянулась бесконечно, меня мучило какое-то смутное чувство стыда, пробуждённого неумеренным восхищением Долговязого Мужлана. Его наивный восторг увлечённого мужчины открыл мне глаза на самоё себя, как случайно брошенный взгляд в стекло витрины на углу улицы или в зеркало в подъезде вдруг обнаруживает огорчительные изменения твоего лица и фигуры…
Потом были и другие вечера, которые приводили ко мне Амона с моим поклонником или поклонника без Амона… Мой старый друг добросовестно изменяет своей, как он называет, грязной профессии. То он опекает с непринуждённостью бывшего светского остроумца своего протеже, одиночные визиты которого, искренне признаюсь, были бы мне в тягость, то исчезает, но ненадолго, заставляя себя ждать, однако ровно столько, сколько надо, тратя на меня свою уже несколько заржавевшую дипломатию бывшего завсегдатая художественных салонов…
К их приходу я не наряжаюсь, остаюсь в каждодневной блузке с застроченными складками и в тёмной прямой юбке. Я не «делаю себе лица», не крашу губ, плотно сжатых в гримасе усталости, не подвожу глаз, которые от этого кажутся погасшими, – упорству моего поклонника я противопоставляю вялый облик девицы, которую хотят насильно выдать замуж…
Пожалуй, я стала лишь следить, причём скорее для себя, чем для них, за обманчиво-обжитым видом своего интерьера, в котором я сама так мало нахожусь.
Бландина наконец соблаговолила вытереть пыль в укромных уголках моего кабинета-гостиной, а мягкие подушки в кресле у стола хранят следы моего отдыха.
У меня есть поклонник. Почему именно он, а не кто-то другой? Понятия не имею. С удивлением гляжу я на этого человека, который ухитрился проникнуть в мой дом, чёрт возьми! Он так этого добивался. Он не упускал ни одного подходящего случая, и Амон ему в этом помогал. Однажды, когда я была одна дома, я открыла дверь, услышав робкий звонок: как можно было не впустить этого человека, который смущённо стоял рядом с Амоном, неуклюже держал в руках розы и умоляюще глядел на меня? Так он и ухитрился проникнуть в мой дом. Видно, этого было не избежать…
Всякий раз, когда он приходит, я разглядываю его лицо так, будто вижу его впервые. От носа к уголкам рта у него уже пролегли глубокие складки, которые скрываются в усах. У него красные губы, тёмно-красные, какие бывают у очень смуглых брюнетов. Его волосы, брови, ресницы – всё это чёрное как смоль, как у дьявола. Понадобилось яркое, солнце, чтобы я в один прекрасный день увидела, что, несмотря на всю эту черноту, глаза у моего поклонника серые, тёмно-серые с рыжими искрами.
Когда он стоит, можно и вправду подумать, что он долговязый мужлан, так он несгибаемо прям, так неестественно держится, худой как скелет. Но когда он сидит или полулежит на диване, он словно обретает свободу и вдруг становится как бы другим человеком, ленивым, раскованным, с гармоничными жестами и беспечно откинутой на подушки дивана головой…
Когда я знаю, что он меня не видит, я исподтишка наблюдаю за ним – меня несколько смущает сознание того, что я ведь его совсем не знаю, что его пребывание в моём доме выглядит так же нелепо, как пианино на кухне.
Необъяснимо, почему он, влюблённый в меня, не встревожен тем, что так мало меня знает. Видимо, он просто об этом не думает и занят лишь тем, чтобы успокоить меня и затем покорить. Он очень быстро научился – держу пари, по совету Амона – скрывать от меня своё желание, говоря со мной, смягчать и взгляд, и голос, но если он, со звериной хитростью, делает вид, что забыл, чего он, собственно, от меня хочет, он не предпринимает решительно никакой попытки узнать меня, расспросить, угадать мою сущность, и я замечаю, что он куда внимательнее следит за игрой света на моих волосах, чем вслушивается в мои слова…
Как всё это странно!.. Вот он сидит подле меня, тот же луч солнца касается его щеки и моей, и если его ноздря окрашивается при этом в карминный цвет, то моя – в ярко-коралловый… Он как бы отсутствует, он в тысяче миль отсюда. Меня так и подмывает встать и сказать: «Почему вы здесь? Уходите!» Но я почему-то этого не делаю.
Думает ли он о чём-нибудь? Читает ли? Работает ли?.. Мне кажется, он принадлежит к весьма многочисленной и вполне заурядной категории людей, которая интересуется всем на свете и ни черта не делает. Настоящего ума у него, похоже, нет, но зато есть быстрота понимания и более чем достаточный запас слов, которые он произносит очень красивым глухим голосом. А ещё он легко смеётся, легко впадает в какое-то ребяческое веселье, как, впрочем, и многие мужчины. Вот каков он, мой поклонник.
Чтобы быть до конца правдивой, скажу и о том, что мне больше всего в нём нравится: порой у него бывает отсутствующий взгляд, словно чего-то ищущий, потаённая улыбка, вспыхивающая только в глазах, свойственная натурам страстным, но сдержанным.
Конечно, он путешествовал, как все: не очень далеко, не очень часто. И читал он то, что все читали, он знает «немало людей», но не может назвать, кроме брата, хотя бы трёх близких друзей. Я прощаю ему всю эту ординарность за его удивительное простодушие, в котором, однако, нет ничего униженного, и ещё потому, что он не умеет рассказывать о себе.
Его взгляд редко встречается с моим – я всегда отвожу глаза. Я ни на минуту не забываю, зачем он здесь и почему проявляет такое терпенье. И всё же как отличается этот человек, который садится сейчас на диван, от той наглой твари, что ворвалась ко мне в гримуборную, одержимая вожделением! По моему поведению совсем не видно, что я помню нашу первую встречу, – разве только то, что я почти не разговариваю с Долговязым Мужланом. Когда он пытается со мной заговорить, я всегда отвечаю очень кратко либо, обращаясь к Амону, говорю ему то, что может служить ответом моему поклоннику… Этот способ непрямого разговора придаёт нашим беседам какую-то замедленность и нарочитую весёлость…
Мы с Врагом всё ещё репетируем новую пантомиму. То в «Фоли-Бержер», куда нас пускают по утрам, то в «Ампире-Клиши», где нам на час предоставляют сцену. А ещё мы мечемся между кабачком «Гамбринус» – там обычно во время гастролей репетирует труппа Баре – и танцевальным залом Карнуччи.
– Что ж, вырисовывается в общих чертах, – говорит Браг, скупой на похвалы как другим, так и себе.
«Старый троглодит» репетирует вместе с нами. Это отощавший, всегда голодный мальчик лет восемнадцати, которого Браг то и дело хватает за грудки, поминутно одёргивает и так поносит, что мне его становится жалко.
– Зачем ты так наваливаешься на мальчишку, он вот-вот заплачет.
– Пусть плачет! Я ему ещё сейчас ногой по заднице врежу. Слёзы – это не работа.
Быть может, Браг и прав… «Старый троглодит» глотает слёзы, старается изогнуть спину на доисторический манер и самоотверженно охраняет Дриаду, которая изгаляется перед ним в белом трико…
Как-то утром на прошлой неделе Браг дал себе труд лично зайти ко мне, чтобы предупредить, что назначенная на завтра репетиция отменяется. Он застал у меня Амона и Дюферейн-Шотеля, мы втроём завтракали. Мне пришлось попросить Брага посидеть с нами хоть несколько минут, я предложила ему кофе, представила его своим гостям… Я заметила, что Браг нет-нет да и поднимает свои чёрные блестящие глаза на моего поклонника, с любопытством и одобрением разглядывает его, – он был явно доволен, и от этого я почему-то смутилась. Просто глупость какая-то!..
Когда я провожала Брага до дверей, он не задал мне ни одного вопроса, не позволил себе ни фамильярной шутки, ни двусмысленного намёка, и от этого моё смущение лишь усугубилось. Чтобы не показаться смешной, я не посмела пуститься в объяснения типа: «Знаешь, это один мой приятель… Это друг Амона, он привёл его ко мне завтракать…»
На Фосетте теперь красный сафьяновый ошейник, украшенный позолоченными гвоздиками в спортивном духе, – на редкость безвкусный предмет. Я не посмела сказать, что нахожу его безобразным… А она – проклятая угодливая сучка! – пресмыкается перед этим хорошо одетым господином, который пахнет мужчиной и табаком и ласково похлопывает её по спине. Бландина тоже лезет из кожи вон, до блеска протирает оконные стёкла, а когда приходит мой поклонник, сама, без моей просьбы, приносит поднос с чаем…
Все, следуя примеру Амона, находятся как бы в заговоре против меня, все они за Максима Дюферейн-Шотеля… Но увы! Мне не стоит большого труда оставаться равнодушной!..
Равнодушной и более чем бесчувственной: отвергающей. Когда я пожимаю своему поклоннику руку, то прикосновение к его длинным пальцам, тёплым и сухим, вызывает у меня удивление и неприязнь. А если я ненароком дотрагиваюсь до сукна его сюртука, меня пронизывает нервная дрожь. Когда он говорит, я невольно отстраняюсь, чтобы меня не обдало его дыханием… Я ни за что бы не согласилась завязать ему галстук и предпочла бы скорее пить из стакана Амона, чем из его… Почему?
Да потому что… он – муж-чи-на. Помимо своей воли я всё время помню, что он муж-чи-на. Амон не мужчина для меня, он – друг. И Браг не мужчина – он товарищ. Бути – тоже товарищ. Стройные мускулистые акробаты, у которых благодаря серому обтягивающему трико обнаруживается вся скульптурная рельефность их мужской стати… что ж, они тоже не мужчины, они – акробаты!
Когда на сцене Браг так сжимает меня в объятьях, что трещат рёбра, или прижимается губами к моим губам, изображая страстный поцелуй, приходило ли мне когда-нибудь в голову, что он – существо другого пола?.. Нет, никогда! А вот любой, даже случайно брошенный взгляд моего поклонника или даже самое невинное его рукопожатие напоминают мне, зачем он здесь и на что надеется. Какое это было бы прекрасное времяпрепровождение для кокетки! Какой возбуждающий флирт!
Несчастье заключается в том, что флиртовать я не умею. К этому у меня нет никакой склонности, да и нет опыта, легкомыслия, а главное… О это главное!.. Мне мешает память о муже!
Стоит мне хоть на одно мгновенье представить Адольфа Таиланди за его любимым занятием, когда он, исполненный азарта, выходит, так сказать, «на охотничью тропу», готовый на всё, чтобы соблазнить свою очередную жертву, я сразу становлюсь холодной, скованной, враждебной ко всему, что имеет отношение к «любви»… Я слишком хорошо знаю выражение его лица после очередной победы, плывущий взгляд, детский рот в хитроватой ухмылке, чувственное подрагиванье ноздрей, улавливающих любой летучий запах… Бог ты мой! Все эти уловки, вся эта кухонная возня вокруг любви – вокруг цели, которую даже нельзя назвать любовью, – неужели я могу быть к ним причастной, ими пользоваться? Бедный Дюферейн-Шотель! Порой мне кажется, что это вас здесь обманывают, что я должна была бы вас предупредить… Предупредить о чём? О том, что я стала старой девой, что не испытываю никаких желаний, что я на свой лад заточила себя в монастырь, избрав в качестве кельи гримуборную мюзик-холла.
Нет, я вам всего этого не скажу, потому что мы с вами обмениваемся, словно на втором уроке иностранного языка по системе Берлица, лишь самыми простейшими фразами, в которых чаще всего употребляются такие слова, как хлеб, соль, окно, температура, театр, семья…
Вы – мужчина? Тем хуже для вас! Все в моём доме помнят об этом, но не как я, а чтобы вам служить, начиная с Бландины, которая глядит на вас с нескрываемым обожанием, до Фосетты, чья собачья улыбка от уха до уха говорит о том же: «Наконец-то! В доме появился мужчина. Вот он – МУЖЧИНА!»
Я не умею с вами разговаривать, бедный Дюферейн-Шотель. Я колеблюсь между тем языком, на котором говорю я, резким, с оборванными фразами, где каждому слову придаётся его первородное значение, – язык бывшего синего чулка, – и тем живым, грубоватым образным жаргоном, на котором говорят в мюзик-холле и который пестрит всякими там «обалденно!», «кончай выступать!», «в гробу я их видел», «меня ободрали».
Поскольку я колеблюсь, то предпочитаю молчать.
– Дорогой Амон, я так рада, что мы обедаем вместе! Сегодня нет репетиции, светит солнце, да ещё вы здесь, со мной. Всё хорошо!
Мой старый друг, которого ни на миг не отпускает ревматическая боль, улыбается мне. Он польщён. Как он постарел, похудел, стал почти невесомым, и от этого кажется ещё выше. Заострившийся, чуть искривлённый нос… До чего же он похож на Рыцаря Печального Образа…
– Но мне кажется, что мы уже имели удовольствие вместе обедать на этой неделе, не правда ли? Сколько нежности вы дарите, милая Рене, такому старому скелету…
– Правда, я полна нежности к вам. Сегодня такая чудная погода. Мне как-то удивительно весело и ещё… мы одни!
– Что вы хотите сказать?
– Конечно, вы сами догадались: здесь нету этого Долговязого Мужлана.
Амон печально склоняет своё продолговатое лицо:
– В самом деле, я замечаю, что вы испытываете к нему какое-то отвращение.
– Вовсе нет, Амон! Вовсе нет! Я испытываю… Я ничего не испытываю!.. Вот уже несколько дней, как я думаю, не сказать ли вам всю правду: дело в том, что я не нахожу в себе и тени какого-либо чувства к Дюферейн-Шотелю. Разве что некоторое недоверие.
– Это уже кое-что.
– Знаете, за всё это время у меня не сложилось о нём никакого мнения.
– В таком случае я с радостью предложу вам своё. Это честный, порядочный человек, его репутация ничем не омрачена. Никаких историй.
– Этого мало.
– Мало? Я могу к этому отнестись только как к провокации. К тому же вы не даёте ему возможности говорить о себе.
– Этого ещё не хватало! Вы только представьте себе, как он положит свою огромную ручищу на своё огромное сердце: «Поверьте, я не такой, как все…» Ведь это он сказал бы мне, верно? В такие моменты мужчины обычно говорят то же, что и женщины.
Амон устремляет на меня ироничный взгляд:
– Люблю вас, Рене, когда вы вот так приписываете себе опыт, которого, к счастью, у вас нет. «Мужчины поступают так… мужчины говорят это…» Откуда у вас такая уверенность? Мужчины!.. Мужчины! Вы что, знали многих мужчин?
– Одного-единственного. Но зато какого!..
– А я про что говорю. Уж не обвиняете ли вы Максима в том, что он напоминает вам Таиланди?
– Нет. Он мне никого не напоминает. Никого… У него не живой ум, он не духовен…
– Влюблённые всегда глупеют. Вот я, когда любил Жанну…
– А я сама, когда любила Адольфа! Но это, так сказать, сознательная глупость, почти доставляющая наслаждение. Помните, когда мы с Адольфом были приглашены на обед, у меня всегда был жалкий вид, вид «бесприданницы», как говорила Марго? Мой муж красовался, улыбался, острил, блистал… все смотрели только на него, а если кто-нибудь и замечал меня, то только чтобы его пожалеть. Мне все давали понять, что без него я – ноль, не существую!..
– О, вы несколько преувеличиваете, позвольте вам заметить.
– Ничуть, Амон! Не спорьте! Я изо всех сил старалась быть незаметной. Я его так любила, как… как идиотка.
– А я! А я! – восклицает Амон, оживляясь. – Помните, как моя куколка Жанна высказывалась о моих картинах: «Анри с рождения очень добросовестный, но старомодный», а я стоял и помалкивал?
Мы смеёмся, мы радуемся, чувствуем себя помолодевшими оттого, что ворошим горькие и унизительные воспоминания… Ну зачем мой старый друг портит эту субботу, так полно отвечающую установившейся у нас традиции, упомянув имя Дюферейн-Шотеля? Я недовольно поджимаю губы:
– Опять вы о том же. Не приставайте ко мне с разговорами об этом господине! Что я о нём знаю? Что он аккуратен, прилично воспитан, любит бульдогов и курит сигареты. А что он к тому же ещё и влюблён в меня – это, будем скромны, никак особо его не характеризует.
– Но вы делаете всё от вас зависящее, чтобы его так никогда и не узнать.
Амон теряет терпенье и с неодобрением щёлкает языком.
– Ваше право… Ваше право!.. Вы рассуждаете, как ребёнок, уверяю вас, мой дорогой друг!..
Я освобождаю руку, которую он прикрыл своей ладонью, и почему-то говорю торопясь:
– В чём вы меня уверяете? Что он предмет неординарный? Да и что вы хотите, в конце концов? Чтобы я спала с этим господином?
– Рене!
– Бросьте, давайте называть вещи своими именами!
Вы хотите, чтобы я поступала как все? Чтобы я наконец решилась? Этот или другой – какая, в конце концов, разница? Вы хотите разрушить мой с таким трудом обретённый покой? Хотите, чтобы у меня появилась другая забота помимо терпкой, но такой укрепляюще-естественной заботы зарабатывать себе на кусок хлеба? А может, вы посоветуете мне завести любовника из соображений здоровья, как принимают кроветворное лекарство? Зачем мне это? Чувствую я себя хорошо и, слава Богу, не люблю, не люблю… И никогда больше никого, никого, никого не буду любить!
Я прокричала это так громко, что он смущения замолчала. Амон, существенно менее взволнованный, нежели я, дал мне время поостыть. Кровь, бросившаяся мне в лицо, отхлынула к сердцу…
– Вы больше никого не будете любить? Возможно, это и правда. Но, поверьте, это было бы печальнее всего… Вы молодая, сильная, нежная… Да, это воистину было бы печальнее всего…
Я прямо задохнулась от возмущения и, едва сдерживая слёзы, гляжу на своего друга, который посмел мне такое сказать.
– О, Амон! И это вы… Вы говорите мне!.. После всего, что с вами… с нами случилось, вы ещё надеетесь на любовь?
Амон отводит взгляд в сторону, его глаза, светлые молодые глаза, контрастирующие с его морщинистым лицом, устремлены в окно, и он невнятно произносит:
– Да… Я вполне счастлив теперь… И готов жить так, как сейчас живу. Но сказать, что я ручаюсь за себя, заявить: «Отныне я никого больше не полюблю», нет, на это бы я не решился…
На этом странном ответе Амона наш спор иссяк, потому что я терпеть не могу говорить о любви… Я могу выслушать не моргнув глазом любую скабрёзность, но вот о любви говорить не люблю… Мне кажется, если бы я потеряла любимого ребёнка, я никогда не могла бы произнести его имя.
– Приходи сегодня ужинать в «Олимп», – сказал мне Браг на репетиции, – а потом зайдём навестить ребят, которые сейчас работают в ревю в «Ампире-Клиши».
Я далека от того, чтобы обмануться: речь, конечно, идёт явно не о приглашении на ужин. Мы ведь всего-навсего товарищи, и законы товарищества между артистами – а они существуют – не терпят в этих вопросах никакой двусмысленности. Итак, я вечером встречаюсь с Брагом в баре «Олимп», пользующемся весьма дурной славой. Дурной славой? О, это меня ничуть не заботит. Я больше не должна блюсти свою репутацию и потому безо всякого смущения, но, признаюсь, и без удовольствия переступаю порог этого маленького монмартрского ресторана, где от семи до десяти вечера царит благопристойная тишина, зато всю остальную часть ночи ресторан гудит от безудержной гульбы: крики, звон посуды, звуки гитар. В прошлом месяце я иногда ходила туда обедать, второпях, одна или с Врагом, перед тем как бежать в «Ампире-Клиши».
Официантка, явно провинциалка, с невозмутимой медлительностью, никак не реагируя на адресованные ей крики, подаёт нам свиную корейку с тушёной капустой – блюдо здоровое, хоть и тяжёлое, особенно, наверное, для слабых желудков дешёвых проституточек этого квартала, которые ужинают одни, без мужчин, за соседним столиком. Они едят с тем ожесточением, которое возникает перед полной тарелкой у животных и у недоедающих женщин. Да, в этом баре не всегда бывает весело!
В дверях появились две женщины, совсем молоденькие, тоненькие, в идиотских шляпках, которые, казалось, плыли, нелепо покачиваясь, на волнах их взбитых причёсок, и Браг тут же стал насмехаться над ними, хотя, я знаю, в глубине души их жалел. Одна из девиц просто поражала своим обликом, в горделивой посадке её головы был какой-то дьявольский вызов, а в противоестественной худобе, подчёркиваемой узким платьем из розового сатина-либерти, купленном в лавчонке на углу, – особая грация. Несмотря на ледяной ветер этого февральского вечера, она куталась не в пальто, а в тоненькую накидку из такого же сатина, только синего цвета, сильно вылинявшего, расшитого серебряными нитями… Она окоченела, просто обезумела от холода, но её серые, полные какого-то ожесточения глаза не допускали никакого сочувствия. Казалось, она готова оскорбить, исцарапать каждого, кто сокрушённо скажет ей: «Бедная девочка!»
В этой особой стране, имя которой Монмартр, девчонки, гибнущие от гордости и нищеты, прекрасные в своей крайней обездоленности, являются отнюдь не редкой разновидностью, и я частенько встречаю их то тут, то там. В поношенных платьицах из тончайшей материи перелетают они от столика к столику в ночных харчевнях на монмартрском холме. Весёлые, пьяные, злые, как собаки, готовые вцепиться в глотку любому обидчику, они никогда не бывают ни мягкими, ни нежными, они ненавидят свою профессию, но никуда не денешься – «работают». Мужчины с добродушным презрением, смеясь, называют их «чёртовыми куклами», потому что эти отпетые создания никогда ни в чём не уступят, ни за что не признаются, что голодны, что замерзают, что любят; помирая, они упрямо будут твердить: «Нет, нет, я не больна!» Когда же их бьют смертным боем, они хоть и истекают кровью, но яростно дают сдачи. Да, я знаю породу этих девчонок, и о них я думаю, глядя на только что вошедшую в «Олимп» закоченевшую гордячку.
Глухой говор голодных людей наполняет бар. Двое накрашенных парней вяло переругиваются через весь зал из конца в конец. Девочка-подросток, которая вместо обеда не спеша потягивает мятную воду в зыбкой надежде, что вдруг кто-нибудь угостит её ужином, словно бы нехотя встревает в их спор. Нажравшаяся до отвала бульдожка тяжело дышит на потёртом ковре, шаром выкатив своё брюхо, на котором, будто гвоздики, торчат блестящие сосцы…
Мы с Врагом болтаем, разомлев от жара газовых ламп. Я мысленно перебираю в памяти все дешёвые ресторанчики во всех городах, где мы вот так сиживали, усталые, ко всему равнодушные, но всё же любопытные, перед тарелками с какой-то непонятной едой… У Брага железный желудок, ему нипочём скверная пища привокзальных буфетов и гостиниц, а я, если «телятина по-господски» или «баранина по-домашнему» оказываются жёсткими как подмётка, накидываюсь на сыр и омлет…
– Послушай, Браг, вон тот, спиной к нам, – это не танцор Стефан?
– Где?.. А! Конечно, он… С подружкой.
С такой «подружкой», что я прямо столбенею: брюнетка лет пятидесяти, не меньше, да ещё с усами… А танцор Стефан, словно почувствовав наши взгляды, полуоборачивается к нам и заговорщицки подмигивает, так, как это делают на сцене: мол, «Тс-с, тайна!», но с таким расчётом, чтобы это видел весь зал.
– Бедняга! – шепчет Браг. – Тяжёлый у него хлеб… Кофе, пожалуйста, мадемуазель! Мы сматываемся!.. – кричит он официантке.
Кофе здесь напоминает чернильную жижу с оливковым отливом, которая оставляет внутри чашечки трудно смываемый след. Но поскольку я больше не могу позволить себе пить хороший кофе, то я даже полюбила эти горячие горькие отвары, пахнущие лакрицей и хиной… В нашей профессии скорее можно обойтись без мяса, но не без кофе!..
Нам так долго не подают кофе, что танцор Стефан «смотался» раньше нас – он теперь участвует в ревю в «Ампире-Клиши»; торопясь за своей перезрелой спутницей, он, бесстыдно ухмыльнувшись, изображает тяжелоатлета, рывком подымающего штангу весом двести килограммов, а у нас хватает духа рассмеяться… Потом и мы выходим из этого унылого заведения, которое называется «увеселительным», где всё в этот час дремлет в тусклом свете ламп под тусклыми абажурами: и обожравшаяся бульдожка, и измождённые девчонки, и провинциалка-официантка, и управляющий с нафабренными усиками…
На Внешнем бульваре и на площади Бланш гуляет ледяной ветер, он срывает с нас дрёму, и я с радостью чувствую, что меня захлёстывает какая-то стихия активности, потребность ра-бо-тать… Потребность таинственная и неопределённая, которую я с одинаковым успехом могу удовлетворить и танцами, и писательством, бегом или игрой в театре, или даже толканием ручной тележки…
Словно охваченный тем же ощущением жизни, Браг вдруг говорит мне:
– Знаешь, я получил записку от Саломона… Поездка, о которой я тебе говорил, вроде состоится. День в одном городе, два дня в другом, неделя в Марселе, неделя в Бордо… Ты по-прежнему готова ехать?
– Я? Да хоть сейчас! А почему ты спрашиваешь? Он искоса глядит на меня.
– Не знаю… Просто так… Иногда… Я знаю, как бывает в жизни…
А, понятно! Браг, конечно, не забыл о Дюферейн-Шотеле и, видно, думает, что… Мой резкий смех не разубеждает его, а лишь ещё больше запутывает, но я чувствую себя нынче такой весёлой, такой задорный, будто я уже в пути… О да! Уехать, вновь уехать, забыть и кто я есть, и название города, приютившего меня вчера, и ни о чём не думать, и любоваться красотой пейзажа, который мчится вдоль поезда, и запечатлевать его в своей памяти – вот это свинцовое озеро, в котором небо отражается не голубым, а зелёным, вот эта сквозная ажурная звонница, множество ласточек вокруг…
Однажды, я помню… Уезжая из Рена майским утром… Помню, поезд очень медленно ехал вдоль ремонтирующихся путей, между белыми как кипень кустами цветущего терновника, розовым великолепием яблонь, отбрасывающих на траву голубые тени, и молодыми вязами с прозрачной нефритовой листвой… На опушке леса стояла девочка лет двенадцати и глядела, как я проезжаю мимо неё. Меня поразило её сходство со мной. Серьёзная, с чуть насупленными бровями, с персиковыми щёчками – какими были мои, – с выгоревшими на солнце волосами, она держала пушистую веточку в руке, загорелой и исцарапанной, как моя. И это замкнутое лицо, эти глаза без возраста, скорее мальчишечьи глаза, которые, казалось, всё на свете воспринимают всерьёз, – тоже мои, в самом деле мои!.. Да, перед кустами подлеска стояло моё нелюдимое детство и, ослеплённое восходящим солнцем, глядело прищурясь, как я проезжаю мимо…
– Может быть, соблаговолишь переступить порог? Эта ироничная фраза Брага возвращает меня к действительности – оказывается, мы уже дошли до подъезда «Ампире-Клиши», расцвеченного фиолетовыми огнями, такими яркими, что, как говорит Браг, они «просто ранят задницу глаз», и мы входим в подвал – знакомый запах отсыревшей штукатурки, нашатырного спирта, крема «Симон» и дешёвой рисовой пудры вызывает у меня почти приятное отвращение… Мы пришли сюда повидать товарищей, а не смотреть ревю.
Я вхожу в свою большую гримуборную, которую теперь занимает Бути, а та, в которой прежде гримировался Браг, преображена ослепительным присутствием Жаден, исполняющий в этом ревю три роли.
– Скорей, скорей! – кричит она нам. – Вы как раз поспеете к моей песенке «Париж ночью»!
Увы!.. Жаден на этот раз облачили в костюм эстрадной звезды! Чёрная юбка, чёрный корсаж с большим вырезом, ажурные чулки, красная бархатка на шее, а на голове – традиционный парик в форме каски, украшенный алой как кровь камелией! Ровным счётом ничего не осталось от той народной, за душу хватающей прелести уличной девчонки, которая как-то кособоко стояла на сцене…
Впрочем, этого надо было ожидать… Как быстро и неумолимо превратило время такую свеженькую, отчаянную озорницу в рядовую кафешантанную певичку. «Ну как дела?.. Что нового?.. У вас вытанцовывается?..» – а я всё гляжу на Жаден, которая мечется по своей гримуборной, и с горечью замечаю, что ходит она уже «изячной» актёрской походкой, как все, подтянув живот и выкатив грудь, что говорит поставленным голосом и даже ни разу не матюгнулась с тех пор, как мы пришли…
Бути, который будет танцевать с Жаден неизбежный галоп, лихо заломил шёлковую кепку, он молча сияет. Ещё немного, и он сказал бы нам: «Вот таким путём!», указав жестом хозяина на свою партнёршу. Покорил ли он её наконец? Он небось тратит немало сил – во всяком случае, я в этом уверена, – чтобы убить в Жаден всё самобытное. И вот они оба, перебивая друг друга, рассказывают, что готовят «сенсационный» номер для «Кристал-палас» в Лондоне и рассчитывают заработать кучу денег! Как быстро всё меняется!.. Особенно женщины… Вот Жаден, например, за несколько месяцев потеряет всю свою пикантность, свою покоряющую естественность и непредсказуемую эксцентричность. Подлая наследственность консьержек и алчных, мелочных торговок, пробьётся ли она в натуре этой шальной восемнадцатилетней девчонки, которая пока ещё так расточительно тратит и себя, и свои жалкие гроши? Почему, глядя на неё, я вспоминаю «Группу Белл» – немецких партерных акробатов с английской фамилией, которых мы с Врагом встретили в Брюсселе? Они не знали себе равных по силе и грации, от вишнёвых трико их тела казались бело-мраморными, однако, несмотря на свой успех и хорошие заработки, они впятером теснились в двух крошечных комнатушках без всякой мебели, где сами готовили себе на чугунной печурке, и всё свободное время – нам это рассказывал импресарио – вели подсчёты, зачитывали до дыр биржевые ведомости, до хрипоты спорили о золотых приисках и о египетском кредитном банке! Деньги, деньги, деньги!..








