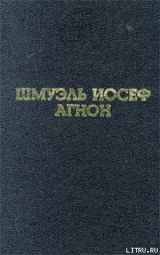
Текст книги "Во цвете лет"
Автор книги: Шмуэль Йосеф Агнон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Дважды и трижды в неделю приходил отец мой в дом Готлибов. И ужинал с нами в саду. Сумерки покроют стол и приборы, и трапеза наша при свете светильников. И красные фонари семафоров железной дороги освещали нам ночь, потому что недалека железная дорога от дома Готлибов. Лишь изредка поминали там имя мамы. И когда вспоминала госпожа Готлиб маму, не заметно было, что мертвую поминает. Потом поняла я, как мудро она поступает.
А отец все время старался перевести беседу на покойницу маму. И иногда говорил он: мы, несчастные вдовцы. Странно было это слышать – будто умерли все женщины и все мужчины овдовели.
А господин Готлиб поехал в путь к брату, ибо так решил Готлиб: может, присоединится к нему брат, ибо богат он, и расширят они вместе парфюмерию. А Минчи, что остерегалась говорить о мужних делах, на этот раз сказала мне больше, чем собиралась. И внезапно, чтобы я забыла ее слова, рассказала она мне, как первый раз пришла в дом к своему свекру. Пришла она в дом к свекру, вошел жених ее, поприветствовал ее и ушел, и закручинилась Минчи, ибо учтивым было его приветствие. Она грустит, а он снова входит и бросается с поцелуями, а она отскочила, потому что обиделась. Не знала она, что приходил его брат, а лицом он точно как ее жених.
Каникулы стали приближаться к концу, и отец сказал мне: побудь здесь до вторника, а во вторник вечером я приду и заберу тебя домой. Сказал он и закашлялся. Налила ему Минчи стакан воды, и испил он. И спросила Минчи моего отца: простыли, господин Минц? И сказал отец: думаю я оставить дело. Мы еще дивимся словам его, а он добавил: если бы не дочь, сейчас бросил бы торговлю. Какой странный ответ! Да бросит ли человек свое дело из-за простуды? Мы не высказали своего беспокойства, а то и впрямь подумал бы, что он болен. Но госпожа Готлиб спросила: чем же займетесь? Книги писать будете? Мы все рассмеялись. Он, купец, деловой человек, сядет книжки писать!
Раздался гудок паровоза. Сказала госпожа Готлиб: через десять минут придет мой муж. И смолкла. Стихла беседа, мы все ждали его прихода. Пришел господин Готлиб. Минчи то и дело поглядывала на него и проверяла его взором. А Готлиб потер кончик носа и улыбнулся, как человек, собирающийся позабавить слушателей, и рассказал нам о своей поездке к брату. Он в дому брата, и жена брата с сыном сидит в зале. Взял он ребенка на руки и стал агукать и подбрасывать его. И оба они удивились, что пошел к нему мальчик, хоть и не видал его никогда. Так он забавлялся с малышом, и тут заходит брат. Посмотрел мальчик на него и на его брата, и его глаза так и забегали от одного к другому. Смотрит и удивляется. Наконец отвернулся ребенок и заревел изо всех сил и потянулся ручонками к маме, она взяла его на руки, и он спрятал лицо у нее на груди.
Я вернулась домой и снова пошла в школу. Нашел мне отец и учителя иврита, господина Сегала, у которого я училась долгое время. Трижды в неделю училась я ивриту. Один день учила Библию, один день – грамматику, и один день – письмо, потому что не любил Сегал перепрыгивать с предмета на предмет, и поэтому разделил на три части. Объяснял мне Сегал книги Завета и толкования ученых мудрецов от меня не скрывал. А по книгам учил мало, ибо уходило время на толкования и разъяснения. Много хорошего он мне рассказал, чего в книгах я не находила. И старался оживить язык наш в моих устах: скажу я что-нибудь, а он скажет: скажи это на иврите. Говорил он вычурным стилем прежних времен и радовался, если слова из речей пророков попадались ему на язык, ибо воистину знали пророки иврит. А больше всего я любила уроки письма. Тогда сидел себе Сегал спокойно, подперев голову рукой и закрыв глаза. Тихо-тихо читал он наизусть и в книгу не заглядывал. Как музыкант, что играет в ночной тьме от полноты сердца и не смотрит в ноты, лишь то, что душа просит, играет – так и мой учитель.
Плату за учение отец положил ему три серебряных талера в месяц. Я давала ему деньги украдкой, а он пересчитывал деньги у меня на глазах и говорил: я же не врач, чтобы мне давали деньги украдкой, я рабочий и платы за труд не стесняюсь.
А отец работал беспрерывно. И вечером не отдыхал. Я лягу, а он сидит при свете лампы, и иногда и утром я вижу: горит перед ним лампа, потому что от расчетов забывал он погасить лампу. И мамино имя не поминал более.
В канун Судного дня Иом Кипура купил отец мой две свечи. Одну свечу, свечу жизни, зажег дома, а другую, за упокой души, поставил в молельне. И когда взял он поминальную свечу отнести в молельню, сказал он мне: не забудь, завтра день поминовения душ усопших. Голос его дрожал. Я подошла и поцеловала его руку. И пришли мы в молельню, и посмотрела я вниз с балкона на молящихся, что поздравляют друг друга и прощения друг у друга просят, и увидела: стоит отец перед человеком без молитвенного плата.[33]33
Без молитвенного плата – так молятся холостяки. Все другие были женаты и молились, покрыв голову молитвенным платом.
[Закрыть] Узнала я Акавию Мазала, и слезы выступили у меня на глазах.
Певчий-хазан пел «Отпусти все обеты», и голос его все нарастал. Свечи разгорелись, и дом полон света. Люди ходили меж свеч, и лица их укрыты. Как люба мне святость этого дня! Молча вернулись мы домой, не говоря ни слова. Звезды небесные и свечи в домах озаряли наш путь. Пошли мы через мост, потому что отец сказал: давай постоим над водой, у меня горло полно пыли. Ночные светила сверкали из воды в лицо звездам небесным. Месяц показался меж туч, и тишина струилась от вод. С небес слал Господь тишь. Никогда не забуду эту ночь. Пришли мы домой, и свеча жизни качнулась нам навстречу. Помолилась я и уснула до утра. Утром пробудил меня голос отца, и пошли мы на молитву. Небеса покрылись белым пологом, которым покрывается твердь осенью. Деревья сбросили свои пурпурные листья, и старухи собирали листву. Из крестьянских изб валил дым из сухой листвы, горящей в их печах. Люди в белых одеяниях сновали по улицам. Пришли мы в молельню и помолились. А между службами встречались во дворе молельни.[34]34
…Меж службами встречались во дворе молельни… – у евреев мужчины и женщины молятся раздельно и могут встретиться только вне здания молельни-синагоги.
[Закрыть] И каждый раз спрашивал отец, не трудно ли мне поститься. Как смущал меня голос отца!
В праздник Кущей я почти не видала отца. Я училась в польской школе, и на праздник нас не отпустили. А когда я возвращалась из школы к обеду, отец с соседями сидел в кущах: и я ела дома одна, затем что нет для женщин места в кущах. Но зимние дни примирили нас. Вечером мы ужинали вместе и при свете одной лампы вершили наши дела. Лампа светила, и тени наших голов сливались воедино. Я делала уроки, а отец проверял счета. В девять приносила Киля три стакана чаю: два отцу и один мне. Тогда отставлял отец счета и перо менял на чашку. Одну чашку выпьет горячей, а в другую положит сахар и выпьет остывшей, а затем мы возвращаемся к нашим трудам. Я – к урокам, а отец – к счетам. А в десять встанет отец, погладит меня по голове и скажет: а теперь почивать, Тирца. Как я любила это «а», всегда оно меня радовало, будто слова отца – продолжение его мыслей обо мне. Мол, раньше он про себя говорил со мной, а сейчас вслух. И говорила я отцу: если ты не идешь спать, то и я не пойду спать, буду с тобой сидеть, пока не пойдешь почивать. Но отец не слушал меня, я ложилась спать. А когда просыпалась, он сидел за столом, и счетные книги разложены по столу. Встал ли он спозаранку, или не ложился всю ночь? Не спрашивала я, а потому и не знаю. Каждый вечер я думала: пойду-ка я и поговорю с ним по душам, может, послушается меня и отдохнет. Не успею встать, как сон берет верх. Знала я, что отец хочет оставить дела, поэтому и работает вдвойне. Порядок наводит в счетах. Что потом собирается делать, я не спрашивала.
Исполнилось мне шестнадцать лет, и учеба в школе окончилась. Окончились школьные годы, и послал меня отец на учительские курсы. Не по способностям послал меня отец на учительские курсы, потому что способностей к преподаванию у меня не было, но и другое поприще не прельщало сердца. Подумала я, что судьба человека и жизнь его другими устраиваются. И сказала: это хорошо. Друзья и родные изумились: как это Минц свою дочь отдал в учителки.[35]35
…учителки… – не считалось достойным занятием для дочери богатых родителей.
[Закрыть]
Хоть и суета учительство, но вселяет надежду. Знали мы, что еврейские учительницы не такие, как христианки, посылают их в дальние села, и иноверцы с необрезанными сердцами досаждают им за еврейство их, и плата учителя такая, что не успеет доехать до села, как уже всю плату съели дорожные издержки. И все же много еврейских девушек на курсах.
А курсы были частные, и Мазал там учителем был. Раз в год езжал директор с курсистками в губернский город, на экзамены. И потому усердно учились курсистки, что стыд великий девице вернуться с экзамена без диплома, после всех дорожных издержек и справленного нового платья. И коль проваливалась девица на экзаменах, говорила ей подружка или соперница: на тебе новое платье. Не видала я его до сих пор. Отвечала та: новое. А эта продолжала: ведь это платье ты сшила на экзамены. Какой диплом получила? А если не надевала нового платья, скажут ей: где новое платье, что ты носила на экзамены? И напомнят ей конфуз с дипломом. Поэтому учились девицы не покладая рук; если понимания не хватало – зазубривали наизусть, что не сделает разум – совладает память.
Пришла я на курсы и удивилась, что не являет мне Мазал никакого знака внимания и ласки, а я думала, выделит он меня среди прочих девиц, ведь я ему не чужая. Многие дни не могла я оградить сердце от сего чувства. На уроках я вдвое прилежнее слушала и скуки не знала.
В те дни я любила гулять сама по себе. После уроков выйду гулять в поле, встречу подружку – не поздороваюсь, а если та поздоровается – отвечу ей вполголоса, чтобы не привязалась: так мне хотелось гулять одной. И дни стояли зимние.
И вот однажды вечером я гуляла, и вдруг большой пес залаял, а затем раздался звук мужских шагов, и узнала я, что это Мазал. Завязала я платок на руке и махнула рукой пред ним и поздоровалась. Остановился Мазал и спросил: что с вами, госпожа Минц? Пес, сказала я. Мазал перепугался и спросил: укусил тебя пес? И сказала я: пес укусил меня. И сказал он: покажи руку, и у него прямо сердце выскакивало при этих словах. И сказала я: повяжите мне платок на рану. Взял меня Мазал за руку, и все косточки его дрожат от страха. Держит он меня за руку, а я сняла платок, подпрыгнула и расхохоталась. И сказала: ничего нет, сударь, ни собаки, ни укуса. Удивился он, услыша слова мои, и не знал, плакать ему или смеяться. А через минуту и он расхохотался веселым смехом. А потом сказал мне Мазал: ах ты скверная девчонка, как ты меня перепугала. И проводил меня до дому и ушел. А перед уходом посмотрел мне в глаза. И я подумала: ты знаешь, что я знаю, что знаешь ты мои тайны. И все же буду тебе благодарна, если не напомнишь мне то, что тебе ведомо.
Всю ночь вертелась я на ложе. Прижимала руку к устам и следы платка искала. Сожалела я, что не пригласила Мазала домой. Пришел бы со мной Мазал, сидели бы мы сейчас в светлице, и не знала бы я сомнений. Встала я утром в мрачном настроении. То лежу на постели, то на коврике простираюсь, и сомнения гложут меня. Только к вечеру обрела я покой. Как нервные люди, что весь день дремлют и к вечеру просыпаются. Когда я вспомнила все, что делала вчера, встала я, взяла красный снурок и повязала его на руку на память.
Были дни Хануки, когда режут гусей. Ушла Киля к раввину с вопросом, осталась я одна. Пожилой человек зашел в дом. Спросил он меня: когда придет отец твой домой? Сказала я: придет в восемь или полвосьмого. Сказал он: раненько я пришел, сейчас полшестого. Сказала я: да, полшестого. И сказал он: неважно.
Поставила я ему стул. Сказал он: что мне так сидеть, налей водички. Налила я ему чаю. Сказал он: просил я воды, а получил чай. Плеснул он себе на руки и сказал: ну, ну, где «восток»? И обернулся к стене и сказал: в дому деда твоего не надо было человеку задавать такие вопросы, потому что «восток» висел на стене. Встал он и помолился, а я взяла две-три шкварки и положила в миску на столе, и человек окончил молиться, поел и попил и сказал: шкварки, милая, шкварки, – и жир течет с его губ. Сказала я: сейчас принесу салфетку и вытрете руки. Сказал он: нет, дай мне кусок пирога. Есть у тебя пирог, что можно есть без омовения рук?[36]36
…Без омовения рук… – можно есть продукты, не похожие на хлеб (не сделанные из муки).
[Закрыть] Есть, ответила я, сейчас принесу пирог. Сказал он: не спеши, принеси пирог вместе со вторым. Ты ведь принесешь мне еще? – Конечно. И сказал он: я знал, что ты принесешь, но ты не знаешь, кто я. Неважно, сказал он мягко, я Готскинд. Итак, задерживается отец твой сегодня. Посмотрела я на часы и сказала: четверть седьмого, а отец не придет до половины восьмого. И сказал: неважно, занимайся своим делом. Не буду тебе мешать. И взяла я книгу. И спросил он: что у тебя в руках? Я сказала: геометрия. Схватился он за книгу и сказал: и на пианино умеешь брякать? Пришел я сейчас из дома аптекаря, и сказал мне аптекарь: не возьму себе жену, что не умеет играть на пианино. Видишь, Готскинд, сказал мне аптекарь, я еду в маленький городок, потому что не смогу я купить аптеку в большом городе. Правда, не сказал я, что он не аптекарь, а помощник аптекаря. Ну неважно: что помощник аптекаря, что аптекарь. Говоришь, нет у него аптеки. Ничего, женится и на приданое справит аптеку. Итак, Готскинд, сказал мне аптекарь, еду я жить в маленькое местечко и, если не будет жена играть на пианино, от скуки умрет. Ведь чудное умение – музицировать, не только удовольствие стучать по клавишам, но и за премудрость сочтется сие. Но вот уже близится семь, и уходить теперь не стоит, отец твой скоро придет. И Готскинд расчесал бороду пятерней и сказал: должен бы твой отец почувствовать, что знакомец ожидает его. Ведь не знает человек, где его благо ждет. Вот часы бьют. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Свидетелями мне часы, что правду говорю. Я утратила покой. А Готскинд сказал: ты ведь не знаешь, кто я, и имени моего до сегодняшнего дня не слыхала. А я тебя знал еще до твоего рождения. Это я просватал твою мать за твоего отца.
Не успел он договорить, как пришла Киля, и мы накрыли на стол.
– И в домоводстве ты сведуща? – воскликнул Готскинд, как бы удивляясь. – Говоришь, отец скоро придет. Если так, подождем его, – сказал Готскинд, как будто только сейчас ему такая мысль пришла.
Подошел восьмой час, и отец вернулся. Готскинд сказал отцу: легок на помине. Вот и часы бьют. Свидетелями часы, что я правду говорю. И подмигнул он отцу и сказал: к тебе я был послан, и вот Господь явил мне и дочь твою.
В ту ночь мне снилось, что отец выдал меня за индейского вождя и все тело мое в татуировке из целующихся уст. И муж мой сидит напротив на скале и расчесывает бороду лапой стервятника, и удивилась я. Ведь известно, что индейцы стригут бороду и голову, откуда у моего мужа столько волос?
Прошло четыре дня с моей встречи с Мазалом, и я не ходила на курсы. Боялась я, что увидит отец и забеспокоится обо мне. И думаю я, когда пойти на занятия: если приду на курсы и Мазал там, то застыжусь, а если приду, а Мазала еще нет, то от звука его шагов задрожу. Опоздаю-ка я к началу занятий, чтобы он внезапно меня увидел. И пошла я на курсы, и вот уже начался урок, а ведет его другой человек. Спросила я одну курсистку: почему Мазал не пришел. И сказала она: и вчера и третьего дня не приходил Мазал, и кто знает, придет ли еще когда-нибудь. Сказала я: загадками говоришь. И отвечала девица: дело в женщине. И я задрожала. И рассказала мне девица, что оставил Мазал курсы из-за учителя Капирмилха, что получил деньги от своей бабки, а та прислуживала в дому у Мазала и деньги послала внуку в конверте, что взяла без спросу у своего хозяина со стола. Открыл Капирмилх конверт, а там еще и письмо, которое написала одна курсистка Мазалу. А отец курсистки одолжил как-то деньги Капирмилху, и сказал Капирмилх ему: прости мне мой долг, а я дам тебе письмо твоей дочери к ее любовнику, к Мазалу. Услыхал об этом Мазал и ушел с курсов, чтобы не пострадал из-за него весь семинар.
Вернулась я домой и обрадовалась, что не будет больше Мазал учить на курсах, и не подумала даже, что останется без заработка. Правда, больше не увижу его, но и не устыжусь при виде его. И сразу опротивели мне курсы. Сидела я дома и помогала Киле во всяких домашних работах. Вспомнила я старых учительниц, и тошно стало мне. Неужто загублю я жизнь за безвестными книгами и стану как они? И думая об о том, забыла я и про домашние работы и оставила хозяйство. Хотелось мне выйти на улицу, вдохнуть ветер, размять ноги. Встала я, накинула шубку и вышла. По пути зашла я в дом Готлибов. Минчи поспешила мне навстречу и взяла мою руку в свои и согрела и мне в глаза заглянула – узнать, принесла ли я какую весть. И сказала я: нет вестей. Пошла я погулять и заглянула к вам. Она сняла с меня шубку и усадила у печки. Выпила я стакан чаю, встала и пошла, потому что услыхала, что мытный начальник придет к трапезе, и побоялась, что помешаю господину Готлибу поговорить с ним по делам.
Дождь был на свете, и я сидела дома. Весь день читала книжки или сидела с Килей на кухне и помогала Киле в ее работах. Покойны помыслы сердечные, худа не мнится мне.
В восемь вечера отец вернулся домой. Молча скинул он башмаки и переобулся в тапочки. Шорох его тихих шагов как бы напомнил мне о тишине дома. Стол был накрыт к его приходу, и с его приходом мы сели ужинать. А потом засел отец за расчетные книги, а я сидела рядом до десяти. А тогда он встал и сказал: а сейчас иди почивать, дочка, и погладил меня по голове, и я опустила голову. Какое невыносимое счастье. Так прошла пора дождей.[37]37
…Прошла пора дождей… – по-моему, и еще год прошел и Тирце 17.
[Закрыть]
Солнце засияло над городом, и грязь почти просохла. Рано пробудилась я и не смогла уснуть, казалось мне, что-то стряслось в мире. Обратила я лицо к окну, а за ним темно-синее небо. Неужто бывает такой свет, а я и не знала. Только через несколько мгновений поняла я, что обмануло меня оконное стекло. И все же не проходила моя радость.
Быстро я встала и надела свои одежды. Что-то стряслось в мире, пойду посмотрю, что это. Вышла я на улицу. И с каждым шагом останавливалась в изумлении. Поглядела я на витрины лавок – все они сияли в свете дня. Сказала я себе: пойду в лавку, куплю что-нибудь. Не знала, что куплю, но решила купить и не гонять Килю. Но в лавку я не вошла, а пошла на край города, к мосту. А под мостом дома, с обеих сторон дома. Голуби летают с крыши на крышу, а на одной крыше муж и жена чинят крышу. Поприветствовала я их, и они ответили мне. Пошла я дальше, и вот стоит старушка, будто ждет, когда я спрошу ее, куда идти. А я не спросила. Вернулась я домой, взяла книжки и пошла на курсы, и противны мне были курсы. Гнездо скуки этот дом. Вижу, не перед кем там излить мое сердце, и еще больше возненавидела я курсы. Омерзели занятия душе моей. И сказала я: расскажу Мазалу. Не знаю, что меня спасло, но сладко мне стало от этой мысли, и тешилась я ею весь день. Но как мне с ним заговорить, ведь к нему домой не пойду и на улице не встречу. Прошла зима, сошел снег, а мы не встретились.
В то время приболел отец, и пришел Готлиб пожелать ему выздоровления, и рассказал ему Готлиб, что расширяет он свою парфюмерию, потому что дал ему денег брат и вошел в долю, и власти препятствовать более не будут, воевода-начальник стал на его сторону, потому что получил взятку. Милый друг, сказал воевода Готлибу, все чиновники вплоть до кесаря гонятся за мздой, нет воеводы, чтобы не брал взятки. Приведу тебе пример, сказал воевода, спросишь про такого-то, кто он и как выглядит, а тебе скажут: длина его носа пять сантиметров, ты испугаешься, но на самом деле пять сантиметров – длина любого носа. И сказал Готлиб отцу: не мне их судить, но их порочная невинность рассердила меня. Сегодня они тебя утешат, а завтра и не вспомнят. Куда лучше чиновники в России: мзду берут и глаза честностью не слепят.
Когда уходил Готлиб, проводила я его, и сказал мне Готлиб: от больного к больному. Скрыла я смятение и спросила: кто болен? И ответствовал Готлиб и сказал: господин Мазал болен. На миг захотелось мне пойти с ним. Но потом одумалась я и не пошла.
– Смотри, как странно, Тирца, – сказал мне отец, – Готлиб всегда работает и не жалуется, что детей у него нет. Кому он оставит плоды своего труда, когда призовет его Господь? – И приказал отец принести ему расчетную книгу и сел на кровать и работал до ужина. А назавтра с утра выздоровел отец и встал с ложа недуга. А пополудни он пошел в лавку, а я пошла к дому Мазала.
Постучала я в дверь, и нет голоса, и нет ответа. Подумала я: слава Богу, что никого нет. И все же не унесли меня ноги. Вдруг постучала я изо всех сил, ибо увидела, что никого в доме нет, и дерзнула рука моя.
Прошли мгновения, и сердце мое ослабело. Вдруг услышала я движение в доме, и душа моя встрепенулась. И собралась я уйти, и вышел Мазал. А Мазал укутан в накидку. Поздоровался он со мной. Потупила я очи долу и сказала: вчера приходил господин Готлиб и сказал, что сударь заболел, вот я и пришла проведать. А Мазал не отвечал мне ни слова. Одной рукой он звал меня в дом, а другая держит ворот накидки. Ноги мои подкашивались, а Мазал сказал: простите, сударыня, не могу говорить. И пошел Мазал в другую комнату. Несколько минут прошло, и он вернулся, одет в лучшие одежды, и откашлялся. И внезапно смолкла светлица, и мы двое в светлице. Поставил Мазал мне кресло перед печкой и сказал: садитесь, сударыня. И спросил меня Мазал, зажил ли собачий укус у меня на руке. Глянула я ему в лицо, и глаза мои полны слез. И Мазал взял мою руку и сказал: прости. А голос его нежный, теплый, ласковый. Понемножку прошло мое смятение. Оглядела я комнату, что знала с детства, но была она мне внове. Жар от печки обнимал меня, и дух мой ожил. Мазал подложил полено в печурку, и я поспешила ему на помощь. И в спешке простерла я руку, и упала карточка со стола, и подняла я карточку, а на ней женщина. И взгляд ее как у женщин, у которых все есть, а на лбу тревога, будто не верит в прочность счастья. Это моя мать, сказал Мазал и поставил карточку. Это единственная, потому что не снималась она с девичества, и лишь раз в девичестве снялась на фотокарточку. Много лет прошло с тех пор, и лицо ее уже не то, что на карточке, и все же лишь этот облик я храню в памяти, как будто бесследно протекло время. Тишина ли в комнате повлияла на него и отверзла уста, или я, сидящая против него в вечерний час? Мазал долго говорил, и рассказал мне Мазал житие своей нежной матушки таким образом:
Мать моя из рода Буденбахов, а весь род Буденбахов крещеный. Предок наш рабби Исраэль богаче всех в стране был, винокуренный завод у него, и поля, и села. Помогал он ведающим Тору Божью и строил домы для изучения ее. И в книгах, напечатанных в те дни, прославляется имя его, ибо дал прадед мой злато и серебро в честь Торы Божьей и ее последователей.
В те дни указ вышел: отнять у евреев их состояние. Узнал он и стал стараться, чтобы его указ не коснулся и не ушло бы его состояние. Но все его старания тщетны были. Тогда переменил он веру, и вернулись ему дом и состояние. Пришел он домой и увидел: возносит его жена утреннюю молитву. И сказал он ей: я крестился, живо бери детей и ступайте к священнику. И вознесла жена благодарение Господу, что дал нам нашу веру и не сделал нас подобными народам мира, и плюнула трижды, и молитвенник поцеловала, и встала она, и все дети ее, и переменили они веру. А потом родила она сына, и обрезал прадед сына, ибо исполнял заветы Господа, и лишь иноверцам являли они свое иноверие. И ввысь и ввысь пошли они, и дворянское достоинство получили. Но новое поколение не помнило Бога своих предков и, как прошла кара, не вернулось к Нему. Господа не убоятся и Тору и заповеди не чтят, лишь в канун Пасхи придет посланец от раввина, и продадут ему квасное,[38]38
… Продадут ему квасное… – речь идет об еврейском обычае «продавать» запасы хлеба и т. д. перед Пасхой не еврею и «покупать обратно» после Пасхи, чтобы избежать запрета на квасное, пролежавшее Пасху у еврея. Этим Акавия Мазал – и Агнон – говорят читателю, что евреи по-прежнему считали род Буденбахов евреями, несмотря на крещение. (Иначе им не нужно было бы продавать квасное).
[Закрыть] ибо иначе не пили бы евреи их хлебного вина, ибо запрещено квасное евреям и после Пасхи. А матушка – внучка младшего сына. Законы католиков учила она, но все усилия священников тщетны были. Дни продлятся, но не преисполнится ухо рассказами о всех мытарствах матушки, пока не смилостивился над ней Господь и нашла она покой в сени Его. Ибо и в монастырскую школу ее отдавали к суровым наставницам, но не шла она их путем, а задумывалась о скрытом и потаенном от нее. В то время нашла матушка портрет р. Исраэля, а он выглядел как раввин. И спросила матушка: кто это? И сказали ей: предок твой. Изумилась этому матушка. И воскликнула: а что это за локоны у него на щеках и какую книгу он читает? И сказали ей: Талмуд учит и пейсы крутит. И рассказали ей все дела деда. С тех пор ходила она как тень и ночью не стихало ретивое, но сны являлись ей. Раз явится ей дед, возьмет ее на руки, и она разгладит ему бороду, раз явится бабка с молитвенником в руках, и научит ее бабка священной азбуке, и по пробуждении записала матушка все буквицы на доске. И чудо это было, потому что до того дня не видала матушка еврейской книги.
А в дому у отца ее был молодой писарь – еврей. И сказала она ему: научи меня Божьему Завету. И сказал он: ах, не знаю я. Пока они говорили, пришел посланник раввина купить квасное на Пасху, и сказал ей писарь: поговори с ним. И поведала она ему свои мысли. Сказал тот ей: пусть придет ко мне барышня сегодня вечером и отпразднует с нами праздник Пасхи. И пришла она вечером и села за трапезу с ним и домочадцами его, и пошло сердце ее за Господом Израиля, и заповеди Его стали ей желанны. А писарь тот – мой покойный батюшка. Библии и заповедей не изучал, но Господь дал ему чистое сердце, и прилепилась к нему матушка, и вместе прилепились они к вере в Бога. После женитьбы переехали они в Вену, говоря: там нас никто не знает. И в поте лица добывал он хлеб свой, но у отца ее не брали они ничего. Понемножку привыкла матушка к своему новому положению. А батюшка работал вдвойне и никакого блага себе не позволял, чтобы я мог учиться в лучших школах и занять положение в высшем обществе благодаря науке и премудрости, ибо состояния он по смерти мне не оставил. И мнилось ему, что он лишил меня наследства, ибо не вышла бы моя матушка за него, был бы я дворянином. А матушка расчетов не ведала, любила меня, как мать – сына, во все дни жизни.
День пошел на убыль, и Мазал окончил свой рассказ и сказал: простите, сударыня, что я так разговорился. И сказала я: почему вы просите прощения, вы же мне добро сделали. Теперь буду знать, что вы меня не возненавидели за то, что раскрыли свое сердце предо мной, раз не воздержались от речей. И Мазал провел ладонью по глазам и сказал: как тебя возненавидеть? Рад я, что нашел слушательницу – поговорить о матушке, потому что соскучился я по ней. А если мало этого – расскажу еще. И Мазал рассказал мне, как пришел в город, но мамы и отца мамы не упомянул. И рассказал мне о своих трудах, ибо то, что начала матушка его, возвращаясь к Господу Богу Израиля, льстилось ему завершить возвратом к народу своему. Но они не поняли его. Чужим он был среди них, хоть он один из них, но чужд их сердцу он.
Вернулась я домой, и сердце мое полно до краев. Как у пьяного допьяна заплетались ноги мои. Луна воссияла и мой путь светом озарила.
И по пути домой думала я, что скажу отцу, рассказать ли ему все, что было у меня с Мазалом, и услышит отец и рассердится. А если промолчу, встанет стена между мной и отцом. Сейчас пойду и расскажу ему, и, если рассердится, увидит, что не скрываю я от него своих дел. И по приходе домой застала я врача: тот услышал, что болен отец, и наложила я печать молчания на уста, ибо как рассказать при чужих. И не пожалела, ибо взбодрила тайна дух мой.
Спокойной была я дома. С подружками не секретничала и приветственных писем не писала. И вот пришел письмоносец и принес мне письмо. Письмо на иврите написал мне юноша по имени Ландау. Как заблудившийся путник в бурную ночь к Божьим звездам возносит очи, писал он по Библии, так возношу я свое послание тебе, благородная и достойная дева. Письмо в моих руках, и учитель Сегал пришел на урок. И сказала я: пришло письмо на иврите. И сказал он: знаю. И рассказал мне учитель, что юноша-ученик его, сын арендатора из села.
Прошло восемь дней, и про письмо забыла я. Пошла на курсы, и вот – женщина и юноша стоят там. Когда я увидела юношу, поняла, что он написал письмо. Сказала я отцу, и он засмеялся. И сказал: деревня. И подумала я: почему юноша так себя ведет, откуда такие странные помыслы. И внезапно увидела я внутренним оком юношу и его смущение и его румянец, и пожалела я, что не ответила ему, а он, может, ждал и обиделся. И решила я: завтра напишу ему. Но не знала, что написать. И тело мое замерло от сладкого сна. Как сладок сон, когда покоятся жилы и душа равновесие обретает. Но и назавтра, и в третий день не ответила я юноше и уже думала: так и не отвечу. И вот, делаю я уроки, и перо у меня в руках, повела я пером не думая, глядь – получился ответ юноше. Лишь несколько строк я написала. Перечла я письмо и подумала: не о таком ответе он молил. И бумага не по духу была мне. И все же послала я письмо, ибо знала, что другого уже не напишу. И решила: не буду ему больше писать, потому что не лежит моя душа к писанию писем. И вот прошли дни, и нет послания от юноши, и пожалела я, что переписки не вышло. Но понемногу позабыла я юношу и письмо. А что я письмо написала – так это долг был, и я его выполнила. И однажды говорит мне отец: помнишь женщинy и юношу? И сказала я: помню. И сказал он: пришел ко мне отец юноши сговариваться насчет своего сына. И впрямь хорошая семья, и юноша образован. И спросила я отца: он придет к нам? И сказал он: не ведаю, но ответ твой мне в радость, что не таишь ты помыслы. И потупила я глаза. Господи. Ты ведаешь мои помыслы. И добавил отец: к звездочетам не пойдем и гадалок не спросим, найдет ли моя дочь суженого. И больше отец про это не говорил.
И вот вечером в воскресенье пришел отец домой, и с ним человек. И велел отец принести горячего и зажечь люстру и лечь проверил: натоплена ли. И сели они за стол беседовать.
А человек не сводил с меня глаз, и вернулась я в свою светелку заниматься рукодельем. Я шила, и тут подъехали сани и стали под окнами. И вошла ко мне Киля и сказала: гости приехали, иди в залу. И сказала я: не пойду, у меня работы много. Но Киля не отставала от меня и сказала: сегодня праздничный вечер, велел твой отец состряпать оладьи. Если так, сказала я, я помогу тебе приготовить трапезу. И сказала Киля: нет, иди в залу. Гость пришел, юноша с чудным взором. – И Готскинд там? – спросила я Килю с издевкой. – Кто? – спросила она. – Готскинд, – сказала я. – Позабыла уже его и речи его? – Ну и память у тебя, Тирца, – сказала Киля и вышла.







