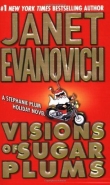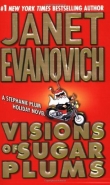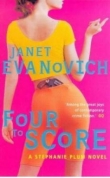Текст книги "Тигриные глаза"
Автор книги: Ширли Конран
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 4
Четверг, 2 января 1992 года
В восемь утра за завтраком в ресторане жокей-клуба на первом этаже «Ритц-Карлтон» Плам давала интервью Солу Швейтцеру из «Нью-Йорк телеграф».
Сол – небольшого роста, сухопарый и остролицый мужчина с вкрадчивыми манерами – получил указание от своего начальства не касаться творчества Плам. Газете нужен был материал общего характера для раздела очерков. Это оказалось для Сола весьма кстати, поскольку сам он был театральным критиком и подменял заболевшего сотрудника, занимавшегося живописью.
Он начал с банальных вопросов, рассчитанных на то, чтобы привести собеседника в спокойное состояние. Из каких вы мест? Кто ваши родители? Сколько раз были замужем? Какое участие принимает в вашей работе ваш нынешний муж? Сколько вы зарабатываете?
Отвечая, Плам нервничала. Из Портсмута, что на южном побережье Англии… Отец был таможенником, и жизнь семьи ничем не отличалась от жизни обычных людей в их округе… В школе преуспевала в рисовании и больше ни в чем, поэтому, когда ей исполнилось шестнадцать, она пошла в Хэмпширский художественный колледж… Бриз Рассел – ее второй муж и одновременно ее торговый агент…
Они живут в Лондоне, и Плам не имеет представления о том, сколько зарабатывает. Да, этими вещами занимается Бриз.
Плам знала, что настороженные ее ответы звучат скучно и неинтересно. Но она почувствовала, что вопросы журналиста заставляют ее как-то иначе взглянуть на прошлое, она словно в фокусе увидела свои прожитые дни, то, что лишь смутно нащупывала вчера, когда пыталась разобраться в своей жизни и понять неудовлетворенность, которая, как пар в скороварке, клокотала под поверхностью ее завидного на первый взгляд существования. Плам осознала, что прийти в согласие с настоящим можно, только разобравшись с прошлым. И, отвечая журналисту, она мысленно сама брала у себя интервью. Почему она поступила так? Почему это случилось? Почему от позволила этому случиться?
Вспоминая мотивы своих поступков, Плам знала, что альтернативы для нее в то время не существовало. Сколько ни оглядывайся назад, того, что случилось, не изменишь. Но, наверное, в том-то и была вся беда: она жила как жилось, не вмешиваясь в течение собственной жизни. Она безропотно подчинялась требованиям людей и обстоятельств. Маленькой послушной девочке, которая до сих пор жила в ней, никогда не приходило в голову пойти наперекор кому-то.
Плам, получившая при крещении имя Шейла, была в семье единственным ребенком. Филлипсы жили тихой, небогатой событиями жизнью низшей части среднего класса. Их небольшой дом с полукруглой верандой отличался безупречной чистотой и был хорошо обставлен. Для миссис Филлипс главным было мнение окружающих. Этим определялось все и вся. Надо всегда надевать панталоны – на случай непредвиденных обстоятельств на улице. Нельзя никому открывать дверь, когда на голове у тебя бигуди. Всегда надо мыть пустые бутылки из-под молока, прежде чем выставить их на крыльцо, чтобы молочник утром забрал их. Если кто-то приходит, надо, чтобы он ждал в прихожей. Любимыми фразами миссис Филлипс были: «А что подумают соседи?» и «Мы предпочитаем принадлежать самим себе», это означало, что соседей надо держать на расстоянии.
Она всегда запоминала происходившие в ее жизни события по тому, какая на ней была одежда. («Мы встречали их на той свадьбе, когда я была в коричневом кружевном»… «Это было в тот день, когда я впервые надела синее атласное платье».) Во всех, даже самых мелких вопросах Патрицию Филлипс поддерживал ее муж Дон. Это был невысокого роста мужчина с ласковым выражением лица, скрывавшим упрямый и твердый характер. Как всякий мелкий бюрократ, он делал только то, что положено, не любил принимать решения и получал удовольствие, когда видел, как трепещет перед ним подозреваемый в чем-то человек. Дом был его крепостью, где он благодушно выслушивал банальности своей жены, считавшей их достойными самого внимательного отношения. Сторонник домостроя, он никогда не старался быть тактичным, ибо считал себя честным человеком, который режет правду-матку в глаза, пусть даже это больно задевает кого-то.
Плам запомнился один рождественский обед в доме тети Гарриет. После того как была выпита первая бутылка южноафриканского шерри, отец со смешком заявил тетке, что та растолстела. Как обычно, мать попыталась сгладить неловкость, созданную словами мужа, и сказала, что Дон говорит неприятные вещи только потому, что желает добра.
– Нет, – вспыхнула тетя Гарриет, – он говорит это только ради того, чтобы сказать неприятное. К себе он не так строг. Он считает себя самым настоящим совершенством. А мне кажется, что он самое настоящее ничтожество.
Мать быстро проговорила:
– Дон, откуда ей знать тебя? Не порти себе настроение. В конце обеда, когда все поблагодарили тетю за приглашение, отец Плам спокойно заявил, что если быть честным, то надо отметить, что индейка была слишком сухой, а начинка – слишком сырой, а вот клюквенный соус удался.
– Тогда не желаешь ли добавки? – спросила тетка и вылила остатки соуса зятю на голову. Возмущенные Филлипсы поспешили домой.
Маленькая Плам, будучи наблюдательным ребенком, подмечала не только странности и противоречия в поведении взрослых. Ее интересовали самые разные вещи. Когда что-то попадало ей в руки, она подносила это близко к глазам и подолгу всматривалась… Чтобы заглянуть в самую середину нарцисса, опускалась на колени в траву, пачкая чулки. А прежде чем съесть ягодку, внимательно изучала ее со всех сторон. Мать дважды понапрасну водила ее проверять зрение.
Нежно любившая своих родителей, она научилась не докучать им. Хорошая девочка не должна лезть на колени к матери, чтобы не мять ее платье. Несмотря на природную живость характера, Плам умела быть незаметной и тихой как мышка. И никогда не шалила. Кроме одного-единственного раза. Однажды, когда ей было три года, она стащила нож и кусок мыла «Люкс». Спрятавшись под столом на кухне, Плам вырезала из него шотландского терьера, похожего на того, который рекламировал по телевидению корм для домашних животных. Его грубо сработанная кремовая фигурка несколько месяцев стояла на камине, пока у нее постепенно не расплавились лапы. После этого окружающим стало ясно, что у маленькой Шейлы художественный талант. Мать не знала, откуда у нее это, хотя тетя Гарриет, у которой тоже были рыжие волосы, считалась в их роду одаренной натурой. Когда племяннице исполнилось десять лет, тетя Гарриет назло родителям подарила ей коробку настоящих масляных красок. Забросив все остальные подарки, Плам целый день рисовала, перепачкав красками всю мебель в доме и оставив на своем лучшем платье ярко-желтые разводы. Мать заявила, что больше не потерпит такого безобразия, и закрыла краски в шкафу.
Единственным светлым пятном за все безрадостные годы учебы Плам в школе была поездка во Францию по обмену с девочками из Бордо. Плам было пятнадцать, и она беззаветно влюбилась в эту страну с ее солнцем, пищей, пахнувшей чесноком, и атмосферой всеобщей приподнятости. Девочка, которая гостила у них в доме, возненавидела дождливую погоду, еду и чопорную респектабельность Портсмута, и обмен визитами прекратился.
Год спустя, 27 мая 1971-го, в день своего шестнадцатилетия, Плам с замиранием сердца объявила, что хочет учиться на художника. Как ни странно, родители противиться не стали. Они переглянулись и согласно кивнули – шотландский терьер из кремового мыла был явным свидетельством ее художественного таланта. Тем более что ни по одному из школьных предметов она не блистала. «Отделение модельеров Хэмпширского художественного колледжа», – решила мать. Шейла будет шить для нее платья по уик-эндам – миссис Филлипс, придававшая большое значение своим туалетам, уже видела себя в обществе роскошно разодетой.
Девушки на отделении модельеров разрабатывали свадебные платья из бледно-голубой бумаги, выливая на нее ведра белил, чтобы придать пышность юбкам. Плам вскоре перешла на отделение художников, где быстро почувствовала себя на своем месте. Здесь, среди мольбертов, при ярком дневном свете, она поверила в себя и уверенно двинулась к своим идеалам совершенства. Здесь же у внешне спокойной и покорной Плам на холст вдруг стали выплескиваться какие-то иррациональные страсти, делавшие ее картины сильными, хотя несколько хаотичными.
– Пытаешься бегать, еще не научившись ходить, – говорил мистер Дэвис, ее любимый учитель. – Лучше, если ты будешь побольше писать с натуры, а для этих абстрактных штучек еще найдется время. Не поняв природы, не будешь знать, от чего абстрагироваться.
Между собой преподаватели согласились, что эта маленькая рыжеволосая девочка обладает поразительным чувством цвета и что природа наделила ее всем необходимым, чтобы стать гордостью школы. Вот только жаль, что она не мужчина.
Миссис Филлипс была не в восторге от перехода Плам на отделение художников. Озадаченная, она таращила глаза на холст, над которым Плам работала в своей спальне.
– Это коричневое пятно на зеленом означает корову?
– Нет, мам, это образное сочетание цветов. Привыкшая воспринимать все в буквальном смысле, миссис Филлипс еще раз вгляделась в картину:
– Где же здесь цветы, когда тут невозможно увидеть ни одного лепестка. Так что же это означает, милочка? Плам пожала плечами.
– Музыкальное произведение тоже ничего не означает. Оно передает настроение. Люди не сетуют на то, что Девятая симфония Бетховена ничего не означает. Я выражаю красками то, что чувствую.
– Ладно, ты же еще не закончила картину, не так ли?
– Нет, она фактически уже завершена.
– Откуда ты это знаешь?
Плам и Дженни встретились в первый же час своего первого дня учебы в колледже. Встреча произошла в покрытом белым растрескавшимся кафелем туалете, где нещадно пахло скипидаром, потому что именно здесь все мыли кисти – Почему ты не пользуешься помадой? – поинтересовалась Дженни – Не хочешь попробовать мою? – Ярко-розовая «Мэри» перекочевала в руки Плам. С этого момента девушки вместе сидели на занятиях и не расставались после них. Они вместе экспериментировали с макияжем, сидели на банановой диете и делились своими скудными познаниями в области секса. Если в детстве их интересовало, не мешают ли носы и как дышать, когда целуешься, то теперь они обсуждали то, как вести себя в постели. Несмотря на вопиющую разницу в росте – Дженни была на целый фут выше, – одевались они одинаково – в обязательные для всех студентов художественного колледжа черные джинсы и темный длинный свитер, плотно облегающий грудь без лифчика. При этом лица были напудрены до мертвенной бледности.
Первым робким проявлением непокорности родителям со стороны Плам стало изменение имени Шейла, которое никогда ей не нравилось и которое на их курсе носили еще две девушки.
Подтолкнула ее к этому шагу Дженни.
– Почему мы всю жизнь должны носить имена, которые понравились нашим родителям? Почему мы сами не можем выбрать себе имя? Давай придумаем что-нибудь пооригинальнее для тебя. Как насчет Мерседес? Петронелла? Персефона? Делайла?
Эти предложения были отклонены. Слишком длинные, вычурные и труднопроизносимые. Ни классические, ни библейские имена ее не устраивали.
Наконец Дженни сказала:
– Я знаю, что тебе подойдет – к твоим рыжим волосам!
Плам!
Родители были вне себя. Их Шейла никогда не шла против родительской воли. А это ужасное имя напоминает названия новомодных лавок – «Биба», «Шива» и тому подобное.
– Если бы знали, что ты так изменишься, мы никогда бы не послали тебя в этот художественный колледж, – вновь и вновь твердила мать. Обвинения и жалобы миссис Филлипс, как «Сто видов горы Фудзи» Хокусая, в основном всегда были одними и теми же, за исключением небольших вариаций.
Только что минувшие шестидесятые были волнующим периодом в живописи. Кружил голову поп-арт. Поп-арт взрывался тошнотворными гамбургерами Олденбурга, непочтительными флагами Джаспера Джонса, комично вытянутыми личностями Лихтенстайна с пузырями вместо ртов, противным козлом Раушенберга и бесконечными Мэрилин Уорхола, злобно пародирующими рекламу.
В Хэмпширском художественном колледже никто не хотел сидеть, из вечера в вечер копируя инертную натуру, особенно сопротивлялись первокурсники. Плам с Дженни, набравшись смелости, дружно жаловались на устаревшие методы обучения, практикуемые в их колледже. Они мечтали сесть на велосипеды и, прогнав их по лужам краски, чертить шинами шедевры на полотнах, растянутых прямо на полу. Именно так, по их мнению, творили в наиболее прогрессивных школах Лондона. Первокурсники всячески увиливали от изучения старых мастеров, предпочитая подражать модернистам. Но мистер Дэвис ненавязчиво отметал всякие проявления кубизма, формализма, минимализма и прочие «измы», как вульгарные подражания русским конструктивистам, которые были в моде лет сорок назад. «Все это теперь практикуется лишь теми, кто в свое время пропускал занятия на натуре», – добавлял он, глядя поверх очков.
В конце концов старый Дэвис добился своего, и благодаря ему они научились рисовать. Многие другие художественные школы Англии поддались веяниям шестидесятых, когда классическая манера исполнения всячески принижалась и отвергалась. Поэтому многие их питомцы впоследствии составили целое поколение художников и преподавателей, не владеющих графикой и не ведающих других классических дисциплин.
Оставаясь такими же восприимчивыми и за пределами аудитории, первокурсники с энтузиазмом приветствовали своих студенческих лидеров, которые зачастую уводили их от реальности и делали бунтарями, но подчиняющимися им в своем неподчинении всему остальному.
…Через неделю после того, как они подружились, Дженни познакомила Плам с Лулу, которую знала с детского сада. Лулу Фрайзер была на год моложе их и все еще училась в школе, но в следующем году, когда ей исполнится шестнадцать, собиралась поступать в их художественный колледж. Лулу не терпелось присоединиться к Дженни, чтобы тоже ходить во всем черном и целыми днями малевать красками.
Лулу была просто загляденье: ее матовая кожа имела розовый оттенок, светло-серые озорные глаза светились презрением к любым правилам, а буйная копна черных вьющихся волос была вызовом всем условностям. Она была довольно высокой – пять футов восемь дюймов, миниатюрная Плам считала это идеальным ростом, с завистью наблюдая, как Лулу шествует на своих длинных ногах.
Глядя на Лулу, нельзя было сказать, что она младшая в их троице. Упрямая и взбалмошная, она то и дело впутывалась во всевозможные истории, но хуже всего было то, что при этом она всегда попадалась. «Пусть мамочка порадуется», – презрительно говорила она, когда ее ловили на месте преступления. Родители Лулу были врачами – мать детский психиатр, отец – педиатр. Они работали в Центральном госпитале Портсмута.
Лулу была их приемной дочерью, и подруги находили это весьма романтичным. Однако Лулу появилась на свет не оттого, что один из королевских принцев переспал с красавицей цыганкой, хотя по ее поведению порой можно было заподозрить именно это. Лулу родилась в результате внебрачной связи женатого врача-еврея и медицинской сестры-католички. Врач, принимавший роды, стал ее приемным отцом. А женщина, ее родившая, больше никогда не видела свою дочь.
В отличие от старшего брата Денниса – тоже приемного, который был отличником и решил стать нейрохирургом еще в том возрасте, когда большинство мальчишек мечтают быть космонавтами, Лулу весело проваливала каждый экзамен в бесплатной школе, куда ее определили демократично настроенные родители. В конце концов ее исключили, и пришлось ее отдать в частную школу. Жизнь Лулу в корне изменилась, когда она победила в конкурсе местных художников, организованном Портсмутской художественной студией. Чердак их дома был немедленно превращен в мастерскую. Переполненная гордостью мать купила ей маленький мольберте красками, а отец, испытывая огромное облегчение, говорил родственникам, что у Лулу появился интерес к живописи и что зачастую это случается довольно поздно.
В конце первого семестра, выполнив вдвое больше работ, чем любой из студентов, Дженни получила премию, присуждаемую лучшему студенту. Однокашники не считали ее достойной такой награды, пусть даже это всего лишь символическая книга. Большинство преподавателей были того же мнения. Однако Дженни трудилась упорно, не в пример сокурсникам, неудержимо развлекавшимся, вырвавшись из-под родительской опеки. Дженни подсознательно ощущала, что ей недостает прирожденного таланта, и компенсировала это упорным трудом. Другие этого не могли понять.
Плам не задумывалась ни о признании, ни об успехе. Ее захватывал сам процесс создания картины. Она постоянно испытывала необъяснимое желание рисовать, хотя еще не знала, какое направление в живописи ее привлекает больше. Да этого пока не знал никто.
Плам завоевала премию по истории искусств, которая мало чем отличалась от школьного приза за успехи в освоении Священного Писания, в том смысле, что на нее никто не претендовал. Когда она вместе с классом посетила Национальную галерею, ее покорили точность и техническое совершенство живописной манеры старых мастеров. А вот в новейшем искусстве она никак не могла разобраться. Но однажды мистер Дэвис, застав ее в библиотеке с книгой под названием «Становление позднего модернизма», посоветовал ей не ломать голову над всеми этими приставками «нео», «пост» или «транс». «Все это не более чем отчаянные попытки художников показать, что они отличаются от своих предшественников, – сказал он. – К примеру, импрессионизм постоянно обнаруживается в наше время под новыми вывесками».
Незадолго до Рождества Дженни, не раз гостившая у родителей Плам, с явной неохотой пригласила ее в свой дом. Как-то отец Дженни возвратился домой неожиданно рано, и Плам сразу поняла, почему подружка не хотела приглашать ее к себе. Том Блэк работал торговым агентом в компании, поставлявшей системы центрального отопления для госпиталей, школ и других муниципальных объектов. Его эпизодические выпивки с клиентами давно уже превратились в самое обычное пьянство с утра до вечера.
Дженни – поздний ребенок и единственная дочь в семье – унаследовала внешность отца, его фигуру, его янтарные глаза и русые волосы. От него же перешла к ней та веселая общительность, что так привлекала людей.
Страшно гордившийся своей дочерью. Том Блэк, когда ему случалось бывать трезвым, говорил, что Дженни – его свет в окошке. Однако напившись – а после того, как Дженни исполнилось четыре года, это было его обычным состоянием, – отец становился непредсказуемо агрессивным и принимался читать лекцию о том, как преуспеть в жизни. Его девизом было: успех любой ценой. Едва ворочая языком, он учил ее:
– Ты знаешь, кем ты будешь, Дженни, если не добьешься успеха? Неудачницей… Твой отец становился лучшим торговым агентом южного региона три раза подряд. Поэтому ты просто обязана быть первой.
В классе Дженни первой не стала, и отец не раз хлестал свой «свет в окошке» кожаным ремнем – ради ее же блага. В конце концов Дженни стала смотреть на себя глазами отца.
По ночам, когда она слышала, как буянит отец и рыдает мать, она прятала голову под одеяло и крепко прижимала к себе игрушечного ослика, словно давая ему понять, как ей хочется, чтобы отец прекратил эти ужасные вещи, которые мужчины устраивают в темноте.
Мать Дженни – подобно многим женщинам ее поколения – относилась к своей проблеме так, как будто ее не существовало. Стыдясь мужа, она закрывала глаза на свою несчастную жизнь и делала вид, что все у нее благополучно и нормально, как у всех других. Она притворялась даже перед собственной маленькой дочерью. У нее Дженни научилась прятать свои страх и стыд и жить в постоянной лжи.
В повзрослевшей и внешне жизнерадостной Дженни по-прежнему сидел совершенно запутавшийся ребенок, который всеми силами старался не показать своей беззащитности.
Уже к концу первого семестра стало ясно, что мужчины шарахаются от Дженни как черт от ладана. Ей слишком не терпелось закрепить связь и получить все необходимые заверения на первом же свидании, так что все ее романы прекращались, даже не начавшись.
Однажды, неожиданно для всех, мать Лулу объяснила, в чем тут дело. Эта женщина мыслила необыкновенно широко и так просветила свою дочь в отношении секса, что Лулу уже в двенадцать лет могла произнести «фаллопиевы трубы" по буквам.
В тот вечер Плам была у них и помогала Лулу и ее матери с костюмом для благотворительного рождественского спектакля. Стоя на коленях и закалывая подол юбки злой ведьмы Запада, девушки обсуждали последнего из сбежавших от Дженни ухажеров. Этот морской пехотинец приятной наружности посчитал, что в девятнадцать лет ему еще рано жениться.
Стоя босыми ногами на полу, мать Лулу рассеянно сказала, словно раздумывая вслух, что проблема Дженни начинается с ее отца. Его алкоголизм убедил маленькую девочку в том, что все мужчины пугающие, непредсказуемые и ненадежные субъекты. Когда такие девочки подрастают, они ужасно боятся вновь оказаться беззащитными, позволив мужчине войти к ним в доверие и завести с ними связь, которой они, как это ни парадоксально, страстно желают.
– Акробаты и танцоры верят, что партнер подхватит их, – говорила мать Лулу, – чего нельзя сказать о неуверенной в себе женщине. Она никогда не дает выхода своей сексуальности именно потому, что не доверяет партнеру и опасается оказаться перед ним беззащитной. Она все время зажата и, не доверяясь партнеру, не отвечает ему. Поэтому я думаю, что у нее не бывает оргазмов.
Удивленная и заинтригованная, Плам слушала, как мать Лулу почти мечтательно продолжала:
– И если такая женщина вдруг вздумает, что ее счастье возможно только с одним-единственным мужчиной, ее начинает преследовать постоянный страх потерять его. Он догадывается об этом, чувствует себя словно в ловушке и пускается наутек. Вот что происходит у Дженни, она постоянно вредит себе.
– Так вот почему Дженни такая прилипала! – вскричала Лулу. – Мамочка, ты могла бы с успехом печататься в разделе «Дела сердечные» в «Портсмутских вечерних новостях».
– Нет, дорогая, они никогда бы не напечатали такое слово, как «оргазм».
Между занятиями студенты художественного колледжа сходились в шумном, обшарпанном и прокуренном кафе на углу. За центральным столиком, по традиции принадлежавшим старшекурсникам, среди гвалта, шума споров спокойно планировались вечеринки с танцами, футбольные встречи и выступления протеста. Споры часто велись вокруг флегматичной футбольной команды Портсмута, но самые острые дебаты вспыхивали по поводу того, кто оказывает наибольшее влияние на современную живопись. Студенты отстаивали своих любимцев в этой области с гораздо большей страстью, чем футбольных кумиров, особенно такие новоиспеченные эксперты, как первокурсники.
– Самый влиятельный, конечно, Пикассо, потому что он ввел коллаж, – заявила однажды Дженни.
– Металлические скульптуры Пикассо, – согласилась Плам, – ведут прямо к русскому конструктивизму и скульптуре литых форм на Западе.
– Но Дюшан демистифицировал искусство, он первый обратился к готовой фактуре, – возразил другой студент, – первый обрушился на псевдорелигиозное искусство и стал использовать обычные предметы как живописные элементы.
– А как насчет дадаистов? – вопросила девица, сидевшая рядом с Плам. – Ведь именно эта группа расчистила путь для свободного экспериментирования на всех уровнях…
Дженни презрительно фыркнула:
– Дадаисты появились под воздействием футуристов и испытывали на себе влияние кубизма, так что мы опять возвращаемся все к тому же Пикассо… О-о, посмотрите, кто идет… Джим… – Их спор резко оборвался, когда в кафе на негнущихся ногах ввалился кумир их колледжа в туго натянутых джинсах.
Джим Слейд уже третий год учился на художника-декоратора. Высокий, длинноногий и длиннорукий, он своей стройностью и поджаростью был похож на гончую. Женская половина колледжа была очарована его выразительным бледным лицом с широким тонкогубым ртом и прямым и узким носом. Его ясные серые глаза с голубоватыми белками сияли под прямыми черными бровями, сходившимися на переносице. Привлекательная наружность и мягкость манер придавали ему очарование настоящего мужчины, от которого девушек бросает в дрожь. Кроме того, Джим занимал заметное положение в колледже, будучи вице-президентом студенческого совета и организатором ежегодных комедийно-сатирических выступлений «Рэг Уик» и всевозможных видов протеста.
Дженни побледнела и, наклонившись в Плам, прошептала:
– Он идет к нам!.. Я не переживу этого!
Джим действительно двигался к ним. Для зеленых первокурсниц это было равносильно тому, что золотой бог в сверкающей колеснице спустился с небес к их ногам. Плам и Дженни были почти в обмороке, когда несмело посмотрели в серые самоуверенные глаза Джима. Великолепен, ничего не скажешь!
– Вы чем-нибудь заняты сегодня вечером, девушки? – спросил Джим намеренно грубоватым тоном рабочего человека.
Обе замотали головами, немедленно решив пропустить вечерние занятия на натуре.
– Не могли бы вы помочь мне заполнить кое-какие… конверты? – Джим был известен как непревзойденный шутник.
Девушки согласно захихикали. Джим прошествовал к своему столику.
Почему он обратил свое внимание на Плам? Его хищную натуру привлекли в ней невинность и юность, столь же соблазнительные, как розовато-лиловый налет на только что сорванной сливе, который так и хочется потрогать, пока он не исчез. И хотя Плам сама того не подозревала, она была самой прелестной девушкой на курсе.
Почему Плам немедленно и страстно влюбилась в Джима? Робко выскользнув из-под удушающей опеки отца, невинная Плам потянулась к другому самоуверенному типу, который, казалось, знал ответы на все вопросы этой жизни.
И вся она, и весь ее талант, надежды и тяга к творчеству оказались во власти Джима. Она растворилась в нем душой и телом. Он заслонил своим сияющим обликом все ее настоящее и будущее. Все в колледже завидовали тому, что она стала подручной Джима в его грандиозном проекте создания из тонны металлолома с местной автомобильной свалки масштабной модели под названием «Лос-Анджелесская автострада 16.5». Плам с ее неуверенностью в себе была загипнотизирована мужчиной, в котором было поровну самоуверенности и эгоизма.
За внешним очарованием Джима скрывалась мрачная и жестокая натура: любить такого мужчину значило полностью подчинить себя его воле. Сам же он никогда не подчинялся. Ему необходимо было постоянно убеждаться в своей власти над другим, причиняя ему боль.
Плам не могла вспомнить во всех подробностях тот новогодний костюмированный бал в колледже. Он слился для нес в круговерть воздушных шариков, пива и всеобщего ликования. Но она помнила каждую минуту их возвращения домой, сквозь снег, в стареньком «Форде», под завязку набитом студентами, которых надо было доставить домой. Когда в машине остались только Джим, Дженни и Плам, они решили подвезти сначала Дженни. Застегивая твидовое пальто, Дженни попрощалась, едва скрывая свое разочарование, и поспешила по заснеженной дорожке, придерживая многочисленные юбки.
Джим со скрежетом остановил машину у церковного двора и выключил фары. В слабом свете далекого уличного фонаря в салоне едва угадывались их силуэты. Он притянул Плам за плечи, языком раздвигая ее губы. Она еще не знала, что этот поцелуй был началом их расставания.
Джим медленно снял с ее головы шарф и так же медленно расстегнул пуговицы ее зимнего пальто. Нащупав розовый шифон платья, он быстро запустил в него руки и высвободил ее грудь.
Припадая поочередно к маленьким бледным холмикам, он ласкал и целовал до боли набухшие соски. Затем его рука скользнула под розовую шифоновую юбку. Плам почувствовала, как его пальцы добрались до верха колготок, и ощутила тревогу. Она никогда не позволяла ему заходить так далеко. Иные девушки, может быть, и идут на это в головокружительном угаре любви – как уверял ее Джим, – но она боялась того, что могло произойти: она боялась беременности.
Попытавшись остановить Джима, Плам услышала треск рвущегося шифона и почувствовала его руку на животе. Скользнув вниз, она оказалась у нее между ног. Поглаживая ее шелковистый холмик внизу живота, Джим бормотал:
– Ты же видишь? В этом нет ничего страшного… – Решительность Плам стала таять, уступая волне накатившего возбуждения.
Знающая свое дело рука вдруг двинулась дальше, и Плам услышала, как удовлетворенно хмыкнул Джим, когда почувствовал, как она возбуждена. Он прикасался к разным местам ее тела, пока одно из таких прикосновений не заставило ее выгнуться дугой и не дало ему знать, что он нашел магическую точку. Лаская ее, он словно разжигал пламя в топке, заставляя Плам парить в небесах.
Она вскрикнула, не веря происходящему, когда первый оргазм пронесся по телу:
– Я не знала… я думала, это больно… Ох, Джим, дорогой, я хочу еще!
Быстрым движением Джим, нащупав резинку, сдернул с нее колготки.
Затем он расстегнул «молнию» брюк и решительно вложил ей в руку свою пульсирующую и дергающуюся плоть, которая словно жила своей собственной жизнью. Она не знала, что ей нужно делать, но на размышления времени не было. Приближаясь вместе с ним к кульминационному моменту, она чувствовала, что ритм ее жизни ускоряется, как в кино с Чарли Чаплином. Все вот-вот должно произойти.
Джим раздвинул руками ее ноги, и маленькие бедра Плам сами рванулись к нему… Джим прижался к ее мягкому голому животу… Сейчас это случится…
Стекла в машине запотели от жаркого дыхания. Они оба не обратили внимания на стук в окно и продолжали свою бешеную погоню за плотью друг друга.
Вслед за более настойчивым стуком послышался мужской голос:
– Полиция, откройте!
– А-а-ах! Не смей открывать, Джим! – Плам безуспешно старалась высвободить могу из рулевого колеса, в то время как оба они пытались справиться с наполовину сброшенной одеждой. Она искала пальто, но не нашла его и прикрыла грудь руками.
– Если это чья-то неумная шутка, – рычал Джим, – клянусь, я сверну ему шею!
– Откройте, пожалуйста, сэр. Здесь запрещено стоять с выключенными фарами. И мне придется попросить вас проехать.
Это не было шуткой.
Позднее они проделали все без помех. Однако, пройдя этот путь до конца, Плам осталась разочарованной, не испытав такого возбуждения, как в первый раз.
Застенчивость не позволила Плам рассказать о своем разочаровании Лулу и Дженни, которые все еще пребывали в мечтательной девственности. Поэтому ей приходилось напускать на себя вид загадочного превосходства, когда подруги приставали с расспросами о том, как все было, и острить, заявляя, что у нее нет слов, чтобы описать те чувства, которые она испытывала, и что скоро они узнают это сами. Дальше она отказывалась обсуждать эту тему.