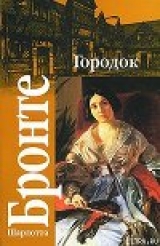
Текст книги "Городок"
Автор книги: Шарлотта Бронте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)
– Я видела его почерк, но продолжайте.
– Печать была такая красивая, что мне жаль стало ее ломать, и я вырезала ее ножницами. И вот, уже собравшись читать письмо, я еще помедлила, оттягивая минуту радости. Потом вдруг я вспомнила, что не помолилась утром; я услышала, как папа спустился завтракать чуть пораньше обычного, и, едва одевшись, тотчас сошла вниз, отложив молитвы на после и не сочтя это большим прегрешеньем (кое-кто скажет, наверное, что прежде надобно служить богу, а уж потом человеку; быть может, я верую неправильно, но вряд ли небесам вздумается ревновать меня к папе). Я, кажется, суеверна. Теперь же какой-то голос будто сказал мне, что бывают чувства иные, кроме дочерней привязанности, и что, прежде чем я осмелюсь читать заветное письмо, мне следует вспомнить о своем долге. Со мной такое бывало и раньше, сколько я себя помню. Я отложила письмо, помолилась и в конце вознесла к богу мольбу, чтоб не попустил меня никогда обидеть папу, причинить ему горе своей любовью к кому-нибудь другому. От одной мысли о такой возможности я расплакалась. И все же, Люси, я поняла, что придется открыть папе правду, уговорить его, все ему объяснить.
Я прочитала письмо. Люси, говорят, жизнь полна разочарований. Я не разочаровалась. Когда я начала читать, пока я читала, сердце мое не просто прыгало, оно чуть не выскочило у меня из груди, оно дрожало, как дрожит зверь, когда, изныв от жажды, припадает наконец к ручью, чистому, прозрачному и щедрому. В струях моего ручья играло солнце и не было ни пылинки, Люси, ни водорослей, ни букашек, ничто не мрачило его сверкающих вод. Говорят, – продолжала она, – жизнь для иных полна муки. Я читала про несчастных, путь которых ведет от одной горести к другой, надежда манит их, но только дразнит, не дается в руки. Я читала про тех, кто сеет доброе, но ничего доброго не пожинает, урожай губит порча или вдруг налетевший ураган; и зиму встречают они с пустым амбаром и умирают от горькой нужды, в холоде и тоске.
– Их ли то вина, Полина, что они умирают так?
– Не всегда это их вина. Многие из них люди добрые и работящие. Я не работящая и не очень добрая, но господь судил мне расти под теплым солнышком, под крылышком любящего, заботливого, умного отца. А сейчас сейчас ему на смену является другой. Грэм меня любит.
Несколько минут после ее признанья мы обе молчали.
– Ваш отец знает? – тихо выговорила я наконец.
– Грэм писал о папе с глубоким почтением, но дал мне понять, что покуда не задевал с ним эту тему; сперва он хочет доказать, чего он сам стоит; и еще он добавил, что должен убедиться в ответных моих чувствах, прежде чем решиться на какой-нибудь шаг.
– Как же вы ему ответили?
– Я ответила коротко, но я его не отвергла. Правда, я ужасно боялась, как бы ответ мой не вышел чересчур сердечным: у Грэма такой прихотливый вкус! Я три раза переписывала письмо, вымарывала, сокращала строки и, только уподобив свое посланье льдышке, чуть сдобренной подслащенным фруктовым соком, я решилась запечатать его и отправить.
– Превосходно, Полина! У вас тонкое чутье. Вы раскусили доктора Бреттона.
– Но как мне уладить дело с папой? Вот что меня мучает.
– А вы ничего не улаживайте. Обождите. И не поддерживайте сообщений с Грэмом, покуда отец ваш все не узнает и не даст своего согласья.
– А он его даст?
– Время покажет. Обождите.
– Доктор Бреттон писал ко мне опять, рассыпаясь в благодарностях за мою коротенькую, сдержанную записку; я же, в предвиденье вашего совета, объявила, что больше не буду писать без отцовского ведома.
– И куда как правильно сделали. Доктор Бреттон это оценит, станет еще больше вами гордиться, еще больше любить вас, если только то и другое возможно. Полина, ваш холодок, хранящий пламя в глубине, – бесценный дар природы.
– Видите, я понимаю склонности Грэма, – сказала она. – Я понимаю, что с его чувствами надо обращаться очень осторожно.
– О, вы его понимаете, вы это доказали. Но каковы бы ни были склонности Грэма, с отцом вашим вы должны вести себя честно, открыто и бережно.
– Люси, я всегда буду себя так вести. Как мне жаль будить папу от сладкого сна и объявлять ему, что я уже не ребенок!
– А вы и не торопитесь, Полина. Положитесь на Время и благую Судьбу. Я вижу, как нежно она вас ласкает; не бойтесь, она сама о вас порадеет и назначит верный час. Правда. Я тоже размышляла о вашей жизни, как и вы о ней раздумывали; мне на ум приходили те же сравненья. Будущее от нас скрыто, но прошлое сулит счастливое продолжение. Когда вы были ребенком, я боялась за вас; ничто живое не могло сравниться с вами по впечатлительности. При небрежном уходе вы не стали бы тем, что являете сейчас, и внутренний мир ваш и внешний облик были бы иными. Горе, страх, забота исказили бы и замутили ваши черты, нарушили бы их четкость, перенапрягли бы ваши нервы; вы утратили бы здоровье, веселость, приветливость и прелесть. Провидение вас хранило и холило, я думаю, не только ради вас самой, но и для Грэма. Он тоже родился под счастливой звездой; чтобы полностью развить свои способности, ему нужна такая, как вы, подруга. И вот вы вошли в его жизнь. Вы должны соединиться. Я поняла это, как только увидела вас вдвоем, на «Террасе». Вы созданы друг для друга, вы друг друга дополняете. Не думаю, что блаженная юность обоих предвестник грядущих невзгод. Я думаю, вам суждены тихие, счастливые дни не за гробом, а здесь, – удел немногих смертных. На иных судьбах есть такое благословенье; такова воля божья. Это след и свидетельство утраченного рая. Другим суждены иные тропы. Других путников встречает переменчивая, злая, лихая погода, грудью прокладывают они себе путь против ветра, но их застигает в поле суровая зимняя ночь. Ни то, ни другое невозможно без произволенья господня. И я знаю: где-то кроется тайна его последней справедливости. На всех сокровищах его стоит проба, и это обетование милости.
Глава XXXIII
МОСЬЕ ПОЛЬ ИСПОЛНЯЕТ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ
Первого мая всем нам, т. е. двадцати пансионеркам и четырем учительницам, было велено подняться в пять часов утра, а к шести одеться, приготовиться и предоставить себя в распоряжение мосье профессора Эманюеля, дабы он вывел наши сомкнутые ряды из Виллета, ибо в этот день нам был обещан завтрак на лоне природы. Правда, я, как, верно, помнит читатель, сначала не удостоилась чести приглашения; скорей наоборот; однако, когда я намекнула теперь на это обстоятельство и пожелала узнать, как же мне все-таки быть, ухо мое претерпело такой щипок, что я не отважилась, вновь подвергаясь опасности, чересчур рьяно допытываться совета.
– Je vous conseille de vous faire prier,[381]381
Советую вам принять приглашение (фр.).
[Закрыть] – сказал мосье Эманюель, властно угрожая другому моему уху. Наполеоновский прием оказал на меня свое действие, и я решилась отправиться со всеми.
Утро было спокойное и ясное, птицы пели в саду, а легкий росистый туман предвещал зной. Все сочли, что будет жарко, с радостью отложили тяжелые одежды и оделись под стать солнечной погоде. На всех были свежие ситцевые платьица и соломенные шляпки, изготовленные ловкими, несравненными руками француженок, умеющих сочетать предельную простоту с совершенным изяществом. Никто не красовался в блеклых шелках; никто не блистал убогой роскошью.
В шесть часов радостно прозвенел колокольчик, и мы высыпали на лестницу и спустились в вестибюль. Там нас уже ждал наш профессор, но не в диком своем всегдашнем сюртучке и феске, а в молодящей подпоясанной блузе и лихой соломенной шляпе. Он припас нам приветливейшее «с добрым утром» и в ответ получил почти от всех благодарственные улыбки. Нас построили и торжественно вывели.
Улицы еще не проснулись, а бульвары тянулись тихие и свежие, как поля. Кажется, всем нам было очень весело по ним шагать. Наш предводитель умел, когда хотел, вызвать счастливое настроение; зато, будучи не в духе, он точно так же умел внушить тоскливый страх.
Он не возглавлял и не замыкал шествия, но шел с нами рядом, каждой дарил словечко, больше болтал с любимицами, но не забывал и опальных. Я решила – и не без причины – держаться подальше от его глаз и шла в паре с Джиневрой Фэншо, предоставив этому отнюдь не бесплотному ангелу повиснуть на моей руке (Джиневра пребывала в отличной форме, и смею уверить читателя, мне было не так-то легко влачить бремя ее прелестей; не раз в продолжение жаркого дня мне отчаянно хотелось, чтобы вместилище ее чар весило поменьше), но идя, как я уже сказала, с нею в паре, я норовила извлечь из нее пользу и то и дело подсовывала ее мосье Полю, как только слышала его шаги справа либо слева от меня. Тайной причиной таких маневров являлось мое новое ситцевое платьице, пронзительно розовый цвет которого, из-за характера нашего конвойного, ставил меня сейчас приблизительно в такое же положение, как тогда, когда мне пришлось в шали с красной каймою пересечь луг под самой мордой у быка.
Сперва с помощью ловких перемещений и черного шелкового шарфа я успешно достигала своей цели; но вот мосье Поль обнаружил, что, как ни подойди, он неизменно оказывается рядом с мисс Фэншо. Взаимоотношения их не сложились столь благоприятно, чтобы победить отвращенье профессора к ее английскому акценту. Они вечно вздорили; стоило им сойтись на минутку, они тотчас сердили друг друга; он считал ее пустой и жеманницей, она его – неотесанным, докучливым, несносным.
Наконец, переместившись в шестой раз и с тем же неблагоприятным результатом, он вытянул шею, заглянул мне в глаза и спросил рассерженно:
– Qu'est ce que c'est? Vous me jouez de tours?[382]382
Что это еще такое? Вы шутки со мною шутите? (фр.)
[Закрыть]
Не успел он произнесть эти слова, как с обычной своей быстротой соображения уже понял мои побудительные причины – напрасно я изо всех сил натягивала на себя шарф.
– Ах! C'est la robe rose![383]383
Это розовое платье! (фр.)
[Закрыть] – слетело с его уст и коснулось моего слуха, словно гневное мычанье некоего повелителя лугов.
– Да это же ситец, – взмолилась я, – он дешевый, и цвет это не маркий!
– Et Mademoiselle Lucie est coquette comme dix Parisiennes, – возразил он. – A-t-on jamais vu une Anglaise pareille? Regardez plutot son chapeau, et ses gants, et ses brodequins![384]384
А мадемуазель Люси кокетлива, как десять парижанок. Виданы ли такие англичанки? Поглядите-ка, какая у нее шляпка! А перчатки, а башмачки! (фр.)
[Закрыть]
На самом деле все это у меня было ничуть не нарядней, чем у моих товарок, а даже куда проще, чем у большинства из них, но мосье уже сел на своего конька, и я заранее злилась в ожидании проповеди. Грозу, однако ж, пронесло, как и подобало в такой ясный день. Обошлось лишь вспышкой молнии то есть насмешливо сверкнули его глаза, – и он тотчас сказал:
– Courage! – a vrai dire je ne suis pas fache, peutetre meme suis-je content qu'on c'est fait si belle pour ma petite fete.
– Mais ma robe n'est pas belle, Monsieur – elle n'est que propre.
– J'aime la proprete,[385]385
– Смелей! Честно говоря, я нисколько не сержусь, может быть, мне даже приятно, что для моего маленького праздника так вырядились.
– Но платье мое ничуть не нарядное, мосье, оно только что опрятное.
– Я люблю опрятность (фр.).
[Закрыть] – возразил он. Положительно, его сегодня было не сбить с веселого тона; на нынешнем благом небе сияло солнце безмятежности, и если на него набегали легкие тучки, оно тотчас их поглощало.
Но вот мы уже добрались до лона природы, что называется, «les bois et les petits sentiers».[386]386
Лесов и тропок (фр.).
[Закрыть] Лесам этим и тропкам через месяц суждено было запылиться и выцвесть, но теперь, в мае, они сияли яркой зеленью и сулили приятный отдых.
Мы дошли до источника, обсаженного во вкусе Лабаскура аккуратным кружком лип; здесь был объявлен привал; нам приказали приземлиться на зеленом валу, окружавшем источник, мосье сел посередке и милостиво предоставил нам обсесть его со всех сторон. Те, что любили его больше, чем боялись, сели поближе, это были самые маленькие ученицы; те, что больше боялись его, чем любили, остались в сторонке, те же, в ком привязанность сообщала даже остаткам страха приятное волненье, держались дальше всех.
Он начал рассказывать. Рассказывать он умел хорошо, тем языком, который любят дети и так стремятся превзойти ученые мужи, языком простым в своей выразительности и выразительным в своей простоте. В его повести были прекрасные находки, нежные проблески чувства и штрихи в описаниях, запавшие мне в память, да так из нее и не изгладившиеся. Он набросал, например, картину сумерек, – я все ее помню и таких красок не видывала ни у одного художника.
Я уже говорила, что сама обделена даром сочинять на ходу; быть может, мой недостаток особенно побуждал меня восхищаться тем, кто владел этой способностью в совершенстве. Мосье Эманюель не писал книг; но я слышала, как он с беспечной щедростью расточал такие духовные богатства, какими редкая книга может похвастаться; его ум служил мне библиотекой, доставлявшей много радости. При недостаточной образованности я мало читала, толстые томы нагоняли на меня тоску, частенько усыпляли меня – но эти фолианты изустных мыслей были глазными каплями для внутреннего зренья; ими оно усиливалось и прояснялось. Я подумывала о том, с каким бы счастьем кто-то, движимый любовью к нему (которой самому ему не хватало), мог собрать все эти разбрасываемые по ветру золотые россыпи.
Окончив рассказ, он подошел к холмику, на котором сидели мы с Джиневрой. По обычаю своему не дождавшись, пока ему добровольно выскажут сужденье, он спросил:
– Вам было интересно?
Я, как всегда не ломаясь, ответила:
– Да.
– Хорошая история?
– Очень хорошая.
– А вот не могу ее записать, – сказал он.
– Отчего же, мосье?
– Я ненавижу физический труд. Сидеть, гнуться над бумагой… Я бы с удовольствием диктовал переписчику. Согласились бы вы, мисс Люси, послужить мне в этой роли?
– Боюсь, вы станете торопиться, понукать меня и бранить, если мое перо не угонится за вашим языком.
– Как-нибудь попробуем. Посмотрим, каким чудищем сделаюсь я в этих обстоятельствах. Но теперь не о диктовке речь; я хочу от вас иной услуги. Видите вон тот дом?
– Среди деревьев? Вижу.
– Там мы и позавтракаем; и покуда добрая фермерша будет готовить нам кофе с молоком, вы и еще пятеро, которых я выберу, должны намазать маслом полсотни булочек.
И снова выстроив нас сомкнутыми рядами, он повел нас к ферме, которая, при виде наших сил, тотчас сдалась без боя.
В наше распоряжение предоставили чистые ножи и тарелки, и мы, по выбору нашего профессора, вшестером принялись мазать к завтраку огромную корзину булочек, которые хозяин заранее заказал булочнику, предвидя наше вторженье. Уже согрели кофий и шоколад; пир дополнили сливки и свежеснесенные яйца. Щедрый мосье Эманюель хотел было вдобавок заказать «jambon u confitures»,[387]387
Ветчину и варенье (фр.).
[Закрыть] но многие дерзко восстали против такой бессмысленной траты продуктов. Он обрушил на нас град обвинений, называл «menageres avares»,[388]388
Скупыми хозяйками (фр.).
[Закрыть] мы с ним не спорили, однако ж распорядились по-своему.
Какое доброе было у него лицо, когда он стоял у кухонной плиты на ферме! Он принадлежал к числу тех людей, которые радуются, доставляя другим радость. Оживленье, веселье вокруг заражали его. Мы спросили, где он намеревается сесть. Он отвечал, что он раб наш, а мы его повелительницы, и он не осмеливается сам выбрать себе место. И тогда мы его усадили в большое кресло хозяина во главе стола.
До чего же мило он порой себя вел, при всей необузданной вспыльчивости своего характера, каким умел быть кротким, послушным! Несносен же он бывал не из-за дурного нрава, а из-за раздражительности нервов. Успокоить его, понять, утешить, – и он становился овцой; такой мухи не обидит. Только самым глупым, испорченным, черствым натурам следовало опасаться мосье Поля.
Всегда помня о вере, он велел самым маленьким помолиться перед завтраком и истово, как женщина, перекрестился. Раньше я никогда не видела, чтоб он крестился или молился. Жест его был полон такой простодушной детской веры, что, глядя на него, я не удержалась от ласковой улыбки; он перехватил ее взглядом и тотчас протянул ко мне руку со словами:
– Donnez moi la main![389]389
Дайте руку! (фр.)
[Закрыть] Я вижу, при разнице обрядов, мы поклоняемся одному богу.
В отличие от мосье Эманюеля учительская братия обычно воспитана в духе свободомыслия и безверия; и у многих жизнь небезупречна; он же, старомодно религиозный, не давал никакой пищи придирчивой молве. Доверчивому детству и прекрасной юности было покойно под его крылышком. Пылкий и увлекающийся, он, благодаря чувству чести и набожности, успешно разгонял всех злых духов.
Завтрак прошел весело, но не в одной пустой болтовне. Общим весельем руководил и управлял мосье Поль. Никогда еще не видела я его таким непринужденным. Среди детей и женщин он чувствовал себя как рыба в воде. Ничто не раздражало его и ему не мешало.
Отзавтракав, все разбежались по лугам, только кое-кто остался помочь жене фермера убрать со стола, и я в том числе. Скоро мосье Поль подозвал меня и попросил ему почитать. Он устроился под деревом, откуда ему хорошо были видны резвящиеся в траве девчонки. Он сидел на лавочке, а я села прямо на корни. Покуда я читала (карманное издание Корнеля, мне он вовсе не понравился, зато нравился профессору, который находил в нем красоты, мне решительно незаметные), он слушал спокойно и блаженно и вся поза его говорила о состоянии, совершенно отличном от обычной порывистости, в синих глазах сияла радость, высокий лоб разгладился. Мне тоже было радостно оттого что день так хорош, оттого что мосье Поль рядом, оттого что он так мил со мною.
Потом он спросил, отчего я не бегу к своим товаркам. Я отвечала, что мне нравится быть с ним рядом. Он спросил меня, сидела ли бы я с ним часто, будь я его сестрой? Я отвечала, что, верно, сидела бы с таким братцем. И я сказала правду. Потом он спросил, огорчусь ли я, если ему придется покинуть Виллет. И тут я уронила Корнеля и ничего не ответила.
– Petite soeur,[390]390
Сестричка (фр.).
[Закрыть] – сказал он, – долго ль будете вы помнить меня, если мы расстанемся?
– Этого я не могу сказать, мосье, оттого что не знаю, долго ль мне суждено еще помнить все земное.
– Если я уеду за море на два-три, на пять лет, обрадуетесь ли вы моему возвращенью?
– Но как же, мосье, мне жить в промежутке?
– Pourtant j'aiete pour vous bien dur, bien exigeant.[391]391
Я ведь был с вами требователен и груб (фр.).
[Закрыть]
Я спрятала лицо за книгой, чтоб он не видел моих слез. Я спросила, зачем он так говорит. И он обещал, что больше так говорить не станет, и постарался меня ласково ободрить. Однако доброта, с какою он обращался ко мне потом в продолжение всего дня, давила мне на сердце. Она была слишком нежной. Она меня печалила. Уж лучше б он был резок, капризен и язвителен, каким я привыкла его видеть.
С наступленьем жаркого полудня – ибо день выдался, согласно нашим ожиданьям, знойный, как в июне, – пастырь наш созвал с пастбища своих овец и вознамерился вести их в обратный путь. Но нам предстояло отмахать целую лигу, потому что ферма, на которой мы завтракали, стояла далеко от Виллета; дети устали от игр; многие пали духом при мысли о кремнистой, раскаленной и пыльной дороге. Но профессор это предвидел. Сразу же за фермой нас ждали два поместительных экипажа, из тех, какие обычно нанимают для школьных экскурсий; всем нашлось место, и час спустя мосье Поль в полной сохранности доставил своих подопечных на улицу Фоссет. День прошел приятно; он был бы еще приятней, если б не легкая тучка, на минуту омрачившая его ясную лазурь.
Вечером эта лазурь снова замутилась.
На закате я увидела, как мосье Эманюель вышел через парадную дверь вместе с мадам Бек. Чуть не битый час они бродили по главной аллее, серьезно беседуя. Он казался расстроенным, но на чем-то настаивал, она возражала, убеждала, не соглашалась.
Я подивилась, о чем бы мог идти спор; и когда стемнело и мадам Бек вернулась в комнаты, оставя своего родича Поля бродить по саду, я сказала себе: «Он назвал меня утром «petite soeur». Если б и вправду он был моим братом, неужто я не побежала б сейчас к нему спросить, какая у него на душе забота? Бедный! Как печально прислонился он к дереву! Он нуждается в утешении, я знаю. Мадам не может утешить, она умеет только пенять. Что же мне делать?»
Мосье Поль недолго оставался неподвижным. Вот он снова выпрямился и зашагал по саду. Двери carre были открыты; я подумала, что он хочет, по своему обыкновению, полить апельсинные деревца в кадках. Однако, дойдя до самого входа, он резко повернул и направился к стеклянной двери старшего класса. Там-то, в старшем классе, и сидела я, наблюдая за ним, но мне недостало смелости спокойно дождаться, когда он переступит порог. Он повернул так внезапно, так быстры были его шаги, весь вид его так странен. Трусливая часть моего существа одержала верх, и, услышав, как хрустит под его ногами гравий и как шуршат при его приближении кусты, – я выскочила из класса и метнулась прочь что было духу.
Остановилась я, лишь найдя прибежище в часовне, пустой в этот час. Там я стояла одна и с безотчетным замиранием сердца слушала, как он прошел по классам, изо всех сил хлопая дверьми. Я слышала, как он ворвался в столовую, где учениц томили сейчас lecture pieuse.[392]392
Благочестивым чтением (фр.).
[Закрыть] Я слышала, как он произнес:
– Ou est Mademoiselle Lucie?[393]393
Где мадемуазель Люси? (фр.)
[Закрыть]
И в тот самый момент, когда я собрала всю свою смелость, готовясь спуститься и, наконец, осуществить свое самое горячее желание – то есть увидеть его, подойти к нему и заговорить, – фальшивый голос мадемуазель Сен-Пьер как ни в чем не бывало ответил:
– Elle est au lit.[394]394
Она в постели (фр.).
[Закрыть]
И раздраженно топнув ногой, он выскочил в коридор. Там встретила его мадам Бек, завладела им, распекла, довела до входной двери и наконец отпустила.
Только когда входная дверь хлопнула, меня вдруг поразила несуразность собственного моего поведения. Я же сразу поняла, что именно меня он ищет, что я нужна ему. А мне – разве не был он нужен? Отчего я убежала? Что унесло меня с его пути? Он собирался мне что-то сказать, он шел ко мне это сказать, я рвалась его выслушать, и вот – уклонилась от его откровенности. Стремясь выслушать и утешить, я считала свое желание неосуществимым, а когда возможность вдруг представилась, я бросилась от нее прочь, как от горного обвала.
Глупость моя была достойно наказана. Вместо утешения, радости, какие я получила бы в награду, сумей я победить нелепое смятенье и спокойно подождать две минуты, я обрела лишь мрачные сомнения и терзания неизвестности.
Это горькое достояние я подсчитывала всю ночь.








