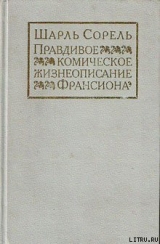
Текст книги "Правдивое комическое жизнеописание Франсиона"
Автор книги: Шарль Сорель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Прибавьте к сему еще худшую обиду: те, кто знал о моем происхождении, обращались со мной не лучше. Маленькие негодяи, сыновья горожан, коих я знал по школе и нередко держал в подчинении, встречая меня на улице, притворялись, будто никогда не имели со мной ничего общего; когда же я, к величайшему своему унижению, кланялся им, дабы возобновить старинное знакомство, они только дотрагивались до шляпы, да и то почитали это для себя великим затруднением, так кичились они тем, что ходят в шелку и держат лакеев, одетых лучше меня. Я навестил тех, кто казался мне подоступнее и с кем я прежде поддерживал более близкие отношения. Правда, они оказали мне у себя дома довольно хороший прием, будучи вынуждены к тому правилами вежливости; но никто из них и не подумал отдать мне визит, почитая для себя слишком унизительным посещать человека, находившегося в таком неважном положении и, как им казалось, только позорившего их своей дружбой.
Встречаясь с лицами, спорившими на какую-нибудь тему, где я мог показать плоды своих занятий, испытывал я не меньше неприятностей, ибо не смел раскрыть рот, зная, что дурное мнение, которое они составили себе о моей особе, побудит их отнестись с презрением к моим речам; когда же я пытался затеять какой-либо разговор, то меня не слушали, а некоторые даже нагло прерывали.
Между тем одежда моя с каждым днем все больше изнашивалась, и я так часто обнаруживал на ней новые раны, что уже не знал, чем тут пособить. Все мои деньги давно ушли на уплату хозяину за постой и харчи, и у меня не оставалось ни гроша, чтоб купить материю для новой починки штанов и камзола. Я закалывал булавками отпоровшиеся полы и носил дрянные эгильетки, заменявшие мне обтрепавшиеся пуговицы. Хотя плащ мой тоже никуда не годился, однако же я всегда старался завернуться в него со всех сторон, дабы прикрыть прочие прорехи. В конце концов мне даже снова пришлось надеть свой траурный камзол, ибо он оказался лучше серого.
Обиды, претерпеваемые мной в тогдашнем моем положении, были мне весьма чувствительны, и, дабы избежать их. я оказался вынужден просидеть всю зиму дома. О, сколь жестока была эта пытка! Ибо незадолго перед тем увидал я одну юную очаровательницу, стоявшую на пороге своего дома, неподалеку от улицы Сен-Жак, и она одержала такую победу над моей независимостью, что я не переставал вздыхать о ней. Но к чему? Что мог я предпринять, даже если бы вышел из дому? Любовь – смертельный враг бедности: я не посмел бы показаться на глаза Диане (так звали царицу моего сердца). Дли итого надо было одеться совсем иначе, ибо вид мой мог произвести на нее неблагоприятное впечатление. В своем уединении я только то и делал, что мечтал о ней; сколь сие ни безумно, но мне доставляло известное удовольствие простаивать целые вечера перед ее домом, хотя трудно было придумать что-либо бесполезнее этого занятия.
Если бы в ту пору я пожелал приобщиться к ремеслу некоторых мошенников из городских школяров, с коими перед тем свел знакомство, то сумел бы одеться без особых затрат, ибо всякую ночь они занимались похищением плащей на отдаленных улицах; но я никогда не смог решиться на то, чтоб унизить свое мужество до столь подлого поступка. Меня больше прельщало общество некоторых искателей философского камня, обещавших мне золотые горы дозволенными и почетными путями. Но в конце концов я перестал общаться и с ними, опознав в них продавцов воздуха, да и им тоже наскучило со мной хороводиться, ибо взять с меня было нечего, и плутни их теряли всякий смысл. Вначале я оказался по меньшей мере таким же хитрецом, как они, и поддерживал в них надежду, будто вскоре получу с родины знатную сумму и помогу им из этих денег приобрести все, что нужно для их тайнодействий; я подбил их научить меня многим секретам белой магии, кои уже имел случай пустить в ход при разных обстоятельствах: вот польза, какую я извлек из знакомства с ними.
После того предался я другому занятию. То была французская поэзия, чары коей с тех пор никогда не переставали меня прельщать. Обычным моим развлечением стало сочинять стихи об отвращении, питаемом мною к подлости нашего века, и о любви моей к прелестной Диане. Но, боже, что это были за творения по сравнению с теми, что я мог бы сейчас написать! Все они отдавали школярским духом и не блистали ни лоском, ни здравомыслием; но клянусь вам, что в ту пору я не успел еще прочесть ни одного порядочного произведения, и сочинители, от коих мог бы чему-нибудь научиться, были мне неизвестны, как по моей нерадивости, так и по другим причинам; таким образом, моим творчеством надлежало восхищаться не менее, чем творениями певцов древней Греции, у коих мы находим столько крупных промахов, ибо руководствовались они только своей поэтической жилкой и не имели перед собой никаких образцов; а ведь ни одна вещь не может быть одновременно и изобретена и доведена до совершенства.
Не правда ли, ни в какие времена не было столь очевидно, как теперь, что музы любят селиться в обиталищах бедноты? Редко когда приходится встречать богача, который возымел бы желание сочинять стихи: ведь обладание крупными имущественными благами побуждает людей лениться и пренебрегать благами духовными. Между тем ничто так не веселит нашего разума, как поэзия, и занятие ею создает великое отличье между нами и животными.
Увы! В ту самую пору лишился я всех надежд, давно взлелеянных в душе. Я рисовал себе будущие свои похождения по образцу жизнеописаний великих мужей, мною прочитанных, и, полагаясь на свою доблесть и на склонность подражать всему достойному, твердо уповал на то, что меня постигнет такая же судьба, как и их. О, сколь я был слеп, не замечая бесконечных препятствий, могущих воспротивиться моим успехам, хотя бы я превосходил мужеством даже древних рыцарей!
Если бы я не изливал ярости своего гнева на бумаге, то впал бы в беспримерное отчаяние. Но посудите, ради бога, какое чудо! Разве оно не поразительно и разве не исцелило оно меня вопреки законам природы? Описав свой недуг, я уже не страдал от него в такой же мере, как прежде, хотя видел перед собой откровенное изображение самых сильных его приступов. Какой глупец станет ныне отрицать, что Аполлона почитали богом медицины в такой же мере за исцеление опаснейших ран при помощи своих стихов, как и при помощи трав, взращиваемых им, когда он принимает на себя сан солнца, дабы оплодотворить землю.
Франсион довел свою историю до этого места, но тут учтивый хозяин пожал ему руку и сказал:
– На сей раз довольно, становится уже поздно. Меня будет мучить совесть за то, что вы так утомляете себя рассказом.
Прервав его повествование этими словами, он пожелал перед уходом еще немного с ним побеседовать и сказал, что Франсион был неправ, желая опустить рассказ о своих приключениях с педагогами и тем лишить его удовольствия. Затем он продолжал так:
– Государь мой, вы претерпели немало мук из-за украденных у вас денег. Если не ошибаюсь, вы говорили, что похитил их какой-то Ремон. Очень ли вы на него сердились?
– Еще как, – отвечал Франсион, – даже теперь, когда вспоминаю беды, перенесенные мною из-за этого человека, гнев мой разгорается пуще прежнего; поступок же его мне еще потому особенно противен, что, как мне доподлинно известно, этот Ремон принадлежит к одному из знатнейших и богатейших родов во Франции.
Но тут сеньор замка сказал каким-то странным тоном, коему трудно было найти объяснение, что, может статься, этот Ремон похитил деньги ради любовных дел или по необходимости, дабы развязать себе руки и отправиться во Фландрию без ведома родителей, но что если Франсион все же ему не прощает, то может справиться, нет ли его в Бургундии, и вызвать на дуэль. На это Франсион ответил, что станет всеобщим посмешищем, если обнаружит свою досаду по поводу столь давних обид. Желая тем не менее доставить ему удовлетворение и сообщить, что сталось с похитителем его денег, дворянин обещал осведомиться, находится ли в Бургундии или где-либо в окрестностях вельможа, носящий или носивший имя Ремон. Вслед за тем он пожелал ему доброй ночи и попросил приготовиться к тому, чтобы на другое утро досказать остальные свои похождения; затем он отправился спать, весьма довольный тем, что ему удалось услышать о столь разнообразных вещах, из коих иные были поучительны для очень многих; ибо хотя не все люди – педанты, однако же поступки педанта Гортензиуса присущи не ему одному, и найдется немало таких, которые совершают точно такие же. Франсион, кроме того, обличил откровенно глупость народа, уважающего только тех, кто хорошо одет, и особенно наглость придворных, почитающих себя выше горожан, каковые нередко превосходят их своими достоинствами. Он упомянул также о заблуждениях молодежи, дурно воспитываемой вдали от родителей; однако же надлежит повсюду отметить благородство мыслей Франсиона, никогда его не покидающее. Тот, кого он занимал сими прелестными приключениями, мог вдосталь пораздумать над ними на сон грядущий и получить от них совершенное удовольствие. Мы сможем поступить так же, если у нас хватит умения применить их себе на пользу. Далее мы увидим дурачества современных поэтов и сочинителей, отменно описанные. Будет также уделено место проказам, учиняемым молодежью под влиянием любви, и среди них встретятся забавные акты комедийного действа, из коих читатель извлечет для себя развлечение и поучение,
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ
КНИГА V
КОГДА СОЛНЦЕ ПРИВЕЛО ОБРАТНО ДЕНЬ, владелец замка, уже совершенно одетый, не преминул самолично справиться о том, хорошо ли почивал Франсион, намереваясь одновременно узнать, когда гость его сможет закончить рассказ о разнообразных своих приключениях. Не желая терять времени, они сократили взаимные приветствия. Хотя Франсион и чувствовал значительное облегчение от болей, причиняемых ему раной на голове, однако же было положено, что он проведет весь сей день в постели, дабы он мог восстановить силы; а потому он и не сделал никакой попытки встать и продолжал нить своего рассказа так, как вы сейчас услышите.
– Государь мой, мы остановились вчера на удовольствии, доставляемом мне поэзией; возвращаясь к этой теме, должен вам сказать, что я раздобыл несколько довольно вылощенных сочинений, по образцу коих затем стал составлять свои; мне даже указали одну совсем новую книгу весьма прославленного автора, каковую я решил купить, дабы научиться по ней, как надлежит писать в духе века, ибо простодушно признавал, что ничего в этом не смыслю. Узнав, что книготорговец, продававший это сочинение, живет на улице Сен-Жак, я направил туда свои стопы, и поскольку любознательность моя была там известна, то мне не преминули показать множество французских книг, о коих я никогда не слыхал. У меня не было достаточно средств, чтоб приобрести весь этот ворох, а потому я купил только те, коими положил обзавестись в первую очередь, да и то пришлось мне занять денег на этот расход. Однако же я не упустил случая доставить себе удовольствие и принялся перелистывать все книги, находившиеся на прилавке, а тем временем зашел туда высокий молодой человек [113] [113] По мнению биографов, в образе этого поэта, фигурирующего в дальнейшем под именем Мюзидор, Сорель изобразил Оноре л'Ожье де Поршера (ок. 1566 – 1653). Принцесса де Конти, плененная мадригалом, в котором поэт воспел глаза мадам де Бофор, выхлопотала ему королевскую пенсию в размере 12 тысяч экю в счет будущих стихов для балетов и других развлечений, что позволило Поршеру с высокопарным комизмом именовать себя «интендантом ночных развлечений».
[Закрыть], тощий и бледный, с блуждающим взором и наружности весьма необыкновенной; одет он был крайне убого, и мне нечего было опасаться его насмешек, а посему я продолжал без стеснения разговаривать при нем с книготорговцем, не смущаясь тем, что он меня слушает.
– Скажите, – спросил я, – существуют ли теперь люди, подвизающиеся с успехом на поприще поэзии? Я всегда полагал, что такие совсем перевелись, да и, по-видимому, редко кто в наш век забавляется рифмоплетством.
– О как вы заблуждаетесь! – воскликнул книгопродавец. – Разве я не показал вам только что замечательных произведений, сочиненных ныне здравствующими авторами? Но, может быть, вы не поклонник новой манеры писать, усвоенной этими господами, и предпочитаете старинную и грубую поэзию?
– Что касается меня, – возразил я, – то не берусь вам сказать, сочиняют ли теперь лучше или хуже, нежели в прежние времена, а когда сам кропаю стихи, то не могу определить, написаны ли они по новой моде или в античном духе.
Тут молодой человек повернулся в мою сторону и, обнажив добрую половину своих зубов, отнесся ко мне с недоброжелательной усмешкой:
– Вы, как я слышу, сударь, пишете стихи?
– Я сочетаю слова со словами на темы, которые приходят мне в голову, – отвечал я, – но подбираю их так плохо, что не знаю, можно ли назвать это поэзией.
Тогда он возразил мне, что я говорю так только из самоуничижения, и попросил показать ему что-нибудь из моих произведений. Я сказал, что не решусь это сделать, ибо едва ли соблюл в них современные правила, о коих не имею ни малейшего понятия.
– В таком случае, – заявил он, – я скажу вам дружески свое мнение о них, и вы, вероятно, будете рады, что со мной посоветовались, ибо в Париже не найдется и трех человек, которые могли бы судить о стихах лучше меня.
После того как и эти доводы не убедили меня исполнить его просьбу, он распрощался со мной, сунув под плащ две или три книги, за каковые ничего не заплатил книгопродавцу, что побудило меня спросить последнего, отпускает ли он ему товар в долг.
– Нет, – отвечал тот, – я даю ему заимообразно и вынужден поступать подобным образом с целой кучей таких же сочинителей, как он, приходящих ежедневно в мою лавку, дабы поведать друг другу свои творения; здесь устраивают они важнейшие свои собрания, так что нет во Франции места, которое бы с большим правом могло быть названо Парнасом.
– Какую прибыль извлекаете вы из этих совещаний? – спросил я.
– Только ту, что они берут у меня книги и их не возвращают, – сказал он, смеясь.
– На вашем месте я вышвырнул бы таких клиентов, – заметил я.
– И не подумаю, – возразил он, – ибо среди них всегда найдется один какой-нибудь, который поручит мне напечатать свою рукопись, а кроме того, благодаря им растет слава моей лавки.
Вслед за тем я стал расспрашивать его о всех современных поэтах, каковых он мне тут же назвал, сообщив также, что тот, кого я перед тем видел, был одним из самых прославленных. Кроме того, желая мне услужить, книгопродавец обещал, что если я принесу ему какое-нибудь свое стихотворение, то он, не выдавая имени автора, покажет его этим людям, дабы узнать, какие в нем недостатки. Мне очень хотелось научиться писать та«, чтоб угодить всеобщему вкусу, и это побудило меня согласиться на его предложение и вручить ему на следующий же день одно из своих произведений, почитавшееся мною за лучшее. Он показал его этим людям, и они нашли в нем чуть ли не столько же погрешностей, сколько там было слов. Мой книгопродавец любезно все их отметил, а это послужило мне предостережением, ибо, убедившись, что поэты правы, я решил впредь не впадать в те же ошибки.
И в самом деле, их правила стремились лишь к тому, чтоб придать стихам больше легкости и осмысленности: а кто не хотел бы, чтоб поэзия достигла этих совершенств? Правда, мне скажут, что писать стихи по правилам трудно и неудобно; но если их вовсе не соблюдать, то всякий начнет соваться в это дело, и искусство опошлится.
Спустя короткое время я постиг все правила как нельзя лучше, ибо часто заходил в книжную лавку, где беседовал с поэтами; потершись об их плащи, я быстро понял, как надо сочинять: с тех пор они уже не находили у меня ошибок, за исключением двух или трех раз, а я, считаясь с этими недочетами, воздержался от других, более грубых. Впрочем, не думаю, чтоб был очень обязан поэтам, ибо то немногое, что они мне сообщили, едва ли могло просветить чей-либо разум. Надо описать вам этих людей: одни были учителями, бросившими школу; другие пришли неизвестно откуда в одежонке школьных дядек и спустя короткое время ухитрились облачиться в дворянское платье; впрочем, они быстро возвращались к первому своему состоянию, потому ли, что их великолепные наряды были взяты напрокат, или потому, что, не имея чем жить, они вынуждены были их продать. Многие не повышались и не опускались, оставаясь изо дня в день в том же положении; одни существовали на то, что им перепадало за кое-какие рукописи, другие проживали последние гроши в надежде встретить вельможу, которому вздумалось бы взять их к себе на службу или выхлопотать им королевскую пенсию. Впрочем, ни один из них не обладал крупным и подлинным талантом. Все их вымыслы оказывались подражаниями и были так слабы, что не выдерживали никакой критики. Единственным их достоинством являлся вылощенный язык, и то никто не владел им в совершенстве, ибо даже самый ловкий из них, избежав какого-нибудь промаха, сейчас же впадал в другой. Некоторые занимались исключительно переводом книг, что является делом совсем легким; но когда они брались сочинить что-либо самостоятельное, то получалось смехотворное безобразие. Надо еще отметить, что большинство стало стихоплетами в силу поветрия, главным образом из-за общения с теми, кто посвящал себя сему ремеслу, ибо нет более заразительной болезни. Клянусь создателем, мне жаль этих бедных людей: они писали, мня себя хорошими писателями, и заблуждались чистосердечно. Тем не менее некоторые из их сочинений пользуются ныне великим успехом, но это, видите ли, потому, что нет лучших. Приходится против воли довольствоваться тем, что дают, и я сам бывал иной раз вынужден читать их книги за отсутствием другого развлечения. Ну и миленькие вещицы, доложу вам, те два-три романа [114] [114] Возможно, Сорель имеет в виду «Астрею» Оноре д'Юрфе и другие подобные ему прециозные романы.
[Закрыть], которые получили особливую известность! Разрази меня господь, если я не найду в каждом из них ошибок, достойных кнута!
Весьма вероятно, что, приложи я даже все усилия, чтоб написать что-нибудь порядочное, эти убогие умишки удостоились бы гораздо большего одобрения, нежели я, ибо, гоняясь за славой, они прибегают к некоторым плутням, до коих я не стал бы унижаться. Корпя подолгу над своей книгой [115] [115] Намек на эпическую поэму «Девственница», над которой ее автор, Жан Шаплен, работал в течение тридцати лет. Посвятив поэму герцогу Лонгвильскому, Шаплен обеспечил ей благосклонный прием при дворе.
[Закрыть], такой писака располагает достаточным временем, чтоб раззванивать о ней повсеместно и заинтересовать читателей с помощью расточаемых ей похвал (хотя бы никто не видал из всей книги ни единой строчки), а затем, выставив ее в благоприятном свете, добивается благоволения какого-нибудь вельможи, который создает ей успех при дворе. Помимо сего, существуют рифмачи, внушающие авторам, что они властвуют над всеми умами; и знайте, что таких рифмачей немало и что они с такой охотой посвящают свои стихи всем современным сочинителям, словно король платит им за это жалованье. Нет книги, где бы вы не встретив ли их имен; но без этого произведения наших писателей остались бы ненапечатанными, ибо разорили бы издателей, а посему питомцы муз поступают, как крапивник, который, желая подняться к небесам, прячется под крылья орла. Мало того: наши авторы так тщеславны, что сами сочиняют для себя предисловия и рекомендательный послания, рассыпающиеся в безмерных похвалах, после которых уже даже не знаешь, с какими словами обращаться к божеству; и печатают они эти выступления якобы от имени своих друзей [116] [116] По свидетельству Талемана де Рео, автора мемуаров «Занимательнее истории» (последние записи относятся к 1659 г.), Гёз де Бальзак собственноручно написал «Апологию М. де Бальзака» (1628). опубликовав ее за подписью Оноре л'Ожье де Поршера.
[Закрыть], каковые хотя и обладают достаточным даром красноречия, тем не менее не способны превознести их так, как бы сочинителям хотелось. А потому, если б они обратились к кому-нибудь с просьбой написать в их честь стихи, им можно было бы ответить: «Стоит ли браться за этот труд? Ведь вы восхваляете себя так, что мне за вами не угнаться». Нигде самомнение не процветало в такой мере, как у них в те времена, и мне даже передавали, будто один пиит, притязавший на тиранию и на знаки верноподданничества со стороны остальных, сказал: «Есть еще несколько несмышленных мятежников, не явившихся ко мне на поклон; это – мелкие пфальцграфы, не желающие признавать своего императора, но я доведу их до ума». Мне сообщили про это дурачество в разгар одного из собраний наших борзописцев, где я потешался то над одними, то над другими, после чего сказал им:
– Пусть всякий, кому угодно, почитает себя королем остромыслов, но пусть знает также, что я и только я один являюсь Великим Кнесем, пресвитером Иоанном, султаном, Софием, шерифом и Великим Моголом всех остромыслов [117] [117] Великий Кнесь (Knef) – Князь, первый из триады высших египетских богов; пресвитер Иоанн – легендарный восточный царь, государство которого находилось в Северном Китае в 908 – 1125 гг.; Софий – титул персидских царей; шериф – титул потомков пророка Магомета; Великий Могол – титул династии властителей крупнейшей феодальной державы в Индии, образовавшейся в XVI в. после распада Делийского султаната и просуществовавшей до XVIII века.
[Закрыть] не только в Европе, но и во всем мире.
Это забавное бахвальство их рассмешило, но, обладая низменными душонками, они не перестали лебезить перед тем, который притязал на мировое владычество. Находились мы у книгопродавца на улице Сен-Жак, где в ту пору начинали носиться с неким письмецом; ибо надобно вам сказать, что, потерпев неудачу в прочих жанрах, они бросились сочинять эпистолы, в надежде добиться славы этим путем, и опасаясь, как бы не догадались об их бесталанности, описывали обстоятельства самого личного характера, относящиеся к ним самим и их приятелям, так что я даже дал им в насмешку совет отправить одного в Италию, другого в Германию, а третьего в Турцию, дабы, набравши материал, угостить нас несколькими толстыми томами переписки. Прочитав книгу, заключавшую в себе множество таких посланий, я заметил, что в начале и в конце каждого из них имелся длиннейший перечень титулований, а посему посоветовал книгопродавцу для большей правдивости и во избежание каких-либо упущений предложить авторам, чтобы они помещали там также названия улиц и домов; кроме того, я порекомендовал вставить туда и расходы по пересылке писем, дабы, соединив все эти мелкие суммы в одну большую, он мог получить ее с покупателей и таким образом сразу выручить все почтовые издержки, если таковые он уплатил автору помимо оплаты рукописи. Моя выдумка показалась ему весьма прибыльной, и клянусь вам, что он осуществил бы ее, будь его воля. Возвращаясь же теперь к своей побасенке, скажу, что поскольку лавка его была почтовой конторой, куда стекались новейшие письма всех сих милостивых государей, полагавших, будто они владеют отмычкой от сокровищницы красноречия, то собравшиеся в тот день посетители явились туда нарочито с целью увидать письмецо, о коем я веду речь.
Наконец, после того как эти убогие письмописцы побеседовали между собой, дело дошло до чтения вышереченного послания или, вернее, дивного дива, каковое по несуразности и бессмыслице превосходило все, что можно себе представить. Чтец изрекал слова по театральному, с таким видом, словно клюет на живца. Окружавшие его слушатели вытягивали свои длинные шеи, задние через головы передних, и с удивлением и душевным упоением то и дело закатывали глаза наподобие рассвирепевшего барана, и самый главный восклицал при каждом периоде восторженным тоном: «Вот это хорошо, так хорошо!» Тотчас же другой повторял его слова, а за ним остальные, и я в том числе, будучи побуждаем к тому как желанием поиздеваться, так и учтивостью; и поелику вокруг меня раздавались одни только эти восклицания: «Вот это хорошо, так хорошо! Вот это хорошо, так хорошо!» – то я вообразил себя перед шарантонским эхо [118] [118] Шарантон – небольшой городок к югу от Парижа, известный своей лечебницей для душевнобольных.
[Закрыть], семь раз повторяющим сказанное.
После этого один поэт продекламировал свои стихи, причем меня особливо заинтересовали его повадки, ибо по окончании каждой строфы он украдкой обводил глазами слушателей, дабы угадать по выражению их лиц, как они оценивают его в душе. Заметьте (если вы прежде не обращали на это внимания), что все поэты поступают так же при чтении своих произведений. Тут начались жаркие споры по поводу стихотворения, но существенного никто не касался, а привязывались к пустякам. Их препирательства сводились к тому, следует ли говорить: «было бы лучше» или «лучше бы было», «ученые люди» или «ученые то люди», надлежало ли рифмовать [119] [119] По свидетельству Талемана де Рео («Занимательные истории»), один из основоположников французского классицизма, поэт Франсуа Малерб (1555 – 1628) требовал, «чтобы рифмовали не только для уха, но и для глаза».
[Закрыть] «main» и «chemin», «saint Cosme» и «royaume», «traits» и «rpes»; а между тем те, кто считал это ошибочным, делали гораздо худшие погрешности, рифмуя «perissable» и «fable», «etoffer» и «enfer». Все свои взгляды черпали они из скарба одного фантазера, коему во всем следовали, и во время спора позволяли себе повторять некоторые глупейшие обороты, ему свойственные. Они сыпали разными словами, казавшимися им весьма хорошими и пригодными для нашего языка, но коими они боялись пользоваться в своих сочинениях, ибо один из них, почитавшийся корифеем [120] [120] Франсуа Малерб критиковал выдающегося поэта «Плеяды» Пьера Ронсара (1524 – 1585) за употребление латинизмов, архаизмов и устаревших идиоматических выражений: «Он вычеркнул более половины стихов из своего издания Ронсара и изложил причины этого на полях. ‹…› Это дало повод собравшимся ‹…› сказать Малербу, что после его смерти те, кто найдет эту книгу, подумают, что он одобрял все невычеркнутое. „Вы правы“, – ответил Малерб и тотчас же вымарал все остальное» (Талеманде Рео. Занимательные истории).
[Закрыть], запретил употребление оных. Все же они удостоили стихотворение немалых похвал, ссылаясь опять-таки на того же невежественного главаря, произведениями коего они козыряли всякий раз, как хотели оправдать какую-нибудь из своих выдумок. Наконец нашелся один посмелее остальных, который предложил ввести в обиход некоторые старинные слова, а также придумать одновременно новые, положив в основу для тех и других принцип полезности; кроме того, он указывал на необходимость выкинуть из нашего правописания излишние буквы, а в иных случаях вставить более подходящие, чем те, которые приняты.
– Ибо, – сказал он по сему поводу, – несомненно, что говорить начали прежде, чем стали писать, и что, следовательно, письменность создавалась на основе речи и подыскивались буквы, которые, будучи соединены вместе, передавали бы звуки слов. По-моему, нам действительно надлежало бы поступить так и не вставлять лишних букв, ибо чего ради мы это делаем? Вы, пожалуй, скажете, что причина заключается в происхождении большинства наших слов от латинских. Но я вам отвечу, что именно поэтому и не надо так делать, а, напротив, следует подчеркивать богатство нашего языка и его независимость от всего чужеземного. Если бы вам изготовили перчатки о шести пальцах, вы носили бы их лишь весьма неохотно и почитали бы это смехотворным. Либо природе следовало добавить вам лишний палец, ибо перчаточнику – отрезать бесполезный придаток: рассудите сами; что тут проще сделать. А посему, поскольку труднее произносить слова в соответствии с их правописанием и легче выкинуть ненужные буквы, то разумнее поступить именно так. Ни один язык не знает таких несуразностей, а если таковой и существует, то лучше следовать велениям разума, нежели дурным примерам. Вспомните, что даже латинский язык, коему наш, по правде говоря, обязан в значительной доле своим происхождением, не имеет ни одной бесполезной буквы.
– Клянусь смертью рока! – воскликнул я тогда. – Вот дивная речь в защиту общественного дела. Не стану опровергать ваши доводы, но каким способом вы примените их к жизни, и найдется ли во всем городе такой человек, который их одобрит? Не лучше ли уничтожить целую кучу вещей, засоряющих наши нравы и обычаи, нежели уничтожать буквы, этих невинных бедняжек, не причиняющих никому никакого зла? Что же касается новых слов, которые вы только что предлагали ввести, то подумайте сами, не покажутся ли они народу несуразными и не навлекут ли на нас насмешек. Тем не менее я ничего не имею против, если при новых выборах в Генеральные штаты [121] [121] Высшее сословно-представительное учреждение, состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третьего сословия. Созывались начиная с 1302 г. и вплоть до начала Великой французской революции (1789).
[Закрыть] вас отправят делегатом от французских сочинителей (из коих следовало бы составить отдельную палату), дабы вы убедили провинциальные штаты в полезности ваших взглядов и внушили королю, чтобы он приказал подданным разделять их. После того как я это высказал и дал всем и каждому повод похохотать, самый компанейский из них заявил, что все эти речи не способствуют безмятежному наслаждению жизнью, и, заставив всю компанию распроститься с книгами, повел нас к сулеям и чаркам в лучший парижский кабачок, где вздумал устроить угощение на собственный счет. Надо сознаться, что нет людей менее скаредных, нежели поэты: они так стремятся попасть в царствие небесное, куда богачу столь же трудно проникнуть, как канату в игольное ушко, что глотают свои состояния одним глотком, как пилюлю, дабы облегчить себе туда доступ. Незачем рассказывать о том, как жадно там ели и сколько непристойных острот было сказано; а поскольку я в харчевне, так же как и на улице Сен-Жак, поклялся смертью рока, то меня спросили, какая тому причина. Делал же я это в насмешку над ними, ибо сии поэты не могли написать ни одного стиха, чтобы не вставить туда для заполнения строфы либо «рока», либо
«Фортуны».
– Клянусь головою Фортуны! – воскликнул я, – вы превеликие невежды, не знающие своего ремесла. Разрази вас парки! Неужели вы не слышите, что я клянусь, как истый поэт? Вы все верите в бога меньше, нежели какой-нибудь Диагор или Ванини [122] [122] Диагор Атеист (V в. до н. э.) – древнегреческий поэт и философ, ставший атеистом после того как на его глазах совершивший клятвопреступление остался невредимым; Ванини Луцилио Джулио Цезаре Лючилио (1585 – 1619) – итальянский философ-пантеист, священник, последователь Дж. Бруно. Обвинен инквизицией в ереси и сожжен на костре.
[Закрыть], а клянетесь им на каждом шагу, как набожнейшие христиане, у коих имя его всегда на устах
Заметьте, что я сказал это потому, что многие из них были вольнодумцами; но широта их натуры, в этом смысле весьма похвальная, не позволяла им обижаться на меня за мои попреки. Безусловно, стояли они в некоторых отношениях выше черни, хотя бы уже тем, что уважали меня, не считаясь с нищенским моим облачением. Зато было у них и немало невыносимых пороков: более вздорных и непостоянных людей не найдется во всем свете; нет ничего хуже их дружбы: она тает, как ночные заморозки; нет ничего ветренее их мнений: они меняются по всякому поводу и без малейшего основания. Речи этих поэтов зачастую бывали так сумасбродны, что их можно было принять за безумцев. Когда я читал им свои стихи, они провозглашали их лучшими в мире; не успевал я удалиться, как они чернили их перед первым встречным. Тот же прием они пускали в ход и в отношении друг друга, умаляя тем славу каждого; кроме того, они предавались писанию с слишком большой страстью и не ведали никакой другой цели. Даже идя по улицам, большинство бормотало сквозь зубы и тужилось над каким-нибудь сонетом. Все их разговоры вертелись вокруг этой же темы. Несмотря на то, что они описывали благородные деяния многих великих людей, сами они не заражались благородством и не совершали никаких похвальных поступков. При всем этом отличались они, как я уже говорил, непревзойденной самонадеянностью. Всякий почитал себя искуснее других и сердился, когда не соглашались с его мнением. Из этого я заключил, что чернь справедливо их презирала, и не раз приходил к убеждению, что они посвящали себя прекрасному искусству, коего были недостойны и каковое обрекли на народное презрение, занимаясь им неумело. С тех пор сделались они мне столь ненавистны, что я избегал их с большим рачением, нежели кормчий стремится обойти мели.
Я решил поддерживать знакомство лишь с одним из них, по имени Мюзидор, тем самым, который первый заговорил со мной у книгопродавца; не то чтоб обладал он действительно хорошим характером, но было, казалось, в его сумасбродстве нечто такое, что делало его общество приятным для такого человека, как я, якшавшегося с ним только для того, чтоб подтрунивать над его особой. Повстречавшись со мной как-то на улице, он сообщил мне, где живет, и я обещал его навестить. Прежде он ни за что не хотел указать мне свое жилище, – несомненно, потому, что обитал где-нибудь на чердаке вместе с подручными каменщиков по су за ночевку. И действительно, был он до того нищ, что убогое его отрепье вызвало во мне жалость. Можно было почесть за неопровержимую аксиому, что когда он обзаводился шпагой, то не носил подвязок, ибо они заменяли ему перевязь. Всего лишь за месяц перед тем дошел он до последнего обнищания, так что охотно сделался бы крючником [123] [123]Крючник – здесь: носильщик, перетаскивающий мешки и тяжести с помощью крючков.
[Закрыть], чтоб заработать на хлеб, если б было на что купить крюки. Помнится мне, что в ту пору какой-то его знакомец, желавший над ним подтрунить, отрекомендовал ему в качестве заказчиков уличных певцов с Нового Моста и сказал, что если он сочинит для них несколько песенок, то ему хорошо заплатят и никто об этом не узнает. Мюзидор, чуя верный заработок, не отказался: он получил в задаток монету в шесть су от жены одного музыканта, игравшего подле Самаритянки [124] [124]Самаритянка – водонапорная башня на Новом Мосту, названная так благодаря украшающему ее барельефу с изображением евангелистской притчи об Иисусе и самаритянке
[Закрыть], и, прободрствовав всю последующую ночь над сочинением стихов, сдал их ей к утру. Тотчас же их переложили на музыку и стали распевать при входе на Мост; но купить их никто не купил. Крючники ничего в них не поняли; стихи были не в их стиле, так что жена музыканта отнесла это добро назад Мюзидору и потребовала свои денежки. Но он отказался их вернуть, и вы можете себе представить, сколько ругательств на него посыпалось. Передавали даже, будто эта женщина привлекала его к суду; во всяком случае, она поносила его на весь город, обзывала последним виршеплетом и говорила, что никто не хочет слушать его песен, ибо они полны какой-то колдовской тарабарщины и имен дьявола. Действительно, она была права: придворные бронзового коня [125] [125] Т. е. мошенники и проходимцы, вертевшиеся поблизости от находящейся на Новом Мосту конной статуи Генриха IV.
[Закрыть] ничего не понимали в его стихах, где говорилось о Пряхах Судьбы и бедророжденном отроке [126] [126] Пряхи судьбы – в рим. миф. парки (греч, мойры): Нона, Децима и Мойра,, прядущие и обрезающие нити человеческой жизни; бедророжденный отрок – в греч. миф. Дионис (Бахус, Вакх), сын Зевса и дочери фиванского царя Кадма Семелы. Семела упросила Зевса предстать перед ней в сиянии молний, и громовержец невольно испепелил смертную Семелу. Выхватив из пламени недоношенного младенца Диониса, он зашил его в свое бедро, а затем в положенное время распустил швы.
[Закрыть]. Он писал:








