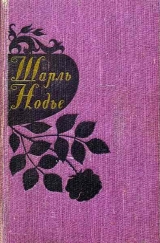
Текст книги "Мадемуазель де Марсан"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Сольбёский остановил на мне взгляд, в котором сочетались скорбное недоверие и грустная насмешка.
Я отвел глаза и увлек его за собой вниз по винтовой лестнице. Мы спускались в полнейшем безмолвии. Наша лесенка, несмотря на то, что мы намного укоротили ее, чтобы иметь в запасе еще одну, которую мы оставили наверху, оказалась достаточно высокой для первой стены, и мы легко перебрались через нее. У второй стены, той, что преграждала прямую лестницу, ее длины не хватило. Это можно было бы легко устранить, если бы мы предвидели возможность возвращения. Но утром я ни о чем подобном и не помышлял. Пришлось с невероятным трудом преодолевать эту стену. После долгих, робких и осторожных попыток, повиснув на ослабевших и дрожащих руках, мы миновали и это препятствие. Наконец мы дотащились, как до обетованной земли, до неприступного балкона над Тальяменте.
Была ночь. Луна, плотно закрытая облаками, бросала на поток скудный, рассеянный свет, позволивший, впрочем, заметить, что река возвращается в свое русло. Разыгравшийся ветер бора снизил температуру воздуха и на несколько дней заключил в ледяные оковы источник разливов. Стремительно мчащиеся облака, проносясь мимо нас с завываниями, разбрасывали колючую изморозь. Я рискнул выразить в связи с этим ожившие во мне снова надежды; я сделал это со всем возможным в моих обстоятельствах воодушевлением.
– Становится холодно, – сказал я, – таяние снегов прекращается. Тальяменте входит в берега. Если доктор Фабрициус не прибыл в Torre Maladetta сегодня, он, конечно, прибудет туда не позднее, чем завтра.
– Ах, что нам до того, что он прибудет туда завтра! – проговорил Сольбёский и, теряя сознание, упал. Я подхватил его.
Сначала я безуспешно пытался привести его в чувство: казалось, что жизнь окончательно покинула это тело. Наконец, безо всяких усилий с моей стороны, он на мгновение пришел в себя, чтобы в следующее мгновение снова впасть в беспамятство. Мало-помалу эти два состояния стали чередоваться, продолжаясь почти равные промежутки времени. Я понял, что то же самое ждет меня, и решил вернуться в столь далекий еще от нас зал, где оставалась Диана. С ужасом измерил я мысленно разделявшее нас расстояние. К тому же свеча почти догорела. Утром я не подумал о том, что необходимо позаботиться о свете и для обратного пути, на случай, если нам придется вернуться, ибо не представлял себе подобной возможности. Странное дело, изучение физиологии, которой я когда-то усердно занимался под руководством знаменитых ученых, не оставило во мне никакого ясного представления о сроке, в течение которого человек может обходиться без пищи. Я поражался, что еще жив.
Мне нетрудно избавить вас от подробного описания нашего последнего, бесконечного перехода. Но оградить вас от печальных картин, которые нарисует вам ваше беспощадное воображение, – увы! – не в моей власти! Ведь вы помните тот сжатый со всех сторон коридор, годный скорее для пресмыкающихся, чем для людей. Вы помните тот узкий и глубокий колодец, ту пещеру в форме спирали, которая могла привести, казалось, только в могилу. Вот туда-то, во все эти места вы последуете мысленно за двумя умирающими, которые медленно, с частыми остановками тащились через проходы, едва доступные даже для ловких, сильных, выносливых. Сколько времени это длилось? Кто сможет ответить! Сколько раз, измученные усталостью, не видя перед собой цели, потеряв надежду, мы повторяли: «Довольно! Здесь достаточно хорошо, чтоб умереть», и сколько раз, влекомые непостижимой силой духа, порожденной жаждой жизни, мы удваивали наши усилия, чтобы неизвестно зачем достигнуть порога новой могилы! Наконец, то еле переступая ногами, то ползком, мы дотащились до комнаты, где лежала покойница. В это мгновение наша свеча внезапно вспыхнула ярким пламенем и погасла.
– Дошли ли мы? – обратился ко мне Сольбёский, ложась на пол. – Но почему я ничего, решительно ничего не вижу?
– Мы еще не дошли, – ответил я Иозефу, – и у нас нет больше огня, но, если не ошибаюсь, вторую портьеру нетрудно отыскать, держась рукою за стену и следуя вдоль нее. Подожди меня, брат мой, подожди.
Пошатываясь на нетвердых ногах, ощупывая рукою холодную стену и становясь время от времени на колени, чтобы хоть немного передохнуть, я двинулся в путь.
Какой-то предмет загородил мне путь и заставил несколько уклониться в сторону. Я так ослабел, что, обходя его, стал искать, на что бы опереться; я вытянул руку, чтобы снова нащупать стену, которая должна была находиться где-то поблизости. Я искал ее и не мог найти. Ужасная мысль поразила меня, я поскользнулся и упал прямо на труп.
– Ну! – закричал Сольбёский. – Нашел? Ты что, снова закрыл портьеру? Почему я ничего не вижу?
– Она чуть-чуть дальше, – ответил я, стуча зубами от страха, – подожди меня, Иозеф, подожди!
И я снова двинулся своей ужасной дорогой среди жуткого мрака, о котором не дает представления никакая, даже самая темная ночь на земле. Прошло немало времени, прежде чем мои пальцы коснулись портьеры. Я резко отдернул ее. Огонь погас.
– Почему ты опустил за собой портьеру? – сказал Сольбёский. – Ты нашел ее, а все-таки я ничего не вижу. Увы, ты покинул меня?
Я не произнес ни слова в ответ. Минута промедления могла оказаться для нас гибельной. Я направился прямо к камину, опираясь справа и слева на те постели, на которых мы спали во второй день нашего пребывания в башне, и стал разгребать руками золу.
– О, счастье! – воскликнул я, обуреваемый каким-то восторгом. – Вот, вот еще…
– Что! Что ты? Трап открыт? – подхватил Сольбёский. – Трап открыт? Максим, не покидай меня, слышишь, Максим!
– Огонек, друг мой, огонек и остывшие угли.
И комната осветилась.
Я почувствовал себя возвращенным к жизни. Я перенес или, точнее, перетащил на кровать бедного Иозефа; смерть приближалась к нему быстрей, чем ко мне. Затем я подошел к ложу Дианы. Ее глаза, как все это время, были открыты и устремлены в одну точку, но на этот раз они светились, они сияли, они сверкали ярче обычного. Лицо ее разрумянилось, пульс бился беспорядочно и ускоренно.
– Все ли Диана съела? – спросил Сольбёский, приподнимаясь с трудом на руках.
– Да, – ответил я, – все до последней крошки. Но лихорадка предохраняет от голода. В народе говорят, что она питает больного.
Иозеф снова упал на постель.
Стремясь привлечь внимание обитателей замка – на случай, если в нем еще кто-нибудь оставался, – я хотел испробовать последнее средство. Но вместе с тем я опасался прибегнуть к нему, потому что, внезапно разбудив Диану, оно могло стать причиною рокового для ее жизни испуга. Поэтому я громко и отчетливо, так, чтобы меня слышал также Сольбёский, изложил со всеми подробностями обстоятельства, в которых мы оказались, предоставив Диане самой догадываться об именах отсутствующих друзей, которые должны принести нам спасение. Я сделал это затем, дабы она могла тешить себя надеждой, что Марио жив.
При звуках моего голоса она остановила на мне неподвижный, пристальный взгляд, как если бы внимательно прислушивалась к моим словам. Сначала я так и подумал. Но, надо полагать, слова мои не дошли до ее сознания; она повернулась на другой бок и, как видно, заснула.
Я отстегнул от пояса Сольбёского два пистолета, поднялся в чулан с гулко звенящими сводами и два раза выстрелил. Выждав немного, я снова разрядил свои пистолеты и стал прислушиваться к доносящимся извне звукам. Мне показалось, будто я слышу какие-то смутные шумы, чьи-то шаги и голоса, но уже два-три дня такие же беспричинные шумы так часто тревожили мой слух и мой мозг, что я уже не мог определить, где действительность, а где иллюзии моих больных чувств, и все же мне захотелось использовать этот случай, чтобы подать о нас весть, – это была последняя наша возможность. Я нашел в чулане сосновый брусок и решил еще раз ударить им по трапу; но, приподняв его над головой всего на несколько футов, я уронил его. Я наклонился, чтобы поднять его, – и не смог.
Нетвердыми шагами возвратился я к очагу, чтобы прибавить огня и вновь осветить зал погребальным светом. Я употребил в дело весь остаток дров и свечей – все, что было у меня под руками. Я знал, что больше они не понадобятся. Час, может быть два ушли на эту работу, еще час я потратил на то, чтоб завернуться в простыню – этот саван, которого, как я думал, никогда уже не коснется человеческая рука и который так и останется незашитым. Все было кончено, и навсегда!
Сольбёский повернулся ко мне и голосом умирающего спросил:
– Который сегодня день?
Я подумал, что, по всей вероятности, пятый, но ничего не ответил.
С этой поры время стало делиться между невероятными физическими страданиями и припадками слабости, когда мне начинало казаться, что жизнь моя вот-вот оборвется. Иногда наступали изумительные мгновения, и тогда все окружающие предметы приобретали фантастический, причудливый вид, напоминая театральные декорации или образы сновидений. Далекие тени стен приходили в движение, разъединялись, принимали какие-то гигантские, необыкновенные формы, сталкивались друг с другом, сплетались и с разноголосым воем, теснясь и мелькая в моих глазах, вели вокруг меня свой нескончаемый хоровод. Пламя свечей в подсвечниках вздымалось так высоко, что невозможно было за ним уследить. Знакомые голоса с визгом врывались мне в уши или насмешливо и оскорбительно хохотали над моей головой. Когда я закрывал глаза, чтобы избавиться от этого наваждения, последнее из того, что я видел и слышал, угнездившись в моем уме благодаря какой-то непостижимой ассоциации идей, продолжало бесконечно терзать мой мозг. Это был один и тот же повторяющийся мотив, монотонный рефрен, греческий или латинский стих на фоне навязчивой, однообразной мелодии, припев виреле [36]36
Виреле– старофранцузская стихотворная форма, состоящая из трехстрочной строфы с рефреном (припевом).
[Закрыть]или редонделлы, [37]37
Редонделла– испанская стихотворная форма, состоящая из четырехстрочной строфы с рефреном.
[Закрыть]слушать который, казалось, я теперь обречен навеки, и повторяющийся с упорством, напоминающим конского слепня, это ужасное насекомое, всегда возвращающееся на то самое место, откуда его только что прогнали.
Иногда бред сменялся дремотой, и тогда картины, проходившие у меня перед глазами, становились совершенно иными. В моих сновидениях были воздух, солнце, женщины и цветы. Вдруг я попадал на веселые сборища, где мысли всех были заняты лишь пирами и наслаждениями. Я видел пышно убранные столы, заставленные тонкими яствами, но едва я делал попытку отведать их, как они превращались у меня на зубах в горький или безвкусный песок. Где бы я ни оказывался, я повсюду встречал Онорину с ее легким лотком, полным аппетитных лазанок. «Купите, сударь, – уговаривала она, – купите отличные лазанки и падуанскую вермишель; они могут пригодиться вам – и лучших нет во всем Кодроипо». Но когда я пытался жадно наброситься на лазанки, я не мог вытянуть руку, чтобы набрать их в горсть, я не мог сжать ставшие пористыми, словно губка, зубы, чтобы разжевать их… Иногда меня внезапно будили душераздирающие стоны, и долго еще после пробуждения слышал я их где-то поблизости.
– Что! Что это? – вскрикнул я как-то раз из последних сил.
– Ничего, – ответил Сольбёский, – наверное, это умирает мадемуазель де Марсан.
– Господи, смилуйся надо мной! – прошептал я. – Святая Гонорина, помолись о нас!
Сколько времени длились наши мучения, сказать невозможно, потому что сон мой бывал иногда глубоким и продолжительным. Вспоминаю, что однажды, открыв глаза, я не увидел никакого света. Это была окончательная, вечная ночь, о которой я думал с таким ужасом и наступление которой так настойчиво пытался отсрочить – вчера, или позавчера, или еще за день до этого. Это была моя последняя ночь. Я хотел подняться, но не смог.
«Ну вот и отлично, – сказал я себе, – Все кончено. Это смерть».
И я стал готовиться к смерти; стараясь переместить свою руку, чтобы положить на нее голову, я наткнулся на чьи-то совершенно холодные пальцы.
– Кто здесь? – прошептал я с таким ужасом, будто встреча с убийцей могла еще вселить в меня страх. Убийца, да, да, пусть убийца! Но даже среди самых ужасных злодеев мне не приходилось встречать такого, который не разделил бы со мной свой кусок хлеба.
– Это я, – ответил Сольбёский; хотя он и раньше меня начал страдать от голода, но обессилел меньше, чем я. – Не дрожи! Не бойся! Я не собираюсь причинить тебе зло. Мне нужен только твой кинжал.
– Зачем тебе кинжал? Неужели ты думаешь, что в этих подземельях скрываются люди?
– Нет, этого я не думаю. Здесь только трупы, но среди них есть один, которого упорно не хочет оставить жизнь: я устал от этого упорства и имею право избавиться от нее. Дай, дай свой кинжал и выпей мою кровь – говорят, это может поддержать жизнь. Кто знает? А вдруг Тальяменте вошел в берега. Господин Фабрициус, может быть, уже возвратился…
Я забросил кинжал как можно дальше, насколько хватило сил. Ни он, ни я не отправимся на его розыски – в этом я нисколько не сомневался. Ведь мысль эта была не новой для меня…
– Брат мой, – сказал я, обливаясь слезами, – ты лежишь на холодном полу, придвинься ко мне ближе… Иозеф, не покидай меня! Господи боже, сжалься над нами!
Не знаю, я ли привлек его к себе на постель или сам придвинулся к нему, но мы оказались рядом и касались телами друг друга.
– Гонорина! – воскликнул он. – Несчастная Гонорина, юная невеста, готовящая свадебные ленты и букеты цветов! Гонорина, такая добрая, такая красивая! И тебя, Максим, я тоже любил и уже никогда-никогда больше не увижу! О, если бы хоть один-единственный раз могли мы увидеть лучи солнца! Но отсюда чересчур далеко до них, а балкон на такой высоте… Никогда, никогда!
Тягостное головокружение охватило меня. Когда Иозеф умолк, я наклонился к нему, чтобы убедиться, что он еще дышит. Он отвернулся от меня с ужасающим стоном. Потом я услышал какие-то глухие звуки, потом они умолкли, как будто их и вовсе не было; я стал было прислушиваться. Наконец всякая мысль оставила меня. Я снова возвратился в хаос моих сновидений, снова увидел празднества, покинутые мной перед этим, и маленькую Онорину, расхваливавшую свои лазанки, и святую Гонорину, из глубины фантастической картины Порденоне протягивающую мне в утешение свои милосердные руки.
Стуки, однако, не прекращались. Это был стук кирки. Это был стук лопаты… Волны Тальяменте с ревом проносились мимо башни. Я видел бочку с порохом, чтобы взорвать эту башню, я видел Онорину, всю в слезах, на церковной паперти; она все твердила: «Купите, сударь, купите мои лазанки. Лучших не найдете во всем Кодроипо!» Я спал. Приходя в себя, я спрашивал Сольбёского: «Иозеф, ты спишь?» Но он не отвечал мне.
Оцепенение мое все возрастало. Я утратил сознание времени, не знал уже, где я, забыл, кто я такой. В тяжелом забытьи я спрашивал себя: «Где я?», но моя память стала пропастью, в которой я уже ничего не находил.
И в конце концов я перестал думать. Только слух воспринимал еще какие-то отрывочные и неясные звуки – крики, жалобные стоны, грохот водопадов, завывания бури. Я пытался ответить на крики и стоны своими криками и своими стонами, чтобы попасть в унисон этой страждущей, агонизирующей природе, но у меня не было голоса.
Часы вечности – и их мало, чтобы измерить длительность подобных страданий. Но они миновали… Я очнулся в каком-то месте, освещенном солнечными лучами. Возможно, было утро. Открыв глаза, я тотчас же вновь закрыл их, потому что меня ослепило солнце. Мой рот меньше горел, тело меньше страдало. Какое-то приятное питье освежило мне нёбо, и я все еще ощущал вкус этого живительного напитка. Я опять начал чувствовать – во всяком случае, страдать, и подумал, что я жив.
«Все к лучшему, – сказал я себе. – Не надо трогаться с этого места, надо умереть тут». Я снова открыл глаза, потому что меня опять освежил приятный напиток. Странное зрелище представилось мне. Я был в просторном зале, в котором никогда еще не пробуждался от сна, – это не был отчий дом; это не была ни гостиница, ни казарма, ни тюрьма! Особенно поразил меня пол. Он был разрыт и завален обломками твердой лавы. Лишь посреди комнаты виднелось отверстие в форме правильного квадрата, которое вело в подземелье.
– Torre Maladetta! – вскричал я. – Torre Maladetta! Трап открыт! Диана, Иозеф, Анна, за мной! Я нашел выход! О, не мешкайте, ведь и без того уже столько покойников!
– Никто не умер, кроме несчастной Анны, – произнес доктор Фабрициус, стоявший у моего изголовья. – Для Анны было чересчур поздно.
– Фабрициус, друг мой, отец мой, – сказал я, схватив его за руку. – А Диана? А Иозеф?
– Они живы. Но тебе, как я вижу, лучше, – продолжал он, – и я могу говорить с тобой. Это следует сделать возможно быстрее, потому что время не терпит. Позже ты узнаешь о том, что задержало твое спасение. Сейчас этот рассказ отнял бы драгоценное для нас время. Надежды, которыми жил весь мир, в последние несколько дней рассыпались прахом. Блестящая победа опьянила сторонников Наполеона и его армию. Борьба за независимость европейских народов отнюдь не проиграна, она, без сомнения, никогда не будет проиграна, но моей старости, может статься, не суждено насладиться ее торжеством. Моя голова и голова Иозефа оценены. При первой же искре надежды на выздоровление Иозефа я поспешил переправить его в надежное место, откуда он доберется до нашей Германии. К счастью, она еще не вполне во власти тирана. Башня, несомненно, будет отрезана от внешнего мира, но я не мог покинуть ее, пока не убедился собственными глазами, что к тебе возвратилась жизнь. Пришло время расстаться. Чувствуешь ли ты себя достаточно сильным, чтобы тронуться в путь?
– Иозеф, мой дорогой Иозеф, он говорил, что мы никогда больше не свидимся… Диана, друг мой, но где же Диана?
– Диана будет жить. Время, более искусное, нежели моя помощь, избавит ее, быть может, от того состояния немоты и помутнения разума, в котором она еще пребывает и посейчас. За все это время с ее уст не сорвалось ни одного слова, на лице ее не отразилось ни одного чувства, и точно так же обстояло даже сегодня утром, когда ее новая горничная, приставленная к ней мною, подала ей траурное платье, которое ей подобает носить и как вдове и как осиротевшей дочери. Я надеялся на целительность этого потрясения; в отчаянии я перебрал всевозможные средства. Только один-единственный раз, когда я предложил ей убежище до установления новых порядков в монастыре Благовещения в Венеции, где у нее есть соотечественники и, кажется, родственники, она, как мне показалось, кивнула в знак согласия. С тех пор ее беспокойство и возбуждение не раз красноречиво свидетельствовали о том, что ей нужно возможно скорее покинуть эту злосчастную башню, где каждая вещь рождает в ней горестные воспоминания.
Перехожу к тому, что касается лично тебя. Настойчивое желание Марио повидаться с тобою именно здесь без труда находит свое объяснение в том, о чем ты поведал Сольбёскому, а он лишь вчера, в свою очередь, сообщил мне. Показать тебе то, что этот несчастный молодой человек называл своим счастьем, было бы чрезмерно ничтожною платой за твою великодушную дружбу. Для вашего свидания он располагал еще одним поводом, сколько я могу судить по этому письму Шастеле, где он поручает Марио известить тебя о том, что приказ о твоем аресте во Франции отменен и что венецианские власти уже знают об этом. С той поры ты себя ничем не скомпрометировал, и ничто не препятствует тебе возвратиться в объятия твоего любящего отца. Этого требуют и твое счастье и твоя безопасность, потому что, если ты будешь схвачен в Torre Maladetta, где тебя задерживали в течение некоторого времени столь прискорбные обстоятельства, ты не избегнешь смертного приговора, уготованного для всех последних ее обитателей. Я знаю заранее, как и что собираешься ты возразить на эти мои слова, но ведь все, что ты скажешь, будет лишь доказательством не нужной никому слепой преданности, которая добавит к нашим несчастьям несчастье еще одного человека. Вот и все. Кроме того, теперь на тебя возлагается священный долг позаботиться о Диане. Состояние ее разума таково, что ей невозможно предоставить самостоятельно добираться до места, где ее ожидает тихий приют. Разве, удрученный заботами о семье, я мог бы найти лучшего и более верного друга, чем ты? Итак, соберись с силами, подкрепись более обильной и основательной пищей, нежели та, которой ты довольствовался в последнее время, и приготовься выехать сегодня вечером, тотчас же после захода солнца. Я принял эту предосторожность, чтобы ничто не могло указать шпионам, откуда ты прибыл. В Порто-Груаро ты найдешь ожидающее вас судно. В монастыре уведомлены о предстоящем приезде Дианы. А теперь, – продолжал он, сжимая меня в объятиях, – прощай, сын мой, и прости, что, вынужденный заняться делами, я не могу скрасить наше расставание более продолжительною беседой. Как бы стар годами я ни был, я все-таки не теряю надежды еще раз повидаться с тобой. Что б ни случилось, сохрани свое сердце на радость друзьям, а жизнь – для служения свободе!
Едва спустилась на землю ночь, на этот раз темная, потому что небо было безлунным, один из слуг доктора пришел сообщить, что карета заложена, и проводил меня до нее. Войдя в карету, я уселся напротив двух дам, лиц которых не мог разглядеть. Спустя два часа мы прибыли в Порто-Груаро, а несколькими минутами позже уже плавно покачивались на легкой волне лагуны. Поднимаясь на судно, я предложил Диане руку, и она, крепко за нее ухватившись, уже не отпускала ее. Диана упорно хранила молчание, но все время вздыхала, грезила и иногда, дрожа всем телом, прижималась ко мне, как будто ее охватывал внезапно нахлынувший страх. Эта поездка запечатлелась в моей памяти крайне смутно, и все же я не могу вспоминать о ней без глубокого содрогания. Она была чем-то похожа на переправу двух теней на барке Харона, но не просто двух теней, а таких, которые заранее предусмотренным приговором обрекаются на совершенно различные судьбы и расстаются навеки. В конце концов я все-таки задремал под монотонный плеск ритмично ударявших по воде весел и заунывное пение матросов.
Я проснулся не раньше, чем почувствовал качку, подсказавшую мне, что мы вышли в открытое море. Солнце сияло как никогда, то самое солнце, которое я не надеялся больше увидеть. Под ним, словно второе небо, расстилался залив цвета лазури, и Венеция со своими высоко поднятыми фронтонами, башнями, соборами и колокольнями полыхала, озаренная солнечными лучами. Беспредельная равнина вод походила на огромную паперть из ляпис-лазури, распростертую перед городом, созданным как бы по волшебству. Я считал, что все еще вижу сны, потому что успел уже позабыть, что значит жить и радоваться проявлениям жизни. Рука Дианы по-прежнему оставалась в моей, и я обернулся, чтобы взглянуть, разделяет ли она мое восхищение и возрождается ли так же, как я, вместе с этим ослепительным воскресением всей природы. Ее неподвижный взгляд не выражал ничего, кроме немого отчаяния, которое я видел в ее глазах еще в Torre Maladetta.
Я вспомнил, что среди этих нарядных кровель, загоравшихся перед нами одна за другой, постепенно менявших окраску от нежно-розовой до ярко-алой и от ярко-алой до цвета пламени и освещенных, как в праздничный день, она могла бы отыскать жилище своего отца.
И еще я вспомнил, что не прошло и трех месяцев, как, быть может, это же судно бороздило эти самые воды, унося ее, потерявшую голову от любви в объятиях Марио. Отрезвленный этим воспоминанием, я перестал ощущать себя счастливейшим из счастливцев и с невыразимой печалью возвратился в юдоль реального мира.
Я хотел было освободить свою руку, так как подумал, что пальцы Дианы разжались и больше не удерживают ее. Не знаю, поняла ли меня Диана. А почему бы и нет? Чего только не в состоянии выразить этот безмолвный язык! Она помешала, однако, моему намерению. Я взглянул на нее, и мне показалось, что на губах ее промелькнула, как молния среди туч, горестная улыбка.
Мы вышли на берег и попали в деятельную и суетливую толчею приморского люда.
– Увы, – сказал один nicolotto, [38]38
Nicolotto– так именуют жителей одного из кварталов Венеции, население которого составляют чернорабочие и ремесленники; это вроде нашего предместья Сен-Марсо. (Прим. автора.)
[Закрыть]стоявший на берегу в ожидании ноши. – Это галиот славного Ченчи; он построил его на свои деньги и подарил неимущим морякам Порто-Груаро. Но нет больше на свете славного Ченчи!
– Помолчи, – произнес я таким образом, чтобы заглушить его голос, и сунул ему в руку цехин. – Бери вещи, их сейчас поручат твоему попечению, и шагай с ними в монастырь Благовещения, но помалкивай, черт побери!
К счастью, рассеянное внимание Дианы было отвлечено в этот момент усердными хлопотами двух монастырских послушниц, поджидавших нас в гавани с раннего утра и прекративших расхваливать благочестие и святость своей обители не раньше, чем они наконец поняли, что женщина, стоявшая перед ними, – безумна и нема.
Они шли впереди нас до самого порога монастыря, перебирая привычными пальцами свои отполированные долгим употреблением четки. Отворилась дверь, и нас со всевозможными церемониями проводили в приемную.
Настоятельница была француженка. Ее считали красавицей – хотя среди эмигранток было множество красивых молодых женщин, – и ее имя, начертанное лишь на могильном камне, – бедная Клара!.. – само по себе могло бы окружить ее земной славою, если б в ее поразительных добродетелях была хоть крупица земного. Она непринужденно, даже с нежностью протянула мне руки, хотя при нашем свидании присутствовали сестры-монахини, – ведь мы знали друг друга с детства.
– Мне известно, милый Максим, – сказала она, – чем обязана вам наша возлюбленная сестра; и когда-нибудь, сын мой, вы обретете за это награду, если будете искать ее на небесах. Прощайте!
В этот момент Диана взглянула на меня внимательнее, чем это бывало в последнее время, как будто только теперь она впервые узнала меня. Затем она снова ушла в свои мысли. Я медленно направился к выходу.
– Максим, Максим! – вдруг воскликнула она сильным и чистым голосом. – Прощай, Максим, прощай навсегда!
В следующее мгновение затворились две двери: одна – запиравшая ее в этом убежище, где царили мир и покой, другая – выпускавшая меня на погибель в суету мирских волнений и горестей.
Я шел под лучами знойного солнца безо всякой цели и почти ни о чем не думая. Голова моя пылала. Сбивчивые мысли нагоняли друг друга и сталкивались в моем уме. Еще не окрепшие ноги подкашивались на каждом шагу. Придя в гостиницу, в которой я всегда останавливался, я свалился от слабости и душевной подавленности и впал в беспамятство.
Три последующих месяца я провел в приступах бреда и правильно сменявшей его полнейшей апатии, вызванных перемежающейся лихорадкою.
Лишь позднее я выяснил, да и то при помощи сопоставления дат, сколько времени продолжалась моя болезнь. У меня решительно все выветрилось из памяти.
Наконец 16 июля я почувствовал себя в состоянии выехать из Венеции. Силы мои к этому времени восстановились еще далеко не полностью, но я торопился избавиться от тягостных воспоминаний, непрестанно возобновлявшихся во мне окружающими предметами.
Следуя своей старой привычке, я прошел в галерею под башней, занял место за столиком у кафе «Флориан» и заказал шоколаду.
Вокруг меня было необычайно много людей. Громко читали газету, и чтеца слушали с неослабным вниманием. Полное безразличие ко всему, что могло быть следствием притупления моих чувств, не помешало мне, впрочем, рассеянно осмотреться по сторонам. В течение тех знаменитых ста дней, в столь памятное для всякого из нас время, когда каждый день переворачивал новую страницу истории, я пребывал в таком же неведении о событиях, происходивших на нашей бренной планете, как если бы трап Torre Maladetta так и остался закрытым над моей головой. Доктор Фабрициус, правда, успел сказать мне несколько слов, из которых я понял, что надежды на скорое освобождение как Германии, так и Франции почти не осталось, но и об этом я вспомнил совершенно случайно.
Я бросил взгляд на газетный лист. Это был «Триестский курьер» аббата Колетти. Посетители кафе жались друг к другу, напряженно вслушиваясь в последние строки бюллетеня императорской армии. Я тоже прислушался.
«Победа, одержанная шестого июля сего года императорской армией под Ваграмом, – возглашал с забавными ударениями чтец-итальянец, сопровождая свои слова оживленными жестами, – рассеяла навсегда упования врагов Франции и всего человечества. Никогда еще великодушие его императорского и королевского величества не обнаруживало себя столь явственно, как при настоящем событии. Он дарует прощение заблуждавшимся доселе народам, и закон поразит только мятежников. Замок, в котором происходили сборища заговорщиков, принадлежавший Ченчи, по имени Мариус, а по прозванию „Дож Венеции“, срыт. В подземельях этого замка найдено множество трупов. Гнусный сеятель мятежей некий Фабрициус, под каковым именем, как выяснилось, скрывался иллюминат Гоошман, сообщник Арндта, Пальма и Шастеле, скрылся и пока еще не задержан. Меры к его розыску приняты. Голова жалкого труса и ханжи Андреаса Гофера оценена. Это отягченное злодеяниями чудовище не избежит заслуженной кары. Его секретарь Иозеф Сольбёский, цыган-проходимец, выдающий себя за поляка, схвачен и заключен под стражу. Злодей Сольбёский хитер, свиреп и наделен огромной физической силой. На днях он предстанет перед судом».
«Сольбёский, – сказал я себе. – Сольбёский свиреп и хитер! Но негодяи даже не умеют правильно написать его имя!»
Я кусал себе руки от бешенства и отчаяния. Ах, почему я не умер в Torre Maladetta!
– Погодите, господа, погодите! – ухмыляясь, воскликнул чтец. – Тут есть еще небольшой постскриптум редактора:
«Сегодня, тринадцатого июля, ровно в десять с половиной часов утра, на холме святого Андрея, в присутствии неисчислимой толпы народа, расстрелян изменник Иозеф Сольбёский. Негодяй проявил известное мужество».








