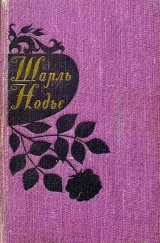
Текст книги "Инес де Лас Сьеррас"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Вот вино, – сказал я, помогая ему отвязать повозку, – а вот, кроме того, два хлеба и кусок жареной баранины. Теперь, когда кавалерия и обоз разместились, пойдем наверх и поможем устроиться пехоте.
Мы зажгли четыре факела и двинулись по большой лестнице, сплошь загроможденной обломками; Баскара шел между Сержи и Бутрэ, которые ободряли его словом и примером, заставляя страх отступить перед тщеславием, столь властным над душой испанца. Должен признаться, что в этом вполне безопасном вторжении было что-то необычайное и фантастическое, втайне льстившее моему воображению, и могу добавить, что оно представляло достаточно трудностей, способных возбудить наш пыл. Часть стен обрушилась, и в самых различных местах на нашем пути воздвигались внезапные баррикады, которые нужно было либо обходить, либо преодолевать. Доски, брусья, целые балки, упавшие с потолка, перекрещивались и перепутывались во всех направлениях на разбитых ступенях, осколки которых вставали дыбом, когда мы ступали по ним. Рамы старых окон, через которые свет проникал в вестибюль и на лестницу, давно уже обвалились, вырванные бурями, и мы обнаруживали их следы лишь по треску разбитых стекол, лопавшихся у нас под сапогами. Неистовый ветер, гнавший снег, с ужасным воем врывался в те проемы, откуда рамы сорвались столетие или два тому назад, а буйные сорняки, семена которых сюда забросили бури, еще более затрудняли нам путь и делали зрелище еще более мрачным. Я подумал про себя, что сердце солдата легче и скорее зажглось бы, если бы надо было атаковать редут или штурмовать крепость. Наконец мы добралиcь до площадки второго этажа и остановились перевести дух.
Слева от нас начинался длинный коридор – узкий и такой темный, что мрак не могли рассеять все наши факелы, сгрудившиеся у входа. Перед нами была дверь в жилые покои, или, вернее, ее больше не было, так что нам не стоило никакого труда войти с факелами в руках в квадратный зал, когда-то служивший, должно быть, помещением для солдат. Так по крайней мере мы заключили по двум рядам расшатанных скамей, составлявших его обстановку, и по некоторым остаткам оружия, наполовину съеденного ржавчиной и все еще висевшего на стенах. Мы пересекли зал, причем четыре или пять обломков копий и столько же мушкетных дул покатились нам под ноги. Этот зал упирался под прямым углом в гораздо более длинную, но не очень широкую галерею, по правой стороне которой зияли такие же пустые, как на лестнице, окна с болтавшимися на них остатками прогнивших наличников. Плиты пола в этой части здания так разрушились под действием ветра и дождя, что совсем выскочили из своих гнезд, и только вдоль наружной стены шла узкая, прерывистая полоса пола. Двигаясь в этом направлении, можно было почувствовать, как плиты с подозрительной гибкостью опускаются и поднимаются под ногами, которые погружались в них, словно в плотную, готовую ежеминутно рассыпаться пыль. В местах наименее прочных пол уже совсем обвалился, обнажая причудливо зияющую пустоту; человек менее осторожный, чем я, не прошел бы здесь безнаказанно. Я потащил своих товарищей к левой стене, где путь казался менее опасным. На этой стене висели картины.
– Это картины, – сказал Бутрэ, – это так же верно, как то, что нет бога. Неужто пьяница, породивший этого олуха arriero, добрался-таки до этого места?
– Да нет же! – ответил Сержи с немного язвительным смехом. – Он уснул на церковной паперти в Маттаро, потому что выпитое вино помешало ему идти дальше.
– Я не у тебя спрашиваю, – возразил Бутрэ, наводя свой лорнет на пыльные, исковерканные рамы, разбросанные по стене, висевшие под самыми прихотливыми углами, но неизменно отклонявшиеся от перпендикулярного положения. – Это в самом деле картины, портреты, если я не ошибаюсь. Весь род де Лас Сьеррас позировал в этом логове.
В других обстоятельствах подобные остатки искусства далеких столетий могли бы приковать наше внимание, но мы слишком торопились обеспечить нашему маленькому каравану надежное и удобное пристанище, чтобы тратить время, рассматривая стершиеся картины, краски которых почти исчезли под влажными и черными наслоениями веков. Однако Сержи, дойдя до последних портретов, с волнением поднес к одному из них свой факел и воскликнул, порывисто схватив меня за руку:
– Смотри, смотри на этого рыцаря с мрачным взглядом, с красным султаном, от которого тень падает на лицо. Это, должно быть, сам Гисмондо! Гляди, как чудесно выразил художник в этих молодых еще чертах утомленное сладострастие и тревогу преступника. Какое грустное зрелище!
– Зато следующий портрет порадует тебя, – сказал я, улыбаясь его предположению. – Это портрет женщины, и если бы он лучше сохранился или висел бы ниже, ты стал бы восторгаться красотой Инеc де Лас Сьеррас, ибо точно так же можно предположить, что это она. Даже и то, что еще можно разглядеть, производит сильнейшее впечатление. Сколько грации в этом тонком стане! Как волнующе прелестна эта поза! А эта чудесная рука – о какой совершенной красоте, скрытой от наших глаз, говорит она! Такою должна быть Инеc!
– И такою она была, – продолжал Сержи, притягивая меня к себе, – вот с этого места я только что увидел ее глаза. О! Никогда еще ничью душу не волновал такой страстный взгляд! Никогда еще жизнь в такой полноте не сходила с кисти художника. И если ты проследишь на потрескавшемся полотне за этой нежной линией, где щека закругляется около очаровательного рта, если ты, как и я, уловишь чуть высокомерное движение губ, которые дышат всем упоением любви…
– То я составлю себе, – холодно закончил я его фразу, – несовершенное представление о том, какова должна была быть красивая женщина при дворе Карла Пятого.
– При дворе Карла Пятого, – повторил Сержи, опуская голову. – Это правда.
– Погодите, погодите, – сказал Бутрэ, который благодаря своему высокому росту дотянулся до украшений в готическом духе на нижнем багете рамы и теперь тщательно протирал его платком. – Тут есть имя, написанное по-немецки или по-еврейски, если не по-сирийски, а то, может быть, и на нижнебретонском наречии; но в нем сам черт не разберется. Это все равно, что толковать коран!
Сержи вскрикнул от восторга.
– Инес де Лас Сьеррас! Инес де Лас Сьеррас! – повторял он, в каком-то исступлении сжимая мне руки. – Читай.
– Инес де Лас Сьеррас, – повторил я. – Это так, и эти три зеленых холмика на золотом поле, вероятно, аллегорический герб ее рода. Очевидно, эта несчастная действительно существовала и жила в этом замке. Но пора уже искать приюта для нас самих. Не собираетесь ли вы пойти дальше?
– За мной, господа, за мной! – закричал Бутрэ, шедший на несколько шагов впереди нас. – Вот гостиная, которая не заставит нас пожалеть о сырых улицах Маттаро, вот жилье, достойное принца или интенданта. Сеньор Гисмондо о себе заботился, и на этот счет ничего не скажешь. Какая дивная казарма!
Эта огромная комната действительно сохранилась лучше прочих. Дневной свет проникал в один ее конец через два очень узких окна, избежавших разрушений, в отличие от остальной части здания, – так удачно они были расположены. Тисненая кожа, которой были обиты стены, и большие старинные кресла отличались особенным великолепием, которому сама дряхлость этих вещей сообщала еще большую внушительность. Колоссальный камин, разверзавший свое широкое чрево у левой стены, был, казалось, сложен для гигантов, а деревянные обломки, валявшиеся на лестнице, могли бы обеспечить нам веселый огонь на сотню ночей, подобных той, которую предстояло провести. Круглый стол, стоявший всего в нескольких футах от камина, невольно напомнил нам нечестивые пиршества Гисмондо, и, готов признаться, я смотрел на него не без некоторого волнения.
Понадобилось сходить несколько раз туда и обратно, чтобы запастись дровами и перенести в зал сначала провизию, а потом и наши вещи, которые могли серьезно пострадать от дождя, заливавшего их целый день. К счастью, все оказалось целым и невредимым, и даже костюмы труппы Баскара, развешанные на спинках кресел перед зажженным очагом, засверкали перед нами своим фальшивым блеском и той поддельной свежестью, которую обычно придавал им обманчивый свет рампы. Правда, зал Гисмондо, озаренный десятью пылающими факелами, был освещен, конечно, гораздо ярче, чем когда-либо на людской памяти бывала освещена театральная сцена в маленьком каталонском городке. Только в самой дальней части зала, через которую мы вошли, в той, что прилегала к картинной галерее, мрак не вовсе рассеялся. Казалось, он сгустился здесь для того, чтобы создать между нами и непосвященной чернью таинственную преграду. Это была ночь видений поэта.
– Не сомневаюсь, – сказал я, вместе с моими спутниками занимаясь приготовлением к трапезе, – что суеверию обитателей равнины все это даст новую пищу. В этот час Гисмондо ежегодно возвращается на свое адское пиршество, а свет, который озарил окна и виден во всей окрестности, уж конечно возвещает о шабаше чертей. Может быть, на подобном же происшествии и основана старая легенда Эстебана.
– Прибавь к этому, – сказал Бутрэ, – что каким-нибудь веселым искателям приключений могла прийти в голову фантазия разыграть эту сцену со всеми подробностями и что, вполне возможно, отец нашего arriero в самом деле присутствовал на представлении такой комедии. А у нас есть все для того, чтобы разыграть ее снова, – продолжал он, перебирая один за другим костюмы странствующей труппы. – Вот рыцарское одеяние, словно сшитое для капитана, вот в этом я буду точь-в-точь отважный оруженосец, который, по-видимому, был очень красивым малым, а этот кокетливый костюм, который оживит несколько томную физиономию красавца Сержи, легко придаст ему вид самого обольстительного из всех пажей. Согласитесь, что это счастливая выдумка, которая обещает нам превеселую ночь.
Говоря это, Бутрэ преобразился с ног до головы, и мы со смехом последовали его примеру, потому что на молодые умы ничто не действует так заразительно, как сумасбродная выходка. Однако мы предусмотрительно оставили при себе шпаги и пистолеты, которые, если не считать даты их изготовления, не составляли слишком кричащего контраста с нашим маскарадом. Даже оригиналы галереи Гисмондо, – вздумай они вдруг покинуть свои средневековые полотна, – не почувствовали бы себя неловко в своем наследственном замке.
– А прекрасная Инеc! – вскричал Бутрэ. – Вы о ней не подумали? Не согласится ли сеньор Баскара, чьим природным внешним данным могли бы позавидовать сами грации, один только раз, по настойчивой просьбе публики, сыграть эту роль?
– Господа, – ответил Баскара, – я охотно участвую в шутках, которые не угрожают спасению моей души, да в том и состоит моя профессия; но эта шутка такого рода, что быть ее участником я не могу. Вы увидите, может быть, к великому вашему несчастью, что нельзя безнаказанно смеяться над силами ада. Веселитесь как хотите, раз уж вас не осенила благодать; но я заявляю вам, что во всеуслышание отрекаюсь от этих сатанинских увеселений и желаю только бежать от них, дабы стать монахом в какой-нибудь благочестивой обители. Разрешите мне только, как брату вашему во Христе, имя его да пребудет славным во веки веков, разрешите провести ночь в этом кресле, дайте немного пищи, чтобы поддержать плоть, и позвольте предаться молитве.
– Бери, – сказал Бутрэ, – эта великолепная шутовская речь заслуживает целого гуся и двух бутылок лучшего вина. Сиди на своем месте, мой друг, ешь, пей, молись и спи. Ты навсегда останешься дураком. Впрочем, – добавил он, усаживаясь снова и наполняя свой стакан, – Инеc приходит только к десерту, – и я надеюсь, что она придет.
– Да хранит нас от этого бог! – сказал Баскара.
Я расположился спиной к огню, оруженосец сел справа, паж слева. Напротив меня место Инеc осталось свободным. Я обвел глазами наш стол; и то ли под влиянием какой-то тревоги, то ли по слабости духа, но мне показалось, будто наша затея – не только игра, и у меня сжалось сердце. Сержи, более жадный, чем я, к романтическим впечатлениям, имел вид еще более взволнованный. Бутрэ пил.
– В чем причина, – сказал Сержи, – что все эти возвышенные идеи, над которыми смеется философия, никогда полностью не теряют своей власти над самым здравым и просвещенным умом? Или человеческая натура испытывает тайную необходимость подняться до чудесного, чтобы вернуть себе некое право, когда-то отнятое у нее и составлявшее лучшую часть ее существа?
– Клянусь честью, – ответил Бутрэ, – я бы не поверил этому предположению, если бы даже ты изложил его достаточно ясно, чтобы я мог его понять. Явление, о котором ты говоришь, происходит всего лишь вследствие старой привычки мозга, который, точно мягкий воск, затвердевший от времени, удерживает дурацкие впечатления, вбитые туда с детства нашими матерями и кормилицами; все это прекрасно объяснено Вольтером в великолепной книге, которую я рекомендую тебе прочесть на досуге. Думать иначе – значит низвести себя до уровня этого простака, который вот уже четверть часа бормочет «Бенедиците» над своей порцией, не осмеливаясь приняться за нее.
Сержи настаивал. Бутрэ защищал свое мнение пядь за пядью, по обыкновению укрываясь за своими неотразимыми аргументами: «предрассудок, суеверие, фанатизм». Я никогда не видел его таким упрямым и высокомерным в метафизическом споре, но беседа не долго удержалась на столь великолепных философских высотах, ибо вино было крепкое и мы пили его усердно, как люди, которым больше нечего делать. Наши часы показывали полночь и добрая половина бутылок была выпита, когда в порыве радости, как будто это обстоятельство освобождало нас от скрытого беспокойства, мы воскликнули все вдруг:
– Полночь, господа, полночь! А Инеc де Лас Сьеррас не пришла!
Единодушие, которое мы проявили в этом столь ребяческом замечании, вызвало общий взрыв хохота.
– Черт побери! – с беспечно веселым видом сказал Бутрэ, поднимаясь на нетвердых ногах и стараясь скрыть, что они у него дрожат, – хотя эта красавица и не явилась на наше веселое сборище, все же рыцарская учтивость, правила который мы все соблюдаем, запрещает нам забыть о ней. Я поднимаю бокал за здоровье благородной девицы Инеc де Лас Сьеррас и за ее скорейшее освобождение.
– За Инеc де Лас Сьеррас! – воскликнул Сержи.
– За Инеc де Лас Сьеррас! – повторил и я, чокаясь полупустым стаканом с их стаканами, наполненными до краев.
– Вот и я! – раздался голос из картинной галереи.
– Что такое? – сказал Бутрэ, усаживаясь на место. – Шутка недурна, но кто же ее выкинул?
Я обернулся. Баскара, весь бледный, судорожно уцепился за перекладины моего кресла.
– Это, – ответил я, – болван возчик, которого развеселило паламосское вино.
– Вот и я! Вот и я! – повторил голос. – Доброго здоровья и веселья гостям замка Гисмондо.
– Это голос женщины, и женщины молодой, – сказал Сержи, поднимаясь с изящной и благородной уверенностью.
В ту же минуту мы различили в самой темной части зала белый призрак, который мчался к нам с невероятной быстротой; приблизясь, он откинул саван. Мы стояли, положив руки на эфес шпаг, а он прошел между нами и уселся на место Инеc.
– Вот и я! – сказал призрак, испуская глубокий вздох и откидывая длинные черные волосы, небрежно перевязанные пунцовой лентой. Никогда еще красота более совершенная не поражала мой взор.
– Это в самом деле женщина, – сказал я вполголоса, – и так как мы условились, что здесь не может произойти ничего сверхъестественного, то и должны сообразоваться только с законами французской учтивости. Будущее объяснит эту тайну, если она может быть объяснена!
Мы снова сели на свои места и принялись угощать незнакомку, которая, казалось, была очень голодна. Она молча стала пить и есть. Несколько минут спустя она совершенно забыла о нас, и каждый из участников этой необычайной сцены, казалось, погрузился в себя, молчаливый и неподвижный, словно его коснулась завораживающая палочка феи. Баскара упал в кресло рядом со мной, и я счел бы его мертвым от страха, если бы меня не успокоило движение его дрожащих рук, судорожно скрещивавшихся для молитвы. Бутрэ не дышал; глубокая подавленность пришла на смену его хмельной отваге, и яркий румянец опьянения, минуту назад пылавший на его самоуверенном лице, превратился в смертельную бледность. Чувство, охватившее Сержи, с неменьшей силой парализовало его мысли, но, судя по выражению его глаз, это было чувство более нежное. Глаза его, со всем пылом страсти устремленные на призрак, казалось старались удержать его, как это бывает во сне, когда человек боится расстаться, проснувшись, с неповторимым очарованием прекрасного сновидения, и, надо признаться, иллюзия стоила того, чтобы ревностно ее хранить, ибо, может быть, во всем мире не нашлось бы красавицы, достойной занять ее место. И, поверьте, я не преувеличиваю.
Незнакомке было не более двадцати лет, но страсти, несчастья – или смерть – наложили на ее черты ту удивительную печать неизменного совершенства и извечной правильности, которую резец древних освятил в образах богов. В этом лице не осталось ничего, что принадлежало бы земле, ничего, что могло бы быть оскорблено каким-нибудь дерзким сопоставлением. Таково было холодное суждение моего ума, еще в те времена вооруженного против безумств внезапной любви, и оно избавляет меня от необходимости рисовать вам портрет, который каждый из вас может воссоздать по воле своего воображения. Если вам посчастливится представить себе что-то приближающееся к истинному ее образу, вы пойдете в тысячу раз дальше всех ухищрений, на которые способны слово, перо и кисть. Но только – и пусть это послужит порукой моего беспристрастия – проведите по этому широкому и гладкому лбу неровную, еле заметную морщинку, которая бы обрывалась где-то чуть повыше бровей; а божественному взгляду, несказанный свет которого излучают сквозь черные как смоль ресницы ее продолговатые синие глаза, постарайтесь придать, если можете, что-то неверное и робкое, словно бы какое-то беспокойное сомнение, силящееся понять себя самое. Таковы будут недостатки моей модели, однако я уверен, что Сержи их не заметил.
Но что меня поразило больше всего, когда ко мне вернулась способность замечать детали, – так это наряд нашей таинственной незнакомки. Я не сомневался, что где-то уже видел его недавно, и вскоре вспомнил: на портрете Инеc. Он, подобно нашим одеждам, тоже как будто взят был со склада некоего костюмера, опытного в театральных постановках; но только он казался менее свежим. Платье из зеленого шелка, все еще богатое, но измятое и выгоревшее, там и сям украшенное поблекшими лентами, должно было принадлежать к гардеробу женщины, умершей более столетия тому назад, и я, вздрогнув, подумал, что, прикоснувшись к нему, можно было бы ощутить холодную сырость могилы; однако я тотчас же отогнал эту мысль, недостойную здравого рассудка, и уже полностью овладел собою, когда наша гостья, прервав наконец молчание, заговорила чарующим голосом.
– Ну что же, благородные рыцари, – сказала она с упреком, но на губах ее блуждала улыбка, – я, верно, имела несчастье нарушить веселье вашей пирушки. Пока я не пришла, вы только радовались тому, что все вы вместе, и ваш задорный смех разбудил всех ночных птиц, свивших гнезда в лепных украшениях замка. С каких это пор присутствие молодой женщины, в которой и город и двор находили некоторую привлекательность, мешает веселью? Неужто мир так изменился с тех пор, как я из него ушла?
– Простите, сударыня, – сказал Сержи. – Ваша красота сразила нас, а восхищение так же безмолвно, как испуг.
– Я благодарен моему другу за это объяснение, – подхватил я. – Чувства, которые рождаются при взгляде на вас, не могут быть выражены словами. Что же касается вашего прихода, то он должен был вызвать у нас мимолетное изумление, и нам понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Вы понимаете, что ничто не могло предвещать вашего появления в этих развалинах, где уже так давно никто не живет; заброшенный замок, поздний ночной час, необычно разбушевавшиеся стихии – все это не могло внушить нам никаких надежд. Нет сомнения, что вы, сударыня, будете желанной гостьей всюду, где вы соблаговолите появиться; но, чтобы засвидетельствовать наше глубокое уважение, мы почтительно ожидали того момента, когда вы пожелаете сообщить нам, с кем мы имеем честь разговаривать.
– Мое имя? – спросила она с живостью. – Разве вы его не знаете? Бог свидетель, что я пришла на ваш зов.
– На наш зов? – пробормотал Бутрэ, закрывая лицо руками.
– Ну, конечно же, – продолжала она с улыбкой, – и я достаточно хорошо воспитана, чтобы не поступать иначе. Я – Инеc де Лас Сьеррас.
– Инеc де Лас Сьеррас! – закричал Бутрэ, как громом пораженный. – О правосудие божие!
Я пристально посмотрел на нее. Я тщетно искал в ее лице чего-нибудь, что выдавало бы притворство или ложь.
– Сударыня, – сказал я, притворяясь более спокойным, чем был на самом деле, – костюмы, в которых вы нас застали и которые, может быть, неуместны в такой великий праздник, скрывают людей, не знающих страха. Каково бы ни было ваше имя и какова бы ни была причина, по которой вам угодно скрывать его, вы можете рассчитывать на нашу почтительность, скромность и гостеприимство; мы даже охотно согласимся признать в вас Инеc де Лас Сьеррас, если эта шутка, вполне законная в таких обстоятельствах, забавляет ваше воображение; ваша красота – самая несомненная из всех привилегий – дает вам право представить Инеc с большим блеском, чем тот, каким она сама обладала; но мы заверяем вас, что это признание, к которому обязывает учтивость, никак нельзя отнести за счет нашего легковерия.
– Я вовсе не хочу требовать от вашего доверия подобных усилий, – с достоинством отвечала Инеc, – но кто может оспаривать у меня имя, которое я приняла, в собственном доме моих отцов? О! – продолжала она, постепенно воодушевляясь. – Я слишком дорого заплатила за свой первый проступок, чтобы думать, будто божественное возмездие удовлетворено его искуплением, но пусть будущее прощение грехов, которого я ожидаю от небес и в котором моя единая надежда, пусть оно никогда не выпадет мне на долю, и я останусь жертвой мук, если имя Инеc де Лас Сьеррас – не мое имя! Я Инеc де Лас Сьеррас, виновная и несчастная Инеc! Какой смысл имело бы для меня присваивать это имя, если утаить его было бы для меня куда полезнее, и по какому праву вы хотите отвергнуть признание, уже и так достаточно мучительное, признание несчастной, жребий которой достоин только жалости?
На глазах у нее показались слезы, и Сержи, волнение которого все возрастало, приблизился к ней, меж тем как Бутрэ, который уже несколько времени сжимал голову руками, грузно опустил ее на стол.
– Вот, сеньор, – сказала она, срывая с руки золотой браслет, наполовину изъеденный временем, и пренебрежительно бросая его передо мной, – вот последний подарок моей матери, единственная драгоценность из всего ее наследства, оставшаяся у меня среди всей нищеты и бесчестия. Посмотрите, в самом ли деле я Инеc де Лас Сьеррас или же гнусная авантюристка, которую низкое происхождение обрекло быть игрушкой черни.
Три зеленых холмика были инкрустированы на браслете мелкими изумрудами, и имя «Лас Сьеррас», гравированное старинными буквами, еще отчетливо проступало на нем.
Я почтительно поднял браслет и вернул ей с глубоким поклоном. В том состоянии возбуждения, которое овладело ею, она даже не заметила меня.
– Если вам нужны еще доказательства, – продолжала она как в бреду, – неужели слухи о моих несчастьях не доходили до вас? Смотрите! – прибавила она, откалывая застежку своего платья и показывая шрам на груди. – Вот сюда меня поразил кинжал!
– Горе! Горе! – воскликнул Бутрэ, поднимая голову и в неописуемом смятении откидываясь на спинку кресла.
– Да, мужчины, мужчины, – тоном горького презрения сказала Инеc. – Они умеют убивать женщин, но вид раны внушает им страх.
Стыдливость, смешанная с жалостью к себе, заставила ее запахнуть расстегнутое платье, чтобы прикрыть одну грудь от испуганного взгляда Бутрэ, но при этом другая открылась глазам Сержи, волнение которого достигло крайней степени; я слишком хорошо понимал его восторг, чтобы осуждать его.
Вновь наступило молчание, еще более долгое, глубокое и печальное, чем в первый раз. Теперь каждый из нас был предоставлен своим переживаниям: Бутрэ, утративший способность рассуждать, – безотчетному ужасу, Сержи – внутренним радостям зарождающейся любви, предмет которой воплощал самые дорогие мечты его безудержной фантазии, я – размышлениям о тех великих тайнах, по поводу которых составил себе в прошлом, как я опасался теперь, мнения слишком уж решительные; вероятно, мы походили на окаменевших героев восточных сказок, которых смерть застигла врасплох и в чьих чертах навеки застыло выражение мимолетного чувства, владевшего ими в последнюю минуту. Лицо Инеc казалось гораздо более оживленным, но среди множества мгновенно сменявшихся выражений, сквозь которые угадывался, как во время сна, неуловимый ход ее мыслей, нельзя было определить основное. Вдруг она со смехом заговорила.
– Я не помню, – сказала она, – что именно я только что просила вас объяснить мне, но вы понимаете, что ум мой не в силах поддерживать беседу с мужчинами после того, как я ввергнута в обитель мертвых рукой любимого, убившего меня. Прошу вас, будьте снисходительны к слабости воскресающего разума и простите, что я слишком долго забывала поблагодарить вас за тост, который вы провозгласили, когда я вошла. Господа, – прибавила она, поднимаясь с бесконечной грацией и протягивая к нам свой стакан, – Инеc де Лас Сьеррас, в свою очередь, приветствует вас. За ваше здоровье, благородный рыцарь, пусть небо благоприятствует вам в ваших делах; за ваше здоровье, задумчивый оруженосец, чью природную веселость омрачает какая-то тайная печаль! Пусть более радостные дни, чем нынешний, вернут вам вашу безмятежность! За ваше, прекрасный паж, чья нежная томность свидетельствует о душе, волнуемой более сладостной тревогой; пусть счастливая женщина, внушившая вам любовь, ответит на нее любовью, которой вы достойны. А если вы еще не любите, пусть дано вам будет полюбить красавицу, которая вас полюбит. За ваше здоровье, сеньоры!
– О! Я люблю, я полюбил навсегда! – воскликнул Сержи. – Кто мог бы увидеть вас и не полюбить? За Инеc де Лас Сьеррас! За прекрасную Инеc!
– За Инеc де Лас Сьеррас! – повторил я, вставая.
– За Инеc де Лас Сьеррас! – пробормотал Бутрэ, не меняя своего положения, и первый раз в жизни он не выпил, провозгласив торжественный тост.
– За всех вас! – подхватила Инеc, второй раз поднося стакан к губам, но не осушая его.
Сержи схватил его и прильнул к нему пылающими губами; не знаю почему, мне захотелось удержать его, как если бы я подумал, что он пьет свою смерть.
Что до Бутрэ, то он снова впал в какое-то задумчивое оцепенение, поглотившее его целиком.
– Вот и прекрасно, – промолвила Инеc, обхватывая одной рукой шею Сержи и прикладывая время от времени другую, такую же пламенную, как в легенде Эстебана, к его сердцу. – Этот вечер милее и очаровательнее всех, о которых я сохранила воспоминание. Мы все так веселы, так счастливы! Не правда ли, сеньор оруженосец, нам недостает здесь только музыки?..
– О! – сказал Бутрэ, который едва ли мог бы вымолвить что-либо иное. – Она будет петь?
– Спойте, спойте, – ответил Сержи, проводя трепещущими пальцами по волосам Инеc, – вас просит об этом ваш Сержи.
– Я готова, – отвечала Инеc, – но сырость этих подземелий, вероятно, испортила мой голос, который считали когда-то красивым и чистым; да к тому же я знаю только печальные песни, не подходящие для такой пирушки, где должны звучать одни веселые напевы. Погодите, – продолжала она, поднимая к сводам свои небесные глаза и взяв голосом несколько очаровательных мелодических нот. – Это романс «Nina matada», [8]8
«Убитая девушка» (исп.).
[Закрыть]который будет для вас таким же новым, как для меня; ведь я буду сочинять его, пока буду петь.
Нет человека, который не понимал бы, какую прелесть придает вдохновенному голосу вольный поток импровизации. Горе тому, кто холодно записывает свою мысль, разработанную, обдуманную, испытанную временем и размышлениями. Он никогда не взволнует душу до самых ее таинственных глубин. Присутствовать при зачатии великого замысла, видеть, как он рождается из сознания художника, точно Минерва из головы Юпитера, чувствовать, как его порыв уносит душу в неведомые области фантазии, на крыльях красноречия, поэзии, музыки, – вот живейшее из наслаждений, ниспосланных нашей несовершенной природе, единственное, что приближает ее на земле к божеству, от которого она происходит.
То, о чем я вам сейчас сказал, я почувствовал при первых же звуках голоса Инес. То же, что я ощутил вслед за тем, не может быть выражено ни на одном языке. Мысленно существо мое как бы разделилось на две половины: одна, грубая и косная, была прикована своей физической тяжестью к креслу Гисмондо, другая, преображенная, поднималась к небу вместе со словами Инеc, которые дарили ей все впечатления новой жизни, полной неисчерпаемых наслаждений. Будьте уверены, что если какой-нибудь несчастный гений и усомнился в существовании извечного начала, чья бессмертная жизнь бывает прикована непрочными узами к нашему бренному существованию и которое называют душой, – то это потому, что он не слыхал, как поет Инеc или другая женщина, которая пела бы подобно ей.
Вы знаете, что я по моей природе не чужд таких переживаний; но я далеко не считаю себя достаточно утонченным созданием, чтобы испытывать все их могущество. Иначе было с Сержи, все существо которого служило лишь тонкой оболочкой духа, еле связанной с землей хрупкими узами, готовыми вернуть ему свободу, когда только он того пожелает. Сержи плакал, Сержи рыдал, Сержи перестал быть самим собой, и когда Инеc в экстазе достигла еще неведомых нам высот вдохновения, она, казалось, улыбкой звала его за собой. Бутрэ немного очнулся от своей мрачной подавленности и вперил в Инеc большие внимательные глаза, в которых выражение удивления и удовольствия на минуту сменило испуг. Баскара не изменил позы, но сладостные переживания артиста начинали одерживать верх над страхом простолюдина. Он поднимал время от времени лицо, в котором восхищение боролось с ужасом, и вздыхал от восторга или, может быть, зависти.
Восторженные клики были ответом на песню Инеc. Она сама налила вина всем присутствующим и непринужденно чокнулась с Бутрэ. Тот неверной рукой поднес свой стакан к губам, увидел, что я пью, и выпил тоже. Я снова наполнил стаканы и предложил тост за Инеc.








