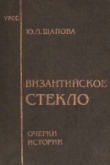Текст книги "Византийские портреты"
Автор книги: Шарль Диль
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В этих критических обстоятельствах, казалось, один только человек был способен к власти. Это патриарх Николай, который, и впав в немилость, не утратил ни энергии, ни честолюбия. К нему-то, когда разразилась революция, погубившая ее фаворита, обратилась сама Зоя как к единственной поддержке, какую могла найти; ему же царь поручил должность первого министра. Он исполнял ее, когда в марте 919 года Роман Лекапин в свою очередь поднял восстание, овладел дворцом и особой царя в ожидании того дня, когда он заставит сделать себя соправителем империи; он является первым в целом ряде узурпаторов, несколько раз в течение Х века правивших под именем законных василевсов Византийской империей.
И при этом Романе Лекапине встретились в последний раз двое противников, чье честолюбие и борьба занимали в течение почти двадцати лет первое место в истории Священного дворца. Говорят, будто Зоя, все еще красивая, думала, чтобы вновь завладеть властью, обольстить этого выскочку и заставить его жениться на себе; во всяком случае, известно, что она пыталась, после того как ее партия была окончательно уничтожена при восстании Льва Фоки, отравить узурпатора. Она потерпела неудачу и, изгнанная из дворца, должна была, на этот раз навсегда, удалиться в Петрийский монастырь Святой Евфимии, где оставалась до конца своей бурной и драматической жизни. В это самое время Николай торжествовал.
В июне 920 года столько же для того, чтобы понравиться Роману и удовлетворить своей мести, сколько чтобы положить конец расколу, возникшему из-за четверобрачия, патриарх обнародовал знаменитое постановление, известное под именем тома единения. На торжественном празднике греческая церковь в присутствии царей Романа и Константина праздновала восстановление согласия между сторонниками Николая и сторонниками Евфимия. Примирение это было в ущерб императору Льву VI. Правда, в виде исключения, церковь, признавая совершившийся факт, соглашалась извинить, даже узаконить четвертый брак императора; но она тем не менее непреклонно хранила принципы церковных канонов и в суровых выражениях порицала подобные браки. "По общему со-{145}глашению, – говорили иерархи в своем постановлении,– мы объявляем, что четвертый брак – вещь безусловно запрещенная. Кто осмелится его заключить, будет отлучен от церкви, покуда будет упорствовать в своем незаконном сожительстве. Отцы церкви держались такого мнения, мы же, поясняя их мысль, провозглашаем, что это действие, противное всякому христианскому установлению". С тою же строгостью иерархи поносили и третий брак. "Надлежит, – говорили они, – очиститься от этой скверны, подобно тому, как выметают нечистоты, когда они, вместо того чтобы быть брошены в угол, разбросаны по всему дому". И, поясняя эти слова, патриарх Николай писал торжественно папе, что из уважения к императорскому величеству оказано было снисхождение, но что четвертый брак противен добрым нравам и церковной дисциплине.
Юный император Константин VII должен был присутствовать при чтении акта, клеймившего браки, подобные тому, от какого он родился; каждый год он должен был торжественно справлять праздник единения, вызывавший в нем такие тяжелые воспоминания. Для власти императорской в этом было большое унижение, для церкви – победа, какой она по праву могла гордиться, для патриарха Николая, ее владыки, – торжество беспримерное, наступившее после стольких испытаний, борьбы и всяких превратностей судьбы. Тем не менее, несмотря на эту видимость, если взглянуть вглубь вещей, станет ясно, что своим упорным желанием иметь сына, рядом женитьб, к которым он прибег для этой цели, ловкой и умелой настойчивостью, какую он выказал в деле четвертого брака, Лев VI оказал значительную услугу как империи, так и династии. Только присутствие законного наследника, вокруг которого сплотились все его приверженцы, не дало Византии погибнуть в хаосе революций, наступившем после смерти царя. Только существование ребенка, представителя Македонской династии, разрушило все честолюбивые планы Константинов Дуков, Львов Фоков и помешало Роману Лекапину окончательно упрочить власть за своими наследниками. Если Македонский дом вместо того, чтобы занимать престол в течение нескольких недолгих лет, управлял Византией в продолжение почти двух веков, дав ей славу и редкое благоденствие, она этим главным образом обязана предусмотрительности Льва VI, тонкой дипломатии и спокойному мужеству, с какими этот царь преследовал свою цель, достигнутую несмотря на все трудности, несмотря на все сопротивление церкви. {146}
ГЛАВА IX. ФЕОФАНО
Среди византийских цариц Феофано почти так же знаменита, как Феодора. После того как лет пятнадцать назад Гюстав Шлюмберже в своей прекрасной книге сделал попытку оживить перед нами этот яркий и соблазнительный образ и рассказал ее романическую судьбу, эта забытая царица вдруг сразу вновь выступила на исторической сцене и до известной степени стяжала себе славу. Такие знаменитые писатели, как Мопассан, такие талантливые литераторы, как виконт де Вогюе, поддались очарованию этой красавицы, "взволновавшей мир столько же, сколько Елена, и даже больше" 16, и даже в вымыслах романистов, как, например, у Гюг Леру, перед нами проходит "эта женщина красоты необычайной, с чертами камеи, заключавшими в своей гармонии силу, волнующую мир". В таком случае следует и нам дать место в нашей портретной галерее "великой грешнице, – по выражению Шлюмберже, – чары которой имели роковое влияние и которая последовательно возбудила к себе любовь трех императоров". По правде сказать – в этом приходится тотчас сознаться, – ее образ во многих отношениях останется для нас непроясненным, и мы заранее должны примириться с тем, что многое в этой загадочной и таинственной царице нам не известно. Когда молчат документы, нам кажется, что воображение, как бы изобретательно оно ни было, не имеет никакого права возмещать их молчание; если допустить такое вольное обращение с источниками, получится роман, но не история. Между тем Византия не есть вовсе, как это утверждает де Вогюе, "волшебная страна, край нетронутый и неизведанный"; это страна вполне реальная, и ее можно и должно постараться узнать научным образом. Возможно, что при таком способе исследования Феофано покажется менее живописной, чем ее обыкновенно изображают; но зато можно надеяться, что она предстанет перед нами в более истинном свете.
I
Откуда явилась она, эта знаменитая императрица, когда в конце 956 года вышла замуж за юного Романа, единственного сына царя Константина VII, наследника византийского престола? Никто этого не знает. Придворные летописцы, стараясь не уронить {147} славы династии, с важностью утверждают, что она происходила из очень старинной и очень родовитой семьи и что император и его жена были несказанно рады найти своему сыну жену из такого знатного рода. Если же доверять историкам менее пристрастным к Македонской династии, будущая царица была гораздо более скромного происхождения. Ее отец Кротир, родом из Лаконии, плебей темного происхождения, держал кабак в одном из бедных кварталов города; она сама до замужества называлась Анастасией, и даже проще – Анастасе; и только приблизившись к трону, получила она более звучное имя – Феофано, "что означало, – говорят ее панегиристы, – что она была Богом явлена и им избрана".
С одной стороны, она, во всяком случае, заслуживала это имя: красота ее была ослепительна, необычайна, божественна; "красотой и изяществом, говорит один современник, – она превосходила всех женщин, какие только были тогда"; "красота ее, – пишет другой летописец, – была несравненна, являлась истинным чудом природы". Несомненно, этой-то красотой и пленила она Романа. Но где же она встретилась с ним? Как завладела им? Не известно, обязана ли она своей необычайной судьбой одному из состязаний в красоте, устраивавшихся обыкновенно в Византии, когда искали жену для царя, причем император и его близкие делали смотр самым красивым девушкам империи? Я вполне допускаю такое предположение. Не было ли, наоборот, между прекрасной плебейкой и наследником престола раньше любовной интриги, закончившейся браком? Приключения Феодоры показывают, что подобные вещи были возможны, и то, что известно о характере Романа, вовсе не исключает подобного предположения.
Роман был красивый юноша, высокий, широкоплечий, "стройный, как кипарис"; у него были прекрасные глаза, светлый цвет лица, приветливые манеры; речь его была вкрадчивая и обольстительная. Созданный, чтобы нравиться, он любил увеселения; страстный охотник, большой любитель всякого спорта, он все время был в движении и при своей могучей натуре крайне любил хорошо поесть и еще многие другие удовольствия. Окружая себя плохими людьми и поддаваясь дурным советам близких, он только и думал, что о приключениях и всяких забавных проделках, и плохо отплачивал за все старания и заботы, какие были приложены его отцом к его воспитанию.
Старый император Константин VII, такой строгий и благочестивый, всячески старался вложить свои добрые качества в своего сына. "Он его учил, – говорил летописец, – как царь должен говорить, ходить, держаться, улыбаться, одеваться, садиться", и после таких уроков он важно говорил юноше: "Если ты будешь при-{148}держиваться этих правил, ты долго будешь править империей ромеев". Для обучения своего наследника политике и дипломатии Константин VII, кроме того, написал несколько книг, показывающих большое знание дела и очень ценных для нас: О фемах и Об управлении империей. Но Роману было восемнадцать лет, и он нисколько не заботился о том, чтобы стать государственным мужем. Как бы то ни было, так как отец, в сущности, обожал его, он, конечно, не захотел ему препятствовать и уступил его желанию жениться на Феофано, не вдаваясь ни в какие подробности относительно ее рождения. Вскоре после этого брака, в 958 году, Феофано родила мужу сына, будущего Василия II, и этим молодая женщина еще более упрочила свое положение при дворе и увеличила свое влияние во дворце. Когда в октябре 959 года Константин VII умер, Феофано, естественно, вступила вместе с Романом II на престол. Ей было тогда восемнадцать лет, а юному императору двадцать один.
Что представляла в нравственном отношении эта молодая женщина, определить довольно трудно. Придворный летописец, которого я уже раньше цитировал, говорит о ней с полнейшим доброжелательством: "У нее было прекрасное тело, прелестное лицо и, безусловно, честная душа". Самый последний из историков Феофано, наоборот, подчеркивает, что она была "глубоко порочна, глубоко развращенна" и что эта соблазнительная чаровница, эта "коронованная сирена" была существом "бесстыдным и распутным". Это крайне грубые слова и крайне нелестные эпитеты, особенно если взять в расчет, что мы так мало знаем о ней. Впрочем, надо заметить, что уже в Византии среди современников и еще больше среди летописцев последующих веков о ней сложилась слава, вполне установившаяся, женщины страшной и роковой. Один историк рассказывает, что для того, чтобы скорее достичь престола, она покушалась, с согласия своего мужа, отравить императора, своего тестя. Другие историки передают, что, когда муж ее умер, прошел слух по всей столице, что это Феофано подлила ему яду. Если верить другим свидетельствам, она таким же способом отделалась от одного царя из семьи Романа Лекапина, казавшегося ей претендентом на престол и возможным соперником, и точно так же, говорят, отомстила она своему любовнику, Иоанну Цимисхию, когда тот покинул ее. Армянские летописцы доходят до того, что утверждают, будто "безбожная императрица" думала отравить собственных сыновей. В сущности, все эти россказни людей, живших вдали от двора, – а большая часть из них на сто или двести лет позднее того времени, когда царствовала Феофано, – имеют очень мало значения. В иных случаях эти злые сплетни опровергаются фактами; в других они кажутся слишком неправдопо-{149}добными. И не следует при этом забывать еще одного: когда Феофано решила совершить преступление – это, во всяком случае, случилось раз в ее жизни, – она прибегла не к яду, а действовала смело, открыто, мечом.
Само собой разумеется, что, делая такие замечания, я отнюдь не имею намерения восстановить честь Феофано. Ее можно укорять в стольких достоверных и доказанных проступках, что представляется бесполезным увеличивать список ее преступлений эпитетами смутными и утверждениями, которые невозможно доказать. Нам она представляется главным образом честолюбивой, жадно стремящейся к власти и влиянию, способной для сохранения престола, на который она поднялась, на все, даже на преступление; часто она нам кажется интриганкой, иногда необузданной и страстной, всегда беззастенчивой; наконец, когда бывали затронуты ее интересы, ее честолюбие или мимолетные увлечения, она легко могла поступать обманным и коварным образом. Когда она достигла престола, влияние ее на Романа II было довольно значительно; она не могла допустить, чтобы кто-нибудь другой делил с ней это влияние. Не только были удалены все близко стоявшие к покойному царю, произведены перемены во всей высшей администрации, но первой заботой юной императрицы по восшествии ее на престол было удалить свою свекровь, царицу Елену, и пятерых золовок.
Это были прелестные царевны, наилучшим образом воспитанные обожавшим их отцом. В царствование Константина VII они иногда принимали даже участие в государственных делах; одна из них, Агафья, любимица старого императора, часто служила ему секретарем, и в приказах, как и среди чиновников, хорошо знали силу ее влияния. Это не могло быть по сердцу Феофано. Поэтому по распоряжению, которого она добилась от слабовольного Романа II, пятерым сестрам монарха было предложено удалиться в монастырь. Напрасно мать молила за них; напрасно молодые девушки, тесно обнявшись, просили о пощаде и плакали. Ничто не помогло. Одной царице Елене было разрешено остаться во дворце, где она и умерла в тоске несколько месяцев спустя. Ее дочери должны были покориться непреклонной воле, обрекшей их на иноческую жизнь, и из утонченной жестокости их даже разлучили одну с другой. Напрасно царевны еще раз возмутились. Когда по приказанию патриарха Полиевкта их волосы упали под ножницами, когда на них надели монашеское одеяние, они возмутились, совлекли с себя власяницы, объявили, что каждый день будут есть мясо. В конце концов Роман II приказал дать им то же содержание и разрешить тот же образ жизни, что и в Священном дворце. Тем не менее они навеки умерли для мира, и Феофано торжествовала. {150}
Из того, что она обошлась так с близкими родными, следует ли выводить, что она потом отравила своего мужа? "Большинство подозревает, – говорит один летописец, Лев Дьякон, – что ему был поднесен яд в гинекее". Это страшное обвинение ясно доказывает, на что считали современники способной Феофано, и действительно несомненно, что женщина, велевшая убить своего второго мужа, чтобы выйти замуж за третьего, легко могла бы отравить первого, чтобы выйти за второго. Несмотря на это и как ни важно свидетельство историка, обвинение это кажется совершенно нелепым. Прежде всего историки дали нам вполне удовлетворительное объяснение преждевременной смерти молодого императора, рано истощившегося от любви к удовольствиям и от всяких других излишеств, и тот же современник, припутывающий к этому делу яд, в другом месте говорит, что василевс умер от внутренних повреждений, случившихся после бешеной скачки. Но в особенности непонятно, какой интерес имела Феофано в гибели мужа. Она была императрица, она была всемогуща; она, кроме того, была в добрых отношениях с Романом, которому в течение шести с половиной лет замужества родила четырех детей; за два дня до смерти императора она родила дочь Анну. Зачем было ей отравлять царя, когда его смерть, оставляя ее одну с маленькими детьми, подвергала ее более, чем какие-либо другие обстоятельства, риску потерять внезапно столь любимую ею власть? Феофано была слишком умна, чтобы без причины подвергаться подобному риску.
Но следует обратить особое внимание на то, что в выше приведенных фактах нет ничего порочного, развратного или бесстыжего. Есть много данных предполагать, что молодая женщина вела себя безупречно, пока был жив Роман II. После смерти его она вышла замуж, главным образом по соображениям политическим, за человека лет на тридцать старше ее; в этом нет ничего особенно редкого или необычайного в жизни монархов или простых смертных; и не настаивая на том пункте, что это замужество являлось для Феофано, быть может, единственным средством сохранить престол для своих сыновей, во всяком случае, никак не следует порицать ее за то, что, по ее мнению, ради верховной власти стоило принести некоторые жертвы. Единственный важный упрек, какой ей можно сделать, это не то, что она пять лет спустя изменила этому старому мужу ради более молодого любовника – это явление прискорбное, но не удивительное, – а то, что она без всякого колебания, чтобы иметь возможность выйти замуж за любовника, решила избавиться от царя, своего мужа, путем страшного преступления. Но следует прибавить, что она жестоко искупила свое преступление. {151}
II
Когда 15 марта 963 года Роман умер почти внезапно, Феофано было двадцать два года. Она осталась одна с четырьмя детьми – двумя мальчиками и двумя девочками. Немедленно приняла она регентство и стала управлять от имени двух юных порфирородных: Василия, которому было тогда пять лет, и двухлетнего Константина; но положение ее было чрезвычайно трудное для женщины, особенно для женщины честолюбивой. Тут же при дворе находился всемогущий министр, паракимомен Иосиф Вринга, который деспотически управлял делами в царствование Романа и который мог легко подпасть искушению удалить регентшу, чтобы одному держать власть в своих руках в течение всего долгого малолетства маленьких василевсов. С другой стороны, во главе азиатской армии стоял победоносный полководец, честолюбие которого представляло для нее серьезную опасность, доместик схол Никифор Фока.
В описываемое нами время Никифор Фока был самым видным, самым популярным человеком в империи. Происходя из очень знатной аристократической каппадокийской фамилии, потомок целого ряда знаменитых военачальников, он блестящими победами еще увеличил свое обаяние и свою славу. У арабов ему удалось отнять Крит, утраченный сто пятьдесят лет тому назад; благодаря ему императорские знамена вновь появились в Киликии за пределами Тавра; он приступом взял большой город Алеппо и сломил гордость эмиров хамданидских в Сирии. Удивительный воин, искусный тактик, несравненный полководец, умевший говорить с войском и заставлять его всюду следовать за собой, куда бы только ни захотел повести его, он был кумиром солдат, с которыми делил все труды и все опасности. "Он жил только для войска", – справедливо заметил один из его биографов. Но не менее популярен был он и в Константинополе. Когда по возвращении из Критского похода он явился триумфатором на Ипподроме, город был поражен пышным блеском его торжественного шествия, "причем казалось, что все богатства Востока текут в цирк громадным, неиссякаемым потоком". Осыпанный не меньшими почестями, "чем в древние времена римские полководцы", несметно богатый и содержа в своих азиатских владениях громадное количество страстно преданных ему вассалов, он был всеми любим, им все восхищались; он считался единственным начальником, способным защищать империю против сарацин, и Роман II, умирая, отдал формальный приказ, чтобы за ним сохранено было главное командование армией.
Если в глазах политического деятеля такой человек мог казаться довольно опасным, надо сознаться, что в глазах молодой {152} женщины этот победоносный полководец не представлял ничего, что бы делало его сколько-нибудь похожим на героя романа. Никифору Фоке в 963 году было пятьдесят один год, и он не отличался красотой. Маленький, довольно толстый, с могучим торсом, коротконогий, он имел большую голову, лицо с загорелой темной кожей, обрамленное длинными черными волосами; у него был прямой нос, короткая, слегка уже седеющая борода, а из-под густых бровей черные глаза смотрели задумчиво и хмуро. Лиутпранд, епископ Кремонский, приехавший с посольством к его двору, сказал про него, что он был редкой дурноты, "с лицом, как у негра, до того черным, что, встретившись с ним ночью, можно было испугаться". При этом он был человек суровый и грубый, нрава меланхоличного и упорно молчаливого. С тех пор как он потерял жену и вследствие одного несчастного случая лишился единственного сына, он с страстным увлечением предался благочестию и мистицизму. Он дал обет целомудрия, не ел больше мяса, спал на жестком полу, как аскет, натянув на себя власяницу дяди своего Малеина, умершего монахом, прославившегося своей святостью; он любил проводить время с монахами. В духовные руководители себе он взял Афанасия, основателя древнейшего монастыря на Афоне, и, будучи не в состоянии обходиться без его советов, он всюду брал его с собой, даже на войну. В обществе этого святого человека он испытывал, подобно ему, стремление к отшельничеству и очень серьезно думал уйти из мира. Уж он велел себе строить келью при монастыре, сооружавшемся Афанасием на Святой горе (Афон). Аскет и воин, резкий, суровый и воздержный, жадный на деньги и бегущий всего земного, способный на милосердие, равно как и на коварство, Никифор Фока, подобно многим людям его времени, соединял в своей сложной душе самые неожиданные противоречия, и, что особенно замечательно, под его холодной внешностью таилось глубоко страстное сердце.
Был ли он честолюбив? Это очень трудно решить. Держа в своих руках преданное и победоносное войско, Никифор Фока мог при наступившем после смерти Романа II кризисе дерзнуть на все, и такое искушение было тем более велико, что интересы собственной безопасности, казалось, побуждали его поднять восстание. Полководец отлично знал, что Вринга его ненавидит и что он может всего опасаться от всесильного министра. Однако он сначала и шагу не сделал с этой целью как честный и благочестивый воин, озабоченный прежде всего тем, чтобы продолжать войну против неверных. И если он и решился наконец действовать в этом направлении, то главной причиной, побудившей его к тому, была Феофано. {153}
В истории отношений между Никифором Фокой и красавицей императрицей не следует видеть слишком много романического элемента. Несомненно, что, пока был жив Роман II, между доместиком схол и царицей не было ничего – ни симпатии, ни интриги. Но когда муж ее умер, регентша скоро поняла, что среди бесчисленных опасностей, угрожавших ей, этот полководец представлял из себя силу и что она могла этой силой воспользоваться, чтобы нейтрализовать честолюбие Вринги. Она поняла, что для упрочения за собой престола ей следовало иметь Никифора на своей стороне, и, конечно, такая хорошенькая и изящная женщина, как она, решила, что задача уж не из таких трудных. Как бы то ни было, по настоянию императрицы и несмотря на сопротивление первого министра, Фока был вызван в столицу, и, по-видимому, без большого труда царица заворожила его своей красотой и сделала своим сторонником. "Ни для кого не было тайной в Византии, – говорит Шлюмберже, что пленительные чары восхитительной царицы произвели на простую душу сурового доместика восточных схол неизгладимое впечатление". Можно действительно предполагать, хотя современники мало говорят об этом, что, войдя сначала просто в деловые и служебные сношения с регентшей, Никифор скоро открыл свою любовь и прямо заявил, что готов на все, лишь бы заслужить ее. Ничто не дает права думать, что Феофано платила ему тем же: она никогда его не любила; но она почувствовала силу, какой он располагал, и всю выгоду, какую она могла извлечь из нее для своих интересов и для своего честолюбия. Из политических видов она поощряла его страсть, точно так же, как из политических видов позже вышла за него замуж.
Необходимо прибавить, что во время этого пребывания в Константинополе еще другие причины, и не менее положительные, присоединились к обаянию Феофано, чтобы вывести Никифора из его колебаний и неуверенности. Он узнал, что Вринга питает к нему неумолимую ненависть. Конечно, первый министр не мог отказать полководцу в новом и блестящем триумфе. Но возрастающая популярность Фоки тревожила государственного мужа, кроме того подозревавшего, как говорили, интригу, начинавшуюся между доместиком схол и регентшей. Напрасно с самой коварной дипломатией, столь свойственной византийцам, старался Никифор усыпить опасения паракимомена; он, между прочим, заявлял всем, кто только хотел его слушать, что самая дорогая мечта его – уйти в монастырь. Но Врингу трудно было провести. Он решил, что самое верное средство отделаться от этого соперника было выколоть ему глаза. К счастью для Фоки, когда его под каким-то предлогом позвали во дворец, у него явилось подозрение или, быть может, он {154} получил вовремя какое-нибудь дружеское предостережение; он бросился в Великий храм (Святую Софию) и стал молить о защите патриарха. Полиевкт имел разные недостатки: он был упрям, непримирим, ума несколько ограниченного и недальнозоркого, но он в то же время был смел, умел говорить ясно и определенно и не любил первого министра. Он отправился в Священный дворец, потребовал, чтобы немедленно собрали сенат, и высказался с такой энергичной откровенностью, что Никифору вновь возвратили командование армией, предоставив ему чрезвычайные полномочия, несмотря на противодействие Вринги. Доместик схол немедля покинул город и отправился в главный штаб армии в Кесарию. Он был господином положения.
В этой глухой борьбе и в этих интригах Феофано открыто не появлялась. Тем не менее более чем вероятно, что она помогала своему союзнику своим влиянием и всеми силами поддерживала патриарха Полиевкта в его вмешательстве. Точно так же при дальнейших событиях, когда в июле 963 года обстоятельства принудили Фоку действовать открыто, когда все более и более грозила ему опасность со стороны ненавистного Вринги, так что приходилось опасаться за свою жизнь, и он, несмотря на нежелание, дал войску провозгласить себя царем и в Кесарийском лагере надел пурпуровые туфли; когда, наконец, в августе 963 года он явился под стенами Константинополя и возмутившийся народ, прогнав Врингу и его друзей, отворил узурпатору ворота столицы, Феофано и тут не играла никакой заметной роли и, казалось, предоставила совершаться судьбе. Но на самом деле, если Никифор Фока стал честолюбивым, если затем, несмотря на свои колебания и упреки совести, он решился облечься в порфиру, любовь, внушенная ему красавицей императрицей, играла тут главную роль. И точно так же в трагические августовские дни 963 года, в то время как возмутившаяся толпа, словно "охваченная безумием", избивала стражу министра и уничтожала его дворец, в то время как патриарх Полиевкт и прежний паракимомен Василий явно направляли движение в пользу претендента, по всей вероятности, из глубины гинекея Феофано тайно сносилась с предводителями восстания. Хотя ее имя не было произнесено нигде, эта женщина, честолюбивая и интриганка, была душой только что совершившихся великих событий.
Как бы то ни было, 16 августа 963 года утром Никифор Фока торжественно вступил в Константинополь. Верхом, одетый в парадное императорское одеяние, он въехал в Золотые ворота, встреченный всем городом, приветствуемый кликами народа, провозглашавшего его спасителем империи и христианства. "Государство {155} требует, чтобы Никифор был царем, – кричала на пути его восторженная толпа. – Дворец ожидает Никифора. Войско требует Никифора. Мир ждет Никифора. Таковы желания дворца, войска, сената, народа. Господь, услышь нас! Многая лета Никифору!" Средней улицей он достиг форума Константина, где с благоговением принял причастие в церкви Богородицы; затем пешком, в торжественном шествии, в то время как впереди несли святой крест, он отправился в Святую Софию и, встреченный патриархом, со свечами в руках пошел поклониться святому престолу. Затем вместе с Полиевктом он взошел на амвон и торжественно был венчан на царство ромейское в качестве соправителя двух юных императоров, Василия и Константина. Наконец, он вошел в Священный дворец. Чтобы быть вполне счастливым, ему оставалось получить только обещанную его честолюбию награду, самую сладкую, надежда на которую вооружила и подняла его руку и руководила его шагами: ему оставалось только жениться на Феофано.
Некоторые летописцы уверяют, однако, что императрица была сначала удалена из дворца по приказанию нового владыки. Если этот факт верен, тут, несомненно, было притворство: уже несколько месяцев как соумышленники поладили между собой. Никифор – это не подлежит никакому сомнению – был страстно влюблен в молодую женщину, и, кроме того, интересы государства побуждали его вступить в брак, узаконивавший до известной степени его узурпаторство. Феофано, хоть и не испытывала, может быть, как это утверждают некоторые писатели, никакого восторга от этого нового брака, хорошо сознавала со своей стороны, что это было для нее единственным средством сохранить власть, а для этого она была готова на все. Поэтому обоим союзникам нетрудно было уговорить друг друга. 20 сентября 963 года в Новой церкви было торжественно совершено бракосочетание.
Никифор был вне себя от радости. Он возвращался к жизни. Он забывал свое воздержание, свои мистические грезы, свои обеты, весь охваченный счастьем, какое ему доставляло обладание Феофано. Но друзья его, монахи, не забыли прошлого, как он. Когда в своем уединении на Афоне Афанасий узнал об императорской свадьбе, он глубоко возмутился и, обманутый в своих надеждах, решил отправиться в Константинополь. Принятый императором, он с обычной своей откровенностью начал его бранить и резко укорять за нарушение данного слова и за соблазн, им учиняемый. Фока постарался успокоить монаха. Он объяснил ему, что не для своего удовольствия согласился на царство, поклялся, что думает жить с Феофано, как брат с сестрой; он обещал ему, что, как только государственные дела позволят, он уйдет к монаху в его мона-{156}стырь. К этим прекрасным словам он присоединил богатые дары, и Афанасий, несколько умиротворенный, возвратился на Святую гору.
В Константинополе удивление, вызванное этим браком, было не менее сильно, и скандал еще больше. Патриарх Полиевкт, как известно, был человек добродетельный, суровый, мало снисходительный к делам этого мира, от которого совершенно отошел, заботясь единственно о предписаниях и интересах церкви, которую он обязан был охранять, служа ей со смелостью неукротимой, с упорством неодолимым и со страшной искренностью. Когда он стал патриархом, он прежде всего сделал строгий выговор императору Константину VII, такому благочестивому, так почитавшему все, касавшееся религии; на этот раз его строгая и горячая душа обнаружилась еще более резким образом. Не потому, чтобы он почувствовал какую-нибудь неприязнь к Никифору или возымел намерение противодействовать узурпатору: во время революции 963 года он выказал себя крайне преданным Фоке и его поведение немало способствовало падению Вринги и успеху доместика схол. Но по церковным канонам он считал недопустимым брак вдового царя с царицей-вдовой; и самым решительным образом, когда в Святой Софии Никифор хотел, согласно своей привилегии императора, пройти в алтарь и приобщиться там святых тайн, патриарх не дал ему причастия и, в виде епитимьи за его второй брак, не разрешил ему причащаться в течение целого года. Как ни разгневался царь, он должен был смириться перед непреклонной волей патриарха.