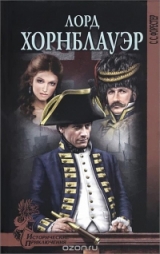
Текст книги "Лорд Хорнблауэр"
Автор книги: Сесил Скотт Форестер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2
Она ждала его прибытия на Бонд-стрит, спокойная и собранная, как и полагается той, что принадлежит к расе воинов, и позволила себе проронить одно только слово:
– Приказы?
– Да, – ответил Хорнблауэр, и затем позволил сдерживаемым эмоциям вырваться наружу, – да, дорогая.
– Когда?
– Я отплываю сегодня из Спитхеда. Мои приказы сейчас на подписи, я должен буду отбыть, как только их принесут мне сюда.
– Я догадывалась о чем-то подобном, как только увидела лицо Сент-Винсента. Так что я отослала Брауна в Смоллбридж, чтобы собрать твои вещи. Они скоро будут здесь.
Распорядительная, предусмотрительная, благоразумная Барбара! «Спасибо, дорогая!» – вот все, что он мог сказать. Даже теперь, после стольких лет с Барбарой, часто возникали непростые ситуации, когда чувства переполняли его, а он (возможно, по этой самой причине) не мог подобрать слов, чтобы выразить их.
– Можно ли спросить, куда ты отправляешься, дорогой?
– Я не вправе говорить об этом, – сказал Хорнблауэр, принудив себя улыбнуться. – Мне очень жаль, дорогая.
Барбара никому не скажет ни слова, ни жестом, ни намеком не выдаст, какого рода задание он получил, и все-таки, он не имел права ничего ей рассказать. Если слухи о мятеже все же просочатся, Барбара не должна быть ответственна за это, но истинная причина крылась в другом. Долг обязывал его хранить молчание, а долг не допускал исключений. Барбара живо улыбнулась в ответ, в знак того, что понимает веления долга, и занялась его шелковым плащом, расправив его складки так, чтобы он более изящно свисал с плеч.
– Жаль, – сказала она, – что в наши дни у человека так мало возможностей для того, чтобы одеваться красиво. Малиновый с белым так идет тебе, милый. Ты очень красивый мужчина – ты знаешь об этом?
В этот момент хрупкий искусственный барьер, возникший между ними, рухнул, лопнул, как мыльный пузырь. Он принадлежал к людям, которых необходимо постоянно убеждать в своей привязанности, предоставлять доказательства любви, однако жизнь в условиях строгой самодисциплины, во враждебном мире, делали затруднительным, почти не возможным признать существование подобного факта. Внутри него постоянно гнездился страх неудачи, отказа, иногда слишком сильный, чтобы позволить себе рискнуть. Он всегда был настороже по отношению к себе, к окружающему его миру. А она? Она знала об этих его ощущениях, хотя ее гордость восставала против них. Ее стоическое английское воспитание учило не доверять эмоциям и презирать любое проявление чувств. Она была такой же гордой, как и он. Ее могло возмущать чувство, что она полностью зависима от него в смысле обеспечения всем необходимым для жизни, его же негодование могло вызывать то, что без ее любви его жизнь была бы неполной. Они были двумя гордыми людьми, которые, в силу той или иной причины, стремились к сконцентрированной на себе самодостаточности в самом высоком ее выражении, попытки отказаться от которой требовали от них зачастую таких больших жертв, что пойти на них они были не готовы.
Однако в такие моменты, когда над ними нависала тень расставания, гордость и обидчивость исчезали, и они, сбросив окостеневший панцирь, выросший с годами вокруг них, могли позволить себе быть совершенно естественными. Он обнимал ее, а она, просунув руки под его плащ, могла сквозь тонкий шелк камзола ощущать тепло его тела. Она прижалась к нему с той же силой, с какой он сжимал ее в объятьях. В тот период не принято было носить корсет, и на ней был только легкий обруч из китового уса, поддерживающий платье в районе талии, так что его руки могли чувствовать ее тело – нежное и податливое, несмотря на хорошо развитую мускулатуру – результат езды верхом и долгих прогулок, которую он, наконец, научился считать достоинством для женского тела, в то время как ранее думал, что тому пристало быть мягким и слабым. Губы соединились в горячем поцелуе, потом их нежные взоры устремились друг к другу.
– Мой дорогой! Мой милый! – произнесла она, затем, приблизившись к его губам, она прошептала, с нежностью, которая может быть свойственна только женщине, не имеющей детей: «Дитя мое! Дорогое мое дитя!»
Это было самое важное, что она могла сказать ему. Сдавшись на ее милость, сняв с себя защитную броню, он в такой же степени желал быть ее ребенком, как и мужем, не осознавая того, ему хотелось быть уверенным в том, что по отношению к нему, беззащитному и нагому, она будет такой же преданной и верной, как мать к своему чаду, и не злоупотребит его беспомощным состоянием. Последние преграды исчезли, в момент наивысшего подъема страсти, которого им так редко удавалось достигнуть, они полностью растворились друг в друге. Ничто не могло остановить их сейчас. Сильные пальцы Хорнблауэра рвали шелковые шнурки, удерживавшие его плащ, непривычные застежки камзола, смешные завязки панталон – ему даже в голову не пришла мысль возиться с ними. Барбара целовала его руки, его красивые, длинные пальцы, воспоминание о которых так часто преследовало ее по ночам в то время, когда они были в разлуке, и это являло собой страсть в чистом ее выражении, без всякого символизма. Они были открыты друг для друга, любящие, свободные, раскованные. Они удивительным образом представляли собой единое целое, даже когда все было кончено: полны, но не пресыщены. Они оставались единым целым даже когда он, оставив ее лежать, бросил взгляд на зеркало, чтобы свою скудную шевелюру, взъерошенную самым невероятным образом.
Его мундир висел на двери в гардеробной – за то время, пока он был у Сент-Винсента, Барбара успела предусмотреть все. Он ополоснулся водой из тазика и вытер разгоряченное тело полотенцем. Омовение не было продиктовано необходимостью – он делал это просто ради удовольствия. Когда в дверь постучал дворецкий, он набросил поверх сорочки и брюк халат и вышел из комнаты. Доставили приказы. Он расписался в их получении, сломал печать и начал читать, чтобы убедиться, что нет никаких неясностей, которые необходимо было бы прояснить прежде, чем он покинет Лондон. Старые, привычные формулировки: «Сим вам предписывается и приказывается», «таким образом, вам неукоснительно надлежит» – такие же, с какими Нельсон отправлялся в бой при Трафальгаре, а Блэйк – при Тенерифе. Смысл приказов был ясен, а его наделение его полномочиями – неоспоримым. Если зачитать их вслух перед командой корабля, или военным трибуналом – они будут поняты с легкостью. Придется ли ему читать их когда-нибудь вслух? Это может подразумевать, что ему придется вступить в переговоры с мятежниками. Он был уполномочен на это, но это было бы показателем слабости, чем-то таким, что заставит флот нахмурить брови, и вызовет тень разочарования на суровом лице Сент-Винсента. Тем или иным способом, ему предстояло, с помощью уловок или хитростей, установить контроль над сотней английских моряков, которых высекут или повесят за то, что, как он прекрасно понимал, сам сделал бы на их месте, окажись он в таких же обстоятельствах. У него был долг, который ему надлежало исполнять: иногда его долг заключался в том, чтобы убивать французов, иногда в чем-то ином. Он предпочел бы убивать французов, если уж надо кого-нибудь убивать. И как, Бога ради, должен он поступить, чтобы выполнить предстоящую задачу?
Дверь ванной открылась, и вошла Барбара, сияющая и веселая. Как только их взгляды встретились, их чувства устремились навстречу друг другу – неизбежность физического расставания, озабоченность Хорнблауэра новой, не радующей его задачей, всего этого оказалось недостаточно, чтобы разрушить внутреннюю связь, установившуюся между ними. Они были едины более, чем когда-либо прежде, и понимали, это, счастливая пара. Хорнблауэр встал.
– Я должен отбыть через десять минут, – сказал он, – хочешь ли ты поехать вместе со мной до Смоллбриджа?
– Я надеялась, что ты попросишь меня об этом, – сказала Барбара.
Глава 3
Это была самая темная ночь, которую только можно было себе представить, и ветер, снова заходивший к западу, был наполовину штормовым, и обещал стать еще свежее. Он свистел вокруг Хорнблауэра, заставляя штанины, выпущенные поверх морских ботинок, трепетать, и рвал его плащ, в то время как всюду вокруг него в темноте стон снастей складывался в один сумасшедший хор, словно протестующий против человеческого безумия, отдающего хрупкое создание рук человеческих во власть свирепых сил стихии. Даже здесь, с подветренной стороны острова Уайт, Хорнблауэр, стоявший на крохотном квартердеке ощущал, каким невероятным образом раскачивается маленький бриг под его ногами. Кто-то, находившийся на ветер от Хорнблауэра, видимо, какой-то младший офицер, распекал матроса за некую неведомую ошибку, по временам крепкие словечки долетали до ушей Хорнблауэра. Только лунатику, думал Хорнблауэр, могут быть знакомы такие дикие контрасты, внезапные перемены настроений, стремительные перемены в состоянии окружающего мира. Правда, в этом случае меняется сам лунатик, в его же случае менялась окружающая его реальность. Еще этим утром, всего лишь двенадцать часов назад он, облаченный в малиновое с белым шелковое одеяние, сидел вместе с рыцарями ордена Бани в Вестминстерском аббатстве, предыдущим вечером он обедал с премьер-министром. Его обнимала Барбара, он жил в роскоши Бонд-стрит, и для того, чтобы удовлетворить любой каприз, который мог бы прийти ему в голову, стоило всего лишь дернуть за шнурок, висевший над его кроватью. Такая жизнь была подкупающе легкой – целая армия слуг пришла бы в неподдельное замешательство и беспокойство, если бы хоть самая ничтожная мелочь обеспокоила существование сэра Горацио (они произносили оба слова слитно, так что из них, в итоге, получилось некое причудливое новообразование вроде «Сэрорацио»). Все это лето Барбара ухаживала за ним, чтобы быть уверенной, что последние следы русского тифа, с которым он возвратился домой, исчезли. Держа за руку маленького Ричарда, он прогуливался по залитым солнцем садам в Смоллбридже, а садовники почтительно расступались перед ним и снимали шляпы. Он помнил тот замечательный вечер, когда они с Ричардом, лежа рядом на животах на берегу рыбного пруда, пытались поймать руками золотого карпа. Грязные, мокрые, и невероятно счастливые, в лучах закатного солнца они – он и его маленький сын, возвращались домой. Они тогда были так близки друг другу, как он с Барбарой этим утром. Счастливая жизнь, слишком счастливая.
Этим вечером в Смоллбридже, пока Браун и форейтор грузили его сундучок в экипаж, он прощался с Ричардом, пожав его руку, как мужчина мужчине.
– Ты опять идешь воевать, папа? – спросил Ричард.
Он сказал еще одно «прощай» Барбаре. Это было непросто. Если повезет, он может вернуться домой через неделю, однако он не мог говорить об этом, так как это могло открыть слишком многое из того, в чем заключается его миссия. Этот маленький обман поспособствовал тому, что ощущение единства и нераздельности было разбито вдребезги, он снова сделался немного отстраненным и официальным. Когда он отвернулся от нее, у него возникло странное чувство, что нечто утрачено навсегда. Потом он забрался в коляску, Браун уселся рядом с ним, и они поехали. Приближался вечер, когда они направлялись к Гилдфорду, огибая осенние холмы Даунса, а когда выехали на Портсмутскую дорогу – дорогу, по которой он ездил уже столько раз по разным причинам, наступила ночь. Переход от роскоши к трудностям оказался быстрым. В полночь он поднялся на палубу «Порта Коэльи», где его встретил Фримен, коренастый, плотный и смуглый, как и всегда, с прядями черных волос, ниспадающими на щеки, на цыганский манер – кто-то спросил однажды, почти удивленно, почему он не носит серьги в ушах. Хорнблауэру потребовалось не более десяти минут для того, чтобы, при условии соблюдения секретности, рассказать Фримену о сути миссии, которую предстоит выполнить «Порта Коэльи». Во исполнение приказов, полученных им за четыре часа до этого, Фримен уже приготовил бриг к выходу в море, и по истечение тех самых десяти минут моряки уже встали к кабестану, поднимая якорь.
– Ночка обещает быть веселенькой, сэр, – раздался из темноты голос Фримена, – барометр продолжает падать.
– Думаю, что так и будет, мистер Фримен.
Неожиданно голос Фримена загремел с силой, которую Хорнблауэр вряд ли когда раньше приходилось встречать: эта бочкообразная грудная клетка оказалась способной производить звук изумительной громкости.
– Мистер Карлоу! Отправьте всех убавить парусов! Убрать этот грот-стень-стаксель! Еще по рифу на марсели! Квартермейстер, курс зюйд-зюйд-ост.
– Зюйд-зюйд-ост, сэр.
Доски под ногами Хорнблауэра слегка завибрировали от топота матросов, пробежавших по палубе, других свидетельств тому, что приказ Фримена исполняется, в темноте невозможно было получить. Скрип блоков или уносился прочь ветром или тонул в завывании снастей, и он не мог разглядеть никого из тех, кто полез на мачты, чтобы взять рифы на марселях. Он замерз и устал после трудов дня, который начался – сейчас в это трудно было поверить – с прихода портного, наряжавшего его в церемониальное одеяние рыцаря ордена Бани.
– Я спущусь вниз, мистер Фримен, – сказал он, – позовите меня, если понадобится.
– Есть, сэр.
Фримен закрыл за ним крышку откидного люка, закрывавшую трап – «Порта Коэльи» была судном с плоской палубой, появился тусклый свет, освещавший ступеньки – свет хоть и слабый, но режущий глаз после непроглядной темноты ночи. Хорнблауэр спускался, согнувшись почти пополам, чтобы миновать палубные бимсы. Дверь справа вела в его кабину: квадрат со стороной в шесть футов и выстой в четыре фута и десять дюймов. Хорнблауэру пришлось присесть, чтобы избежать столкновения с лампой, подвешенной к потолку. Он знал, что теснота этого помещения, лучшего на корабле, ничто по сравнению с теми условиями, в которых живут остальные офицеры, и в двадцать раз более чем ничто по сравнению с условиями, в которых обитают матросы. Высота между палубами в передней части корабля такая же: четыре фута десять дюймов, а люди там спят в парусиновых койках, расположенных в два яруса – один над другим, так что носы спящих наверху трется о палубную переборку, а косицы нижних стучат по полу, а в середине носы и косицы соприкасаются. «Порта Коэльи» представляла собой в своем классе самую совершенную боевую машину, когда-либо бороздившую моря: она несла пушки, которые могли разнести в клочья любого противника ее размеров, ее боевые погреба обеспечивали ведение боя в течение нескольких часов или даже дней, запаса провизии было достаточно для того, чтобы находится в море несколько месяцев не приставая к земле, она была вполне надежной и крепкой для того, чтобы вынести любой шторм – единственное, что было не так, это то, что для достижения таких результатов при 190 тоннах ее водоизмещения, люди, населявшие ее, должны были довольствоваться жизнью в таких условия, которые ни один заботливый фермер не посчитал бы пригодными для своего скота. Именно ценой человеческой плоти и крови Англия содержала бесчисленное количество малых судов, которые, под прикрытием могучих линейных кораблей, делали моря безопасными для нее.
В каюте, хотя и крохотной, стояла невыносимая вонь. Первое, что ударило Хорнблауэру в ноздри, была копоть и угар от лампы, однако вскоре она была вытеснена целой гаммой дополнительных запахов. Здесь присутствовал легкий запах воды, скопившейся в трюме, по существу, почти не привлекший внимание Хорнблауэра, который привык к нему за двадцать лет службы. Присутствовал здесь въедливый аромат сыра, а если отбросить его прочь, то ощущался устойчивый крысиный запах. Пахло мокрой одеждой, и в конце-концов, здесь ощущалась целая смесь ароматов, присущих человеку, преобладал же давно укоренившийся запах немытого человеческого тела.
Эта смесь запахов дополнялась какофонией звуков. Каждая деревяшка резонировала в тон завываниям снастей такелажа: находясь внутри этой каюты, можно было сравнить себя с мышью, забравшейся в играющую скрипку. Постоянный топот ног на квартердеке и гул снастей делали это похожим (если уж продолжать сравнение) на то, как если бы по скрипке в то же самое время стучали маленькими молоточками. Деревянная обшивка брига стонала и скрипела при движениях судна, словно снаружи по ней стучал какой-то великан, и сложенные ядра тоже слегка ворочались при каждом движении, так что в самом конце схода с волны звучал неожиданный и торжественный глухой удар.
Едва Хорнблауэр вошел в каюту, «Порта Коэльи» внезапно дала неожиданно сильный крен: очевидно, именно в этот момент она вышла в открытые воды Канала, где западный бриз обрушился на нее со всей силой и положил на борт. Хорнблауэр был захвачен врасплох – процесс обретения «морских ног» после долгого пребывания на берегу всегда требовал времени – его бросило вперед, к счастью, по направлению к койке, на которую он рухнул лицом вниз. И пока он лежал, распластавшись, на койке, ухо его уловило смешанный звук – это не закрепленные должным образом различные предметы попадали со своих мест под воздействием этой первой большой волны. Хорнблауэр приподнялся в койке, ударился головой о палубный бимс, и в этот самый момент новый вал опять застал его врасплох. Он упал на жесткую подушку, и лежал, истекая потом во влажной духоте каюты, как по причине последних упражнений, так и из-за начинающейся морской болезни. Он смачно выругался, на этот раз от всего сердца, ненависть к этой войне, еще более сильная из-за осознания состояния совершенной безнадежности, бушевала внутри него. Он с трудом мог представить себе, что может быть заключен мир – в последний раз, когда не было войны, он был еще совсем ребенком, однако его охватило невыносимое желание мира, что выражалось бы в прекращении войны. Он устал от войны, устал чрезмерно, и усталость его делалась острее и горше с учетом результатов минувшего года. Новости о полном разгроме наполеоновской армии в России немедленно пробудили надежду на скорый мир, однако Франция не дрогнула, собрала новые армии, и остановила поток русского контрнаступления далеко от жизненного центра Империи. Знатоки указывали на жестокость и всеобъемлющий характер, который Наполеон придал призыву на военную службу, на тяжесть установленных им налогов, и предрекали скорый бунт внутри империи, за которым, возможно, последует переворот, устроенный генералами. С момента, когда эти предсказания должны были осуществиться, прошло десять месяцев, но не было никаких признаков, что это действительно произойдет. Когда Австрия и Швеция вступили в ряды противников Бонапарта, люди опять заговорили о скорой победе. Они надеялись, что невольные союзники Бонапарта – Дания, Голландия и другие, отпадут от альянса, что предопределит быстрое крушение Империи, и каждый раз терпели разочарование. Уже давно думающие люди предсказывали, что когда вихрь войны ворвется внутрь самой Империи, когда Бонапарт будет вынужден вести войну ради войны на земле своих собственных подданных, а не территории врагов или своих сателлитов, борьба должна будет прекратиться практически сама собой. И тем не менее, прошло три месяца с тех пор, как Веллингтон со стотысячной армией перешел через Пиренеи и пересек священную границу, но он, удерживаемый смертельной хваткой на далеком юге, все еще оставался в семистах милях от Парижа. Казалось, что ресурсам или решимости Бонапарта не будет конца.
Пребывавшему в состоянии отчаяния Хорнблауэру казалось, что война не кончится, пока в Европе жив хоть один человек, пока все ресурсы Англии не будут поглощены без остатка, а в отношении себя он думал, что пока преклонный возраст не позволит ему уйти в отставку, он будет обречен, по безумной воле одного единственного человека, ограничивать свою свободу, проводить свои дни и ночи в таких вот невыносимых условиях, оторванный от жены и сына, замерзший, измученный морской болезнью, подавленный и несчастный. Наверное, в первый раз в жизни он начал желать, чтобы произошло чудо, или чтобы удача неожиданно повернулась к ним лицом: может, случайная пуля сразит Бонапарта, или какая-нибудь неисправимая ошибка позволит одержать неоспоримую и решительную победу, или жители Парижа совершат успешное восстание против тирана, или во Франции случится неурожай, или маршалы, желая сохранить свои богатства, выступят против императора и смогут увлечь за собой солдат. Но он знал, что любое из этих событий крайне маловероятно, борьба будет продолжаться, а он должен будет оставаться страдающим морской болезнью заключенным, закованным в цепи дисциплины, до седых волос.
С трудом открыв глаза, он увидел стоящего над ним Брауна.
– Я стучал, сэр, но вы не слышали.
– В чем дело?
– Могу я чего-нибудь принести вам, сэр? Они собираются потушить огонь на камбузе. Чашку кофе, сэр? Чай? Горячий грог?
Добрая порция ликера могла бы помочь ему заснуть, изгнать гнетущие и мрачные мысли, дала бы возможность немного отдохнуть от черной депрессии, охватившей его. Хорнблауэр поймал себя на мысли, что всерьез размышляет о том, не поддаться ли искушению, и не на шутку разозлился на себя. То, что он, кто уже лет двадцать не пил для того, чтобы напиться, кто ненавидел хмель в себе даже больше, чем в других людях, внутренне позволил, пусть даже на мгновение, одобрить такую идею, усилило его чувство отвращения к себе. Этот новый порок, о существовании которого он не догадывался, отягчался осознанием того, что на него возложена секретная миссия большой важности, для исполнения которой ясная голова и здравый рассудок имеют жизненно важное значение. Его охватил приступ острого презрения к себе.
– Нет, – сказал он, – я поднимаюсь обратно на палубу.
Он спустил ноги с койки. «Порта Коэльи» теперь была уже далеко в открытом море, и раскачивалась и ныряла как сумасшедшая на резких волнах Канала. Дувший с кормы ветер накренил ее так, что когда Хорнблауэр поднялся, он соскользнул бы к противоположной переборке, если бы сильная рука Брауна не подхватила его. «Морские ноги» никогда не изменяли Брауну, Браун никогда не болел, Браун в избытке обладал той физической силой, к которой так стремился Хорнблауэр. Браун, широко расставив ноги, стоял незыблемо, как скала, почти не обращая внимания на пируэты брига, в то время как Хорнблауэр едва держался на ногах. Он бы ударился головой о качающуюся лампу, если Браун, положив руку ему на плечо, не защитил его.
– Жуткая ночка, сэр, и должно быть, станет еще хуже, прежде чем дело пойдет на лад.
Всегда найдутся какие-нибудь утешители. Будучи в плохом настроении, Хорнблауэр буркнул что-то в адрес Брауна, и его настроение только ухудшилось при виде того, что Браун склонен принимать все это философски. Его жутко злило, что с ним обращаются как с расплакавшимся ребенком.
– Оденьте лучше тот шарф, который вам связала Ее светлость, сэр, – продолжал Браун, как ни в чем не бывало. – Утром будет чертовски холодно.
В одно движение он выдвинул ящик и достал шарф. Последний представлял собой квадрат из бесценного шелка, легкого и теплого, это была возможно, самая дорогая вещь, которой владел Хорнблауэр, принимая в расчет даже шпагу за сто гиней. Барбара вышила его, что стоило ей невероятных мучений, так как она ненавидела работать иглой и наперстком, и тот факт, что она сделала это, был самым ценным ее комплиментом в адрес Хорнблауэра. Хорнблауэр обернул им шею под воротником бушлата и остался очень доволен теплом и мягкостью, а также мыслями о Барбаре, которые возникли при этом. Собравшись с силами, он двинулся к двери, и преодолел пять ступенек, ведущих на квартердек.
Здесь царила непроглядная тьма, и после пусть жалкого, но света каюты, Хорнблауэр почувствовал, что ослеп. Вокруг свирепо завывал ветер, чтобы противостоять его напору, он вынужден был склониться. «Порта Коэльи» лежала почти на борту, хотя ветер был не с траверза, а с кормы. Качка была и бортовой и килевой. Брызги и пена, смешанные с дождем, лившимся на палубу, хлестали в лицо Хорнблауэру, пока тот пытался пробраться в относительно спокойное место. Даже когда его глаза привыкли к темноте, он едва смог различить смутно видневшийся угол зарифленного грот-марселя. Суденышко плясало под его ногами, словно взбесившаяся лошадь – море было бурным – даже через гул шторма Хорнблауэр слышал, как скрипят тросы рулевого привода, когда квартирмейстер поворачивал штурвал, чтобы удержать корабль на курсе. Хорнблауэр чувствовал, что Фримен где-то рядом, но не обращал на него внимания. Говорить было не о чем, а если бы и было о чем, то рев ветра сделал бы это весьма затруднительным. Он пропустил локоть через коечную сеть, чтобы стоять увереннее, и стал вглядываться во тьму.
На верхушке каждой волны, прямо перед тем, как «Порта Коэльи» взбиралась на нее, можно было различить пенный гребень. Впереди матросы работали на помпе: Хорнблауэр слышал разделенный промежутками времени глухой стук. В этом не было ничего необычного, так как при такой интенсивной качке швы должны были то сходиться, то расходиться, словно жующие челюсти. Где-то в темноте ночи, должно быть, плывут корабли, влекомые штормом, где-то суда выбрасывает на берег, и моряки гибнут в волнах прибоя, а этот безжалостный ветер ревет над ними. Дрейфуют якоря и рвутся канаты. И этот самый ветер проносится над жалкими бивуаками охваченной войной Европы. Миллион безымянных солдат, в недавнем прошлом простых крестьян, грудясь у огонька походных костров, которые им едва удается поддерживать, будет клясть этот ветер и дождь, лежа без сна в ожидании завтрашней битвы. Интересно, что именно от них, неисчислимого количества неизвестных, зависит, в значительной степени, его освобождение из сегодняшнего рабства. Накатил приступ морской болезни, и его вырвало в шпигаты.
Фримен что-то сказал ему, но разобрать слова было невозможно. Фримен вынужден был закричать громче.
– Мне кажется, я должен лечь в дрейф, сэр.
Фримен говорил сдержанно, несколько стесняясь. Положение его было непростым: согласно морским обычаям и законам он являлся капитаном этого корабля, и Хорнблауэр, пусть и стоявший на много рангов выше его, был не более чем пассажир. Только адмирал мог принять на себя командование в присутствии назначенного для этого офицера без долгих и сложных формальностей, капитан, даже имевший ранг коммодора, как, например, Хорнблауэр, не был в праве этого делать. С точки зрения положение, прописанных в Своде Законов Военного Времени, Хорнблауэр мог руководить только действиями «Порта Коэльи», то же, каким образом будут выполняться приказы, отданные Хорнблауэром, Фримен определял единолично. Формально, у Фримена имелось полное право решать, ложиться в дрейф или нет, однако вряд ли хоть один лейтенант, командующий восемнадцатипушечным бригом, позволил бы себе хладнокровно проигнорировать мнение коммодора, находящегося на борту, особенно если этим коммодором являлся Хорнблауэр, имеющий репутацию человека, нетерпимо относящегося к промедлениям и задержкам, возникающим при выполнении поставленной перед ним задачи. В любом случае, ни один лейтенант, думающий о своем будущем, не станет так поступать. Несмотря на тошноту, Хорнблауэр усмехнулся про себя, размышляя над дилеммой, стоящей перед Фрименом.
– Если вы хотите, то можете лечь в дрейф, мистер Фримен, – прокричал он в ответ, и Фримен тут же стал отдавать приказания через рупор:
– Лечь в дрейф! Убрать фор-марсель! Поднять грот-стень-стаксель. Квартермейстер, привести судно к ветру.
– Есть привести судно к ветру, сэр.
Спуск фор-марселя уменьшил давление на судно, а подъем стакселя сделал его более управляемым, а затем оно привелось к ветру. До того времени корабль пытался противостоять ветру, теперь же он покорился ему, как женщина уступает напору настойчивого возлюбленного. Судно встало на ровный киль, повернувшись к резким волнам правой скулой, ритмично опускаясь и поднимаясь на них, в то время как раньше металось самым непредсказуемым образом на волнах, заходивших с кормы. Грот-ванты правого борта образовали собой нечто вроде укрытия для Хорнблауэра, стоявшего за фальшбортом, так что казалось, что сама сила ветра несколько уменьшилась.








