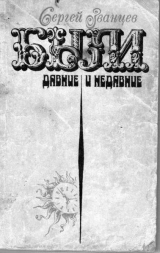
Текст книги "Омоложение доктора Линевича"
Автор книги: Сергей Званцев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Позор! – крикнул старческий голос.
Все смотрели в сторону ректора. Николай Иванович вскочил, красный и потный, и хотел, видимо, крикнуть еще что-то, но Котов, сидевший рядом, усадил его. Курицын, понимая, что он пошел ва-банк, взял еще более высокую ноту. Он уже утверждал, что «лично и воочию убедился» в том, что присутствующий здесь якобы племянник доктора Линевича и есть доктор Линевич, вернувшийся к юношескому возрасту, и что, в сущности, «наука давно уже ждала этого логического шага». «Если бы не доктор Линевич, то кто-то другой, вопреки консерватору от науки Орловскому, – тут Анатолий Степанович впервые назвал ректора по фамилии, – обязательно нашел бы научное средство омоложения!» – закончил он под неожиданно жидкие аплодисменты свою горячую, по очень обдуманную речь.
Сойдя с кафедры, Курицын направился было к «ложе ученых», но круто повернул и уселся в первом ряду.
Слово взял Котов. Орловский с надеждой смотрел на него, пока тот под возбужденный шум зала шел к кафедре. И окончательно сник, когда услышал речь своего доцента.
Котов явно не взял курс своего шефа на удар по «ненаучным разговорчикам», он говорил горячо и довольно путано.
– Товарищи! – сказал он. – Знаете, что я вычитал у Горького? «Идея бессмертия плоти явно научного происхождения». А? Каково? Никаких фатальных запретов, которые помешали бы задержать увядание человека. Вспомним опыты итальянца Петруччи над выращиванием человеческого зародыша вне тела женщины, разве это не доказывает, что люди научатся выращивать в питательной среде отдельные органы для замены увядших? Пойдет ли наука борьбы со старостью именно этим путем или путем, предлагаемым… вот этим молодым человеком, я не знаю. На днях я прочел в одном литературном журнале любопытные строки известного научного популяризатора: «Человек сможет жить неограниченно долго. Старость исчезнет, а вопрос о пределе жизни будет решаться людьми будущего». Впрочем, это пишет неспециалист.
Котов спрятал в карман бумажку с цитатой и продолжал:
– Какое все это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? А то отношение, что прежде всего мы недопустим никакого легкомыслия в изучении проблемы. Без лишнего скептицизма, обычно диктуемого недоброжелательством к ученому открытию, но и без детского легковерия – вот то отношение, которое я призываю проявить к заявлению молодого человека, именующего себя доктором Линевичем.
Раздались сдержанные хлопки.
Несмотря на неприятно прозвучавшие слова «именующий себя доктором Линевичем», Петр Эдуардович был на седьмом небе. Он ерзал на стуле, что-то возбужденно выкрикивал, вообще вел себя крайне легкомысленно и даже непоследовательно, что ему в бытность доктором Линевичем не было свойственно. И вдруг случилось нечто очень важное и притом неприятное. Он заметил, что соседка как-то сжалась, стараясь отодвинуться подальше от него.
Кажется, только сейчас Майя полностью осознала, что этот симпатичный рыжий юноша – вовсе не юноша, а старик, который по возрасту годится ей даже не в отцы, а в дедушки. Он принял обличив молодого человека? Она была готова в это верить, хотя… В это верит, к сожалению, и заместитель ректора Курицын – или лжет, что верит, а все студенты, в том числе и Майя, знали, что Курицын – карьерист. Очень странно… и подозрительно, что он вдруг стал выкладываться в защиту непроверенного дела. Ведь с такой прямолинейностью не выступил больше никто ни из студентов, ни из преподавателей. В том числе и отец. Ну конечно, все это из-за Курицына. Никому неохота записываться в союзники к подонку. Никому? А вот как будто попросил слово Игорь Григорьевич. Да, он уже поднимается на кафедру! Под аплодисменты всех студентов и некоторых из преподавателей немолодой, с бородкой, профессор патологоанатом Кирсанов. Этот скажет!
В зале пронесся приветственный шумок, когда Кирсанов, лицом похожий на Тимирязева, взошел на кафедру, выпрямился во весь свой немалый рост и сказал без улыбки:
– Так в чем, собственно, дело? Нас уверяют, что ушедший на пенсию врач-ассистент Линевич, шестидесяти семи лет, – вот он.
Кирсанов сделал жест в сторону вставшего от волнения Линевича, и все в зале повернулись в его сторону.
– Маловероятно! – продолжал оратор, внимательно вглядевшись в стоявшего, как напоказ, Петра Эдуардовича. – Но… Если обратное развитие старческих явлений действительно открыто – в чем же дело? Нам остается проверить этот метод в строго научных условиях, в одной из клиник под наблюдением профессоров-специалистов.
– А если не выйдет? – раздался чей-то взволнованный голос.
– Если не выйдет, – подхватил тотчас Кирсанов, – стало быть, чепуха. Это только о спиритизме говорили наши деды: нужны, мол, особые условия благоприятствования, тогда сила спиритизма проявится. А в науке этой мистики нет. Если метод строго научен, он не должен дать осечки!
– И не даст! – крикнул задорно Линевич.
– Теперь вопрос в том, кого же подвергнуть этому… гм… лечению? – продолжал Кирсанов ровным голосом, игнорируя восклицание Линевича. – Ловить на улице стариков мы не станем. – Он строго посмотрел на засмеявшихся слушателей. – Дело это сугубо добровольное. Многие старики и не захотят повторять всю волынку сначала. Что?
Курицын увидел, что, так сказать, инициатива как-то уходит из его рук. Собираются производить повторный опыт… А его выступление уже забыто? Нет, не выйдет!
Он вскочил и закричал:
– Кто же из пожилых людей откажется вернуться к молодости, чтобы еще энергичнее участвовать в строительстве нашего общества?! Профессор Кирсанов проявляет неверие в инициативу масс!
Кирсанов, не оборачиваясь в сторону возбужденно машущего руками Курицына, отчетливо сказал:
– Правильно замечено. Вот я и предлагаю профессору Курицыну добровольно подвергнуться терапии омоложения!
В зале грохнул хохот. Курицын ошеломленно замолчал, потом обиженно крикнул:
– Мне вовсе незачем омоложаться! Я не старик!
– Но и не юноша, – спокойно возразил Кирсанов. – В ваши пятьдесят четыре года…
– Пятьдесят три! – крикнул разозленный Курицын.
– Ну, и в пятьдесят три организм достаточно изношен и требует омоложения. Тем более если человек собирается взвалить себе на плечи ректорские обязанности, – добавил оратор, и тотчас возникло то, что в стенограммах именуется «оживлением в зале».
– Вы же сами, Анатолий Степанович, – обратился Кирсанов к Курицыну с хорошо имитированным изумлением, – ратовали тут за метод Линевича, почему же не хотите помочь этому методу личным участием в опытах? Может быть, вы перешли на другие позиции? Может быть, возражения нашего ректора профессора Орловского с опозданием, но все-таки дошли до вас и вызвали отрицательную реакцию на мое предложение?
– Нет! – в отчаянии крикнул припертый к стене Курицын. – Я согласен!
В зале раздались бурные аплодисменты. Курицын кланялся, кисло улыбаясь.
Рабочий день районного прокурора хлопотлив и напряжен. Очередным посетителем был заведующий столовой, той самой, сидя в которой омоложенный Линевич писал сам себе разрешение на занятие комнаты.
– Скажите, – спросил прокурор, – меню у вас пишется задолго до того дня, когда оно, так сказать, входит в законную силу?
Он вынул из ящика стола и показал полученное им от Линевича измятое меню.
– Видите? Дата – двадцать второе мая, а дата письма, написанного на обороте, – пятнадцатое. На семь дней раньше. Как это могло случиться, не поможете ли понять?
Посетитель, щуплый человечек неопределенного возраста, помолчал, поморгал глазками и, вздохнув тяжело, промолвил:
– Мы, гражданин прокурор, пишем меню под копирку на месяц вперед.
– Позвольте, а даты?
– Даты мы проставляем тоже за месяц вперед. Тридцать меню, ну, мы ставим первое число, второе, двадцать второе… Проявляем заботу о посетителе.
– Ах, так! Стало быть, вы изо дня в день не меняете подаваемые блюда? – воскликнул прокурор. – Да как же так? А указания, чтобы вы разнообразили стол?! Позвольте! – Тут уж прокурор вскричал совсем сердито: – Вам-то отпускают, я знаю, и свежий творог и фруктовые соки, а здесь, в этом неизменном меню, я всего этого не вижу!
«Так и есть! – горестно подумал завстоловой. – Меню и дата – это и был крючок а я, идиот, не понял и попался!»
– Творог на базе кислый, а соки… не в спросе, – сказал заведующий охрипшим голосом. Он старался смотреть в глаза помрачневшему прокурору.
– Хорошо, идите, – сказал после паузы прокурор. – Мы еще вернемся к этому разговору…
«Обрадовал!» – подумал с горечью завстоловой, удаляясь.
Потом прокурор принимал других посетителей. Следующим был весьма пожилой человек, державшийся необыкновенно почтительно.
– Фисташков Юрий Юрьевич, – представился он с порога отчетливо. При этом он вытянул руки по швам, точно солдат.
– Заходите, садитесь, – пригласил его прокурор.
Но Фисташков счел, что представился не полиостью.
– Пенсионер по старости, а в прошлом – увы, далеком прошлом – юрисконсульт хозяйственных органов.
Теперь он нашел возможным пройти внутрь кабинета и сесть на стул перед прокурорским столом.
– Нуте-с? – несколько нетерпеливо спросил прокурор, потому что пауза затягивалась.
Фисташков сказал замогильным голосом:
– Принес повинную, гражданин прокурор. Диссертации писал!
«Сумасшедший! – подумал прокурор. – Хотя, в общем… не похоже!»
– Писать диссертации, сначала кандидатскую, потом докторскую, – дело почетное, – подал реплику прокурор, внимательно приглядываясь к Фисташкову.
– Одну – это точно, притом ежели для себя, – подтвердил Фисташков.
– А вы… разве для других? – спросил прокурор.
– Сорок две кандидатские и четыре докторские, – опустил голову посетитель. – Из них шесть исторических, пять экономических, две географических, тринадцать математических, остальные медицинские… Многие провалились, но все-таки… Дикси эт анимум левави! Сказал и облегчил душу!
«Нет, он все-таки сумасшедший, – решил прокурор. – Воображает себя небывалым ученым».
– Широкие у вас познания, – оглядываясь на дверь, сказал ласково прокурор. – Вы бы пошли погулять, рассеяться… Шутка ли, сколько наук превзошли!
– И удивительное дело, ни одной юридической, хотя я именно юрист по образованию, – грустно констатировал Фисташков. – Вот что странно! Пожалуй, это потому, что юристы обычно сами хорошо владеют пером…
– Да-да, юристы – они, конечно… – поспешно согласился прокурор. – Стилисты, так сказать.
– А вот возьмите медиков, – продолжал Фисташков. – Пишут длинные предложения! Учитывая да принимая во внимание, да еще цитату приведут, и опять учитывая, – и все в одной фразе. Ну, упрощаешь, конечно, вносишь четкость, опять же абзацы проставляешь, – в общем, работы уйма. Учтите, гражданин прокурор, если вдуматься, работа эта очень дешево ценится. А ведь не спекуляция, честная работа, не правда ли?
Прокурор твердо решил соглашаться во всем, пока не подоспеет помощь. Каждую минуту к нему должна подойти секретарша с бумагами на подпись.
– Очень честная, – горячо подтвердил прокурор. – Очень!
– Вот я и говорю, – обрадовался Фисташков, не ожидавший такой сговорчивости со стороны прокурора. – А этот дурак фининспектор смотрит иначе. Ежели вы, гражданин Фисташков, – это он говорит, – занимаетесь незаконным промыслом, выправляете за деньги ученым их диссертации, то за ваш незаконный промысел я вас прежде всего оштрафую, а потом заставлю платить подоходный. Ну, подоходный – куда ни шло – я готов, хотя, конечно, учтите мой возраст и мою, так сказать, небольшую пропускную способность. А за что штраф? За мой честный труд?
– Ах, так вот в чем дело! – со вздохом облегчения воскликнул прокурор.
– Именно в этом, – несколько удивился Фисташков, – а я о чем толкую? Да я вам больше скажу: провокаторов ко мне подсылают.
– Провокаторов?
– Да-с! Намедни подъехал ко мне какой-то рыжий хлюст: я, говорит, доктора Линевича сын, не дадите ли заработать? Ну я ему: вот, говорю, бог, а вот и порог.
Прокурор откинулся на спинку кресла и больно ударился головой.
– Что? – сердито спросил он. – Может быть, племянник?
– Нет, сын, – твердо стоял на своем Фисташков. – Я его папашу знавал, и в самом деле есть сходство. Может, и вправду сын? Нехорошим же делом он занялся! А в общем… Я готов на общественных началах!
– Что – на общественных началах?
– Исправлять ученым их диссертации… ну, и писать для совсем отсталых. У меня всегда была общественная жилка!
Прокурор сдержал смех и, отклонив предложение, посоветовал посетителю обратиться в финотдел, который имеет право по закону снять штраф, если найдет к этому основания.
– Кто ищет, тот всегда найдет, – грустно вздохнул Фисташков, поднимаясь. – А кто не ищет, никогда не найдет. А собственно, зачем финотделу искать основания не штрафовать?!
Хозяйством старого холостяка профессора Кирсанова ведала его вдовая старшая сестра, Анна Григорьевна, врач-гинеколог, уже несколько лет тому назад оставившая работу. Кирсанов относился к сестре заботливо, но частенько подтрунивал над ее чрезмерным пристрастием к научному мышлению.
В это утро Кирсанов и Анна Григорьевна сидели за утренним столом. Кирсанов пил уже вторую чашку крепкого кофе и читал третью газету. Его сестра позавтракала раньше.
– Немецкий медицинский журнал, – нарушила наскучившее ей молчание Анна Григорьевна, полная, добродушная женщина в очках, с пышной прической неестественно черных волос, – приводит мнение авторитета: кофе является частой причиной сердечно-сосудистых заболеваний и снижает среднюю продолжительность жизни.
Кирсанов покосился на сестру из-за газеты и, усмехнувшись, спросил:
– Какой журнал? Гинекологический?
Анна Григорьевна, чтобы не рассердиться, посчитала в уме до двадцати пяти и только тогда возразила:
– Ты отлично знаешь, что медицина едина и что сердечно-сосудистые заболевания – враг номер один… Кто там может быть?
Это относилось уже к раздавшемуся в парадном звонку. Кирсанов тоже прислушался. Кто-то глухо за стеной сказал: «Дома, пожалуйте». Дверь в столовую открылась, и вошел Курицын.
– Приятного аппетита! – бодро воскликнул с порога проректор.
Он приблизился и поцеловал ручку Анне Григорьевне.
– Прошу, садитесь, – холодно сказал Кирсанов. – Или у вас секретное?
– Никак нет! – весело воскликнул Курицын. – Напротив, я очень рад, что застал вас обоих – воедино. Кажется, впрочем, точнее сказать – вкупе?
– Именно вкупе, – еще холоднее отозвался Кирсанов, особенно не терпевший ерничество «этого наглого типа». – Впрочем, чем могу?
Курицын уселся накрепко, точно собираясь пробыть здесь немало времени, и начал свою, видимо заранее заготовленную, речь;
– Самое важное для нас, ученых, – это интересы науки, не правда ли, добрейший Игорь Григорьевич?
Кирсанов промолчал, но Курицын не сбился.
– А интересы науки в данном случае требуют, – продолжал он, – научно поставленного опыта омоложения. Ведь так?
– Омоложения? – вдруг заинтересовалась Анна Григорьевна, очнувшись от задумчивости, которая после еды частенько переходила у нее в дрему.
– Да, дорогой доктор, да! – воскликнул Курицын. – Омоложения! Неужто Игорь Григорьевич не посвятил вас в нашу институтскую сенсацию? Омолодился доктор Линевич!
– Кто бы мог от него ожидать? – изумилась Анна Григорьевна. – Такой приличный, тихий человек…
– Я не вижу в этом никакого неприличия, – заметил недобрым голосом Кирсанов. Иго начал всерьез злить развязный тон непрошеного гостя.
А тот продолжал разливаться соловьем:
– Ну, посудите сами, гожусь ли я для, так сказать, научной перепроверки открытия Линевича? Я и без омоложения не так уж стар, эксперимент будет не яркий, не убедительный, дорогой Игорь Григорьевич. А вот если, допустим…
Он посмотрел своими колючими глазками на Анну Григорьевну, заставив ее заерзать от волнения и посчитать про себя на этот раз до тридцати…
– Допустим, если мы попросим дорогую Анну Григорьевну… Благоприятный эффект опыта был бы крайне убедителен. Разве нет?
– …Двадцать! – крикнула Анна Григорьевна, хотя вовсе не собиралась этого делать. Она вновь считала про себя, борясь с новым волнением, вызванным прямым предложением ее омолодить, ей хотелось сказать: «Согласна!», но вместо этого слова выскочила цифра. Ах, склероз, склероз! Она поспешила вступить в разговор, чтобы смягчить конфуз.
– Неужели Линевич в самом деле омолодился? – спросила Анна Григорьевна. – Он стал совсем молодой? Стройный?
– Да-да! – нетерпеливо воскликнул Курицын. – Так как же, Игорь Григорьевич? Неужели в угоду… гм… личным чувствам и настроениям вы предпочитаете подвергнуть меня опыту омоложения, в то время как…
– Хорошо! – твердо сказал Кирсанов. – Вы правы: успех опыта, произведенного над людьми более старыми, чем вы, дорогого стоит. Но нам интересно узнать о сравнительном воздействии способа Линевича на различные возрасты. Поэтому сделаем так: опыту сначала подвергнетесь вы, а уж потом Анна Григорьевна, если она пожелает, конечно. Ясно?
Курицын ушел взбешенный.
Именно сегодня, когда Беседин решил побывать в медицинском институте, его затерло. В сущности, посетителей собралось совсем немного, их было трое, и все они пришли по одному и тому же поводу. Однако повод оказался сложным.
Дачевладельцы обратились в редакцию с горькой жалобой на местный Совет. Деньги, предназначенные на строительство автомобильного шоссе из поселка в город, пошли на «посторонние нужды».
– На какие же именно? – поинтересовался Беседин.
У его стола сидели двое среднего возраста мужчин и дама, пожалуй, немного выше среднего возраста. Среди них верховодил, видимо, мужчина постарше, с брюшком, произнесший высоким голосом ясно и чеканно: «Подполковник юстиции в отставке Крутиков. А это – товарищ Лобойко, в прошлом хозяйственник, и вот эта гражданочка – Елизавета Федоровна Гнушевич».
Рода занятий или социального положения дамы бывший юрист не назвал. Мадам Гнушевич, когда ее представляли, воссияла золотой улыбкой (речь идет о золоте коронок) и даже, кажется, сделала Беседину глазки, сильно подведенные и сверх того – удлиненные вправо и влево черным карандашом.
– Позвольте мне… – тотчас отозвался на вопрос Крутиков, – уважаемый Вячеслав Дмитриевич («Откуда он узнал, как меня зовут? Видно, проныра!»). Партийный журналист обязан прислушиваться к требованиям масс. Массы требуют строительства шоссе!
– Вы все-таки мне не сказали, на какие нужды местный Совет решил потратить деньги? – заметил Беседин.
– Не знаем, – развел руками Крутиков. – Так вот, позвольте дальше…
Беседин взялся за телефонную трубку.
– Кажется, на устройство детского садика, – поспешно сказал Крутиков.
Беседин положил трубку на место и внимательно посмотрел на этого гладкого, самоуверенного человека с толстой шеей и выпуклыми маловыразительными глазами. А тот, нимало не смущаясь, продолжал:
– План есть план, не правда ли, уважаемый Вячеслав Дмитриевич? А по плану, утвержденному надлежащими инстанциями, в данном случае предусмотрено именно строительство шоссе, а не садика. Такое наплевательское отношение к плановому началу в нашем социалистическом хозяйстве…
– Если бы знать – я бы и дачи там не покупал! – выпалил весь красный от душившего его негодования второй из жалобщиков, Лобойко – тот, которого Крутиков назвал бывшим хозяйственником.
Беседин спросил:
– А кстати: почему же бывший? Вы, товарищ Лобойко, далеко еще не стары, зачем же вас зачислили в бывшие?
Лобойко пошевелил пальцами коротких рук, беспомощно посмотрел в глаза насупившемуся Крутикову, помял руками свое и без того какое-то мягкое бледное лицо и, сам того не замечая, ответил почти в точности словами Чичикова:
– Много врагов имею. По причине врагов вынужден был…
– Ага, так-так, – быстро сказал Беседин, оживляясь, – ну, что же дальше?
– Дальше от вас зависит, – несколько саркастически ответил Крутиков. – Мне кажется, любимая наша печать должна вмешаться и одернуть тех, которые…
– У вас тоже там дача? – обратился Беседин к мадам Гнушевич, которая во время разговора ерзала на стуле, явно стремясь вставить и свое слово.
Она быстро застрекотала:
– У меня ничего, кроме любви к искусству, я – модельер дамских шляп! У моего будущего мужа действительно имеется в дачном поселке небольшой сад, но со сторожкой, разумеется.
Беседин не без присущей ему едкости спросил:
– А в сторожке той четыре комнаты, ванная и туалет?
Гнушевич неожиданно сконфузилась:
– Простите, я была у него только в гостиной.
Крутиков процедил сквозь зубы (он, видимо, понял, что дело не выгорит):
– Однако!
– Я не понимаю, что плохого, – в тон ему подал голос Лобойко, – если в квартире имеется гигиенический санитарный узел?! Мы все – за гигиену!
– Святая правда, – согласился повеселевший Беседин. – Ну-с, так вот что, товарищи гигиенисты… Детский садик, по-моему, нужнее, чем дорога для ваших автомобилей. Ясно?
– Ясно, – недобрым голосом подтвердил, вставая, Крутиков. За ним поднялись и остальные. – Я буду жаловаться редактору на ваше отношение к нуждам трудящихся.
– В редколлегию! – запальчиво сказал Лобойко. Откровенно расстроилась только Гнушевич. Показавшиеся на ее глазах слезы размазали черный карандаш.
– Выходит, – прошептала она, – опять мне с замужеством подождать. – Она обратилась к Беседину: – А вы мне не можете дать сейчас бумажку? Ну, о том, что хотя бы в будущем году уж наверно асфальтовая дорога будет проложена?
– Зачем вам бумажка? – искренне удивился Беседки.
– А я бы ему показала! Он говорит: вот выхлопочешь асфальт, я смогу тебя в своем «Москвиче» возить, а какая же женитьба без асфальта?
Беседин всмотрелся в несчастное лицо посетительницы, и… ему уже стало не смешно. «Искреннее человеческое горе – всегда горе, хотя бы оно и возникло по смешному поводу», – подумалось ему.
Когда посетители ушли, Беседин задумался. Как ему лучше разведать всю историю этого бедняги Линевича? Конечно, какие-то сомнения, и, пожалуй, немалые, остались у него в душе. Омоложение до такой степени не вязалось со всем тысячелетним человеческим опытом, что полностью поверить в возвращение старика к молодости было бы противоестественным. А ведь, с другой стороны… Нет, надо, надо отправиться в институт. Линевич работал именно там! Проверить, расспросить. Только без предубеждения! Это – главное. Предубеждение погубило немало великих открытий. Даже Наполеон, выгнав изобретателя подводной лодки, лишил себя единственного шанса на победу над Англией с ее могущественным парусным флотом!
Беседин встал, взял шляпу – и в эту минуту позвонил на его столе телефон и сказал голосом помощницы редактора:
– Вячеслав Дмитриевич, вас к редактору.
В приемной редактора Беседин увидел своих посетителей. Они смотрели вбок, и только мадам Гнушевич, будучи, видимо, добродушной и незлопамятной женщиной, улыбнулась ему, как старому знакомому, и даже пыталась что-то сказать, однако сидевший рядом Лобойко толкнул ее в бок, и она испуганно замолчала.
Помощница, сдержанная и, видимо, хорошо воспитанная женщина средних лет, в очках с изящной, под золото легкой оправой, приветливо сказала Беседину:
– Входите. Степан Федорович вас ждет.
И глазами показала на трех посетителей: это, мол, по их делу.
Беседин понимающе кивнул головой и толкнул тяжелую дверь…
– У вас отличный материал, – сказал ему редактор. – Вот эти трое… Обидели их! Да к тому же нарушили план. Проверьте и давайте!
– Я уже проверил, – мрачно сказал Беседин.
– Ну и что же?
– Вместо шоссейной дороги, которой будет преимущественно пользоваться небольшая группа владельцев дач, – уже разгораясь, сказал Беседин, – исполком совершенно правильно построил в районном центре детский садик, в нем ощущалась острая нужда.
– Странно, – насмешливо сказал редактор. – Странно, что вы присваиваете себе функции, так сказать, Госплана. План утвержден? Утвержден. А вы не согласны?
– Да, я не согласен, – запальчиво подтвердил Беседин. – Просто произошла ошибка, и ее исправили те самые люди, которые ошиблись. Зачем же нам их громить? Ведь они, по существу, правы…
– Допустим, – неожиданно согласился редактор. – Выходит, фельетона у нас нет?
– Есть! – неожиданно для себя очень решительно ответил Беседин. – Затерли величайшее открытие!
– Какое? – оживился редактор.
– Средство омоложения! Ученые бюрократы не дают ему ходу.
Беседин сказал это с разбега и тотчас пожалел: насмешливые глаза редактора зажглись каким-то дьявольским огнем. С полного редакторского лица вмиг слетел налет скуки, и он весь задвигался.
– Как-как? – театральным шепотом переспросил он. – Омоложение? Советский Фауст и бюрократы Мефистофели?
Неожиданно редактор захохотал. Он плакал от смеха и вытирал слезы платком. Беседин и не подозревал, что важный и всегда хмурый шеф способен так веселиться. Но это открытие вовсе не обрадовало молодого журналиста.
– Ничего смешного! – сердито воскликнул Беседин. – Мною собран почти весь материал!
– Ах, почти! – сказал редактор, пряча платок в карман. – Ну вот, когда соберете без «почти», зайдете ко мне. У меня все.
Беседин ушел, уже твердо решив писать фельетон в защиту Линевича.
В приемной навстречу Беседину поднялась вся троица в уверенности, что он к ним сейчас же обратится, но журналист прошел мимо с каменным лицом и вышел в коридор. Шаги его замерли.
К вечеру неудовольствие Анатолия Степановича предстоящим ему омоложением достигло такого градуса, когда человек уже не может оставаться бездеятельным. Надо было что-то предпринять, чтобы сорвать эту постыдную акцию! Помимо всего прочего, как посмотрят в министерстве на кандидата в ректоры, чьи анкетные данные подлежат изменению? А как же иначе? Если в его личном деле в отделе кадров значится в графе «Возраст» пятьдесят три года, то разве после омоложения не придется вносить если не изменения, то какие-то примечания? А примечания к анкете всегда мало способствуют служебному продвижению. Кроме того, не станет ли он предметом любопытства или даже насмешек, во всяком случае дурацких студенческих острот? И не отразится ли и эта сторона самым плачевным образом на его попытках занять причитающийся ему пост ректора? Нет, нет! Во всех смыслах требуется активно вмешаться в дело и не допустить опыта в клинических условиях. Но как? На этого твердокаменного Кирсанова не очень-то повлияешь, а вот разве на самого Линевича? Тот всегда был человек слабовольный. Была не была! Твердого плана предстоящего разговора нет, но, может быть, в ходе беседы что-нибудь найдется такое, на что этот чудак клюнет? Испугается? Да, да, именно испугается. Надо его взять на испуг, он не из храброго десятка!
Несмотря на поздний час, Курицын позвонил Котову и, сославшись на необходимость поговорить с Линевичем о деталях предстоящего опыта, узнал его адрес и тотчас поехал к нему на квартиру.
Сухо поздоровавшись с удивленным Линевичем и не объясняя ему причины столь позднего визита, Анатолий Степанович прошел за ним в его комнату, подчеркнуто опасливо запер дверь и сказал:
– Имейте в виду, если клиническая проверка вашего метода не даст благоприятных результатов или приведет к ухудшению здоровья испытуемых, дело ваше будет плохо!
– Садитесь, пожалуйста, – сказал, растерявшись, Линевич. – Но в каком смысле – плохо?
– Во всех, – отрезал Курицын, сразу почувствовав, что нож входит в сердце Линевича легко и беспрепятственно. – Вас будут судить за мошенничество. Словом…
Он бросил испытующий взгляд на побледневшего молодого человека, в которого превратился, на свою беду, старый врач, и веско произнес:
– Словом, я, как один из руководителей медицинского института, рекомендую вам не спешить с научной проверкой! Подумайте, очень подумайте сначала! Вы ведь видели на собрании – я ваш доброжелатель, так послушайте же меня!
И, не дожидаясь реплики хозяина комнаты, он повернулся, открыл дверь и был таков. А Линевич…
На следующее утро Линевич встал с тяжелой головой. Ноги ступали не очень твердо. «Что со мной? – подумал доктор. – Не грипп ли?» Он взял со стола круглое зеркало, служащее ему во время бритья, и, посмотревшись, испуганно положил зеркало на место. Он увидел себя таким, каким был до омоложения: седые клочья волос, вставшие во время сна дыбом, глубокие морщины, потухшие глаза, обведенные черными кругами. Он чувствовал себя, как гоголевский майор Ковалев, не нашедший у себя на лице носа. «Мне померещилось!» – подумал Линевич и снова взял зеркало. Нет, ошибки не заметно. Ни одной рыжинки в волосах, глубокая печать дряхлости на лице. Линевич застонал и без сил опустился в старое кресло у окна.
В дверь постучали. Видимо, это был женский пальчик: стук был деликатный, еле-еле слышный. Кряхтя и сутулясь, Линевич натянул на себя пиджак и пошел открывать дверь. На пороге стояла соседка Апфельгауз-Титова с большим букетом цветов в руке и со сладенькой улыбочкой на жирно накрашенных губах. Никто из них двоих не успел сказать ни слова. Увидев старческое лицо Линевича, соседка тихо вскрикнула и уронила букет. В свою очередь Линевич без слов быстро захлопнул и замкнул дверь.
«Почему это произошло? – в сотый раз спрашивал себя Линевич, лежа на неубранной кровати. – Какой-то временный, быстро миновавший эффект? Но почему временный? Неужели я постарел за неделю из-за чрезмерных переживаний, связанных с моим омоложением?! Да-да! Все эти треволнения не прошли даром. И этот Курицын… Я так быстро постарел именно потому, что слишком быстро помолодел. К тому же до меня не было тому примера, и я многих возбудил против себя…»
Он несколько раз вскакивал и подбегал к столу. Зеркала он уже не трогал, он лишь перебирал свои записи, писал какие-то формулы, но яснее случившееся ему не становилось. А через час приехал Котов поговорить о постановке широкого научного опыта в институте и, увидев Линевича, тихо охнул.








