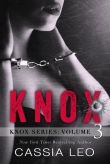Текст книги "Шкурка бабочки"
Автор книги: Сергей Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
9
Темнота зимних московских вечеров. Разноцветный килим на полу. Однокомнатная квартира за 250 долларов. Матовый экран монитора, черный экран телевизора. Ксения, с ногами забравшись в единственное кресло, грызет ногти. Сидеть дома одной, не думать о Саше, смотреть телевизор, читать книжки, серфить по сети. Все не так, все валится из рук, все неправильно: купленные у метро дешевые DVD зависают, фильмы скучны и манерны, словно какие-нибудь «Игры Рипли», кто такое только смотрят, скажите на милость, вышедший на прошлой неделе последний Мураками уже прочитан и больше не радует. Сидеть дома одной, вспоминать Сашу, задумчиво стоять над открытым ящиком, мастурбировать, до синяков перетянув себе грудь, подвесив грузики на соски. Кончать быстро, но чувствовать все ту же пустоту внутри. Сидеть дома одной, не думать о Саше, вспоминать Сашу, стоять с длинной швейной иглой в руках, прикидывая, куда ее лучше воткнуть. Плохой признак, ты это знаешь, плохой: еще немного, и дело дойдет до порезов.
Отложи иглу; вспомни лучше, как все началось. Ты только что окончила десятый класс, а мама собралась отдыхать в Грецию, вроде как с тетей Милой, но на самом деле – с ее очередным мужем. До этого долго жаловалась, мол, денег совсем нет, отец толком не платит алименты, придется занимать, а потом полгода работать без выходных, тупые договора, юридические документы, переводческая барщина.
Так оставайся дома, сказала Ксения в припадке подростковой злости, и в ответ услышала про бессердечие, эгоизм и черствость. Мне голову некуда преклонить в собственном доме, кричала мама, я буду умирать, мне стакана воды не подадут. Я все для тебя делаю, а ты не хочешь отпустить меня отдохнуть на две недели! У Лены дочка уже зарабатывает, одна ты у меня на шее.
Ленина дочка была старше Ксении на три года, но это было неважно. Ксения закусила губу и сказала, что устроится летом на работу, и маме не придется работать всю осень без выходных. Когда Ксения сообщила об этом отцу, тот попытался возмутиться, даже позвонил матери, но та как отрезала: «Это очень хорошо, пусть девочка приучается к финансовой самостоятельности. А то вырастет такая же неудачница, как ты».
Это был последний довод во всех спорах – и он надежно блокировал все папины попытки вмешиваться в воспитание дочери. Ксения помнила, как в пятом классе, сразу после их развода, мама сказала, что надо лучше учиться и потому – нечего больше три раза в неделю ходить в танцевальную студию. Ксения любила танцевать: ей казалось, когда она танцует, она взрослеет, становится такой же красивой, как мама – в туфлях на высоком каблуке, в облаке духов и вина – да и папа всегда приходил на выступления, восхищался, говорил ты у меня красавица, но в пятом классе все закончилось. Ксения сидела в своей комнате, делала уроки, чтобы не плакать, а на кухне папа, пришедший на выходные повидать дочь, что-то пытался объяснить маме, а та повторяла только: «Если девочка будет заниматься такой ерундой, она вырастет неудачницей, как ты».
Вот и в этот раз, она сказала отцу: «Это хорошо, пусть приучается к самостоятельности», а самой Ксении – что она, конечно, молодец, но вообще-то в этом нет никакой нужды, деньги в семье и так есть, если ты это из-за меня, то не надо.
– Нет, что ты, мама, – сказала Ксения, – просто я считаю, что мне пора уже начать зарабатывать.
На каникулах Ксения вместе с Маринкой устроились курьерами по объявлению. Работы было немного: забирать корреспонденцию в нескольких фирмах и развозить по указанным адресам. На это, правда, уходил почти весь день, но зато обещали заплатить сто долларов. За лето набежало бы три сотни, не так, чтобы много, но вполне приличная сумма, чтобы она не чувствовала себя нахлебницей.
Мама уехала 25 июня, а на следующий день Маринка позвонила и сказала, что на работу не выйдет, мол, заболела. Ксения спросила, что с ней, та ответила, что простыла, и Ксения начала собираться, хотя ей не понравился Маринкин тон. Уже в дверях ее застал телефонный звонок: плачущая Маринка призналась, что накануне вечером человек, которому она сдавала лист заказов, ее изнасиловал.
– Я пришла вечером, – всхлипывала Марина, – в офисе уже никого не было, только он. Я прошла за ним в кабинет, как всегда, он предложил чаю, и я согласилась, потому что попала под дождь и замерзла. Он плеснул чуть-чуть коньяку, а потом стал приставать ко мне, ну, и…
– Так ты сама ему дала или он тебя изнасиловал? – спросила Ксения.
– Не знаю, – ответила Марина, – я говорила «я не хочу». В Америке это бы считалось изнасилованием.
– И что ты будешь делать? – спросила Ксения. – Пойдешь в милицию?
– Нет, что ты! Больше не приду к ним, и все.
– А как же деньги? Тебе же еще ничего не заплатили. Не тупи, Маринка!
– Ну, значит, не будет денег, – всхлипнула Марина, – я туда больше не пойду. И вообще, перестань меня парить, – сказала она и добавила после паузы: – Он сказал мне, что я могу звать его Димочкой.
Почему-то именно в этот момент у Ксении потемнело в глазах от ярости. «Димочка» задел ее больше изнасилования, больше того, что Маринка была готова отказаться от денег, только чтобы не ходить туда. Ксения знала эти вспышки ярости – из-за них одноклассники считали ее бешеной и боялись дразнить еще в начальной школе. Но сейчас Ксения напоминала себе слова Левиного сэнсея: не следует позволять негативным эмоциям полностью подчинять себя, надо направить их, полностью вложив в удар. И вот теперь всю дорогу она несла свою ярость, как стакан с водой, стараясь не расплескать. Перед ее глазами стояла картина: мерзкий Димочка сдирает одежду с Марины, ее матовая кожа светится в полумраке евроремонтного кабинета, светлые волосы страдальческим ореолом вздымаются вокруг головы. Картинка была смутной – не потому, что Ксения толком не помнила Димочкиного лица, а потому, что яростный туман мешал разглядеть детали.
В офисе Ксения как всегда взяла лист заказов и корреспонденцию, и только потом ледяным голосом спросила, у себя ли генеральный директор. Димочка, невысокий, лысоватый мужчина средних лет, удивленно посмотрел на нее сквозь очки и спросил, зачем ей генеральный. Мне надо, сказала Ксения так, что он тут же провел ее через весь офис к приемной.
– Галочка, – сказал он секретарше, – вот девочка-курьер хочет поговорить с Аркадием Павловичем, я уж не знаю о чем.
– Аркадий Павлович занят, – сказала Галочка, не отрывая глаз от монитора.
– Я на минуту, – сказала Ксения и открыла дверь в кабинет.
Через пять минут Димочка, заливаясь краской, стоял перед генеральным. Губы его тряслись, глаза под стеклами очков набухали слезами.
– Она сама… – пролепетал он.
– Мудак, – прошипел Аркадий Павлович, – она же несовершеннолетняя! Это же статья! Даже если она сама!
Ксения рассчитала все правильно: люди старшего поколения не знали, что такое возраст согласия.
– Мы готовы заплатить компенсацию, – сказал Аркадий Павлович, – я вычту у него из зарплаты столько, сколько вы сочтете нужным.
– Я не уверена, что готова говорить о компенсации, – сказала Ксения. – Когда девушка берет деньги за то, что мужчина занимался с нею сексом, это больше напоминает проституцию, чем компенсацию. Я бы хотела только, чтобы моя коллега получила то, что заработала. По возможности не заходя в офис.
Через десять минут Ксения выходила из офиса с сотней долларов Марининой зарплаты.
– Вот видишь, – сказала она подруге, – ты даже на три дня меньше меня отработала.
Впрочем, следующий день оказался последним рабочим днем и для самой Ксении. Первый же клиент, к которому она пришла, заметил, что пакет вскрыт. Внутри не было ничего, кроме одного письма – а ему должны были принести еще и небольшую сумму денег. Долларов триста пятьдесят, ничего серьезного, сейчас все выясним, сказал он растерянной Ксении, набирая номер конторы. Разумеется, Димочка клялся, что дал Ксении целый конверт и деньги лежали внутри. В том же кабинете генерального начальник взял у Ксении реванш.
– Они начинают с шантажа, а переходят к воровству, – сказал он.
Даже если Аркадий Павлович понимал, что произошло, он не счел нужным ничего сделать. Сошлись на компромиссе: они считают, что Ксения потеряла деньги, поэтому они тоже не будут обращаться в милицию (Димочка не сдержал улыбки при слове «тоже»), не будут также просить Ксению компенсировать потери, понимая, что она еще девочка и денег у нее толком нет, мы же не звери какие-нибудь, правда, Ксюша? Но, разумеется, о дальнейшей работе не может быть и речи, так же как и о зарплате за июнь.
Ксения понимала, что ее подставили. Взрослые богатые люди показали девочке ее место. Еще бы! Какая-то шмакодявка будет качать тут права! Вот тебе права, вот тебе триста пятьдесят у.е., вот тебе наша неземная доброта, мы тоже не будем обращаться в милицию! На всю жизнь Ксения запомнила этот урок: нельзя позволить себе расслабляться даже на самой простой работе. Доверять можно только самым близким друзьям.
Сухими глазами она весь вечер смотрела в телевизор, повторяла слезами горю не поможешь. Плакать, как говорит мама, это признать себя беспомощной, признать свое поражение, а ты должна бороться. Да, девочки не плачут, надо что-то придумать, повторяла Ксения, но все равно не сказала Маринке, что ее уволили, не заплатив денег. Не потому, что боялась ее сочувствия – просто Маринка предложила бы поделить деньги на двоих, а брать у нее Ксения не хотела. Достаточно того, что Маринку изнасиловали. Ксения ничего не сказала, даже когда Марина позвонила и призналась, что с первого июля решила снова выйти на работу, потому что Димочка позвонил и извинился, пообещав, что больше подобного не повторится. Впрочем, Маринкин голос знакомо вибрировал от возбуждения, и Ксения подумала, что нечто подобное вполне может и повториться. В конце концов, сказала Марина, это было даже интересно, у меня еще никогда не было мужчин настолько старше меня. Ну и ладно, сказала себе Ксения. Значит, я была дура. Значит, не надо было во все это лезть. Сами бы разобрались. Она немного обиделась на Маринку, но обида эта была слабой, чувствовалась как сквозь войлок или, точнее, сквозь кокон, все туже обволакивающий Ксению.
Сидеть дома одной, не думать о Маринке, смотреть телевизор, читать книжки. Все не так, все валится из рук, все неправильно: ты сама виновата, во всем сама виновата. Месяц потратила зря. Денег не заработала и, похоже, не заработаешь. Полезла спасать Марину, которая сама прекрасно справилась. Забыла, что должна думать прежде всего – о маме. Что скажешь, когда мама вернется из Греции? Сутками не открывать занавесок, не переодеваться, не выходить на улицу, в одной майке слоняться по квартире, курить найденную в мамином столе траву, плавать в обжигающе горячей ванне, пить черный кофе и чувствовать, что квартира наполнена серыми нитями паутины… опутывают тело, свиваются в кокон, катышками тащатся по паркету, словно ядро каторжника. Ты никогда ничего не достигнешь. Ты не можешь работать даже курьером. Ты ни на что не годишься.
Ты пробовала мастурбировать, но это помогало ненадолго. Тогда ты еще обходилась без дополнительных приспособлений, хватало фантазий. С детства нравилось воображать себя принцессой, похищенной жестокими разбойниками, или юной леди, проданной в гарем султану. Вычурность этих картин стала немного раздражать с возрастом, так что постепенно декорации потеряли свое великолепие, и все свелось к взаимодействию двух-трех тел, веревок, кляпа и кнута. Воображаемая мука лучше мыслей о том, что скажет мама, когда наконец вернется: боль и стыд те же, что и наяву, но в темных подземельях фантазий из них, словно в алхимической реторте, выплавлялось наслаждение. Оно накатывало теплой волной и отступало, оставив на прибрежном берегу обрывки мыслей, осколки образов, отчаяние столь плотное, что, кажется, его можно потрогать еще влажными пальцами.
Отчаяние? Нет, не отчаяние – тоска, концентрированная тоска, удушье, неумолчный шум в ушах, ток собственной крови, тьма, тьма, темное облако виснет на складках одежды, цепляется за выпуклости лица, за прилипшие ко лбу волосы, за обкусанные пальцы.
Однажды утром ты проснулась в луже крови. Подумала было, что началась менструация, но тут же поняла, что, засыпая, взяла в кровать нож и изрезала внутреннюю поверхность бедер. Ты ничего не помнила, ни в этот раз, ни в другие. По счастью, порезы были неглубокие, нож не задел ни одной вены, но ты испугалась.
Надо было сделать хотя бы что-то – и ты заставила себя выйти на улицу. В газетном киоске ты купила «Мегаполис-эксперсс» и случайная статья подсказала тебе ответ на вопрос «как быть?». Ты позвонила Маринке и уже через неделю познакомилась со своим первым любовником-доминантом. Его звали Никита – и тело до сих пор отзывается на это имя, хотя прошло уже восемь лет, Никита далеко, а все остальные товарищи по играм тоже не могут утешить. Ты убираешь в шкаф свои игрушки и говоришь, что завтра обязательно после работы пойдешь куда-нибудь в гости, просто чтобы не сидеть дома одной. Пойдешь в гости, там напьешься, вернешься – и сразу уснешь.
Хорошо бы сходить к Оле, думаешь ты, хорошо бы обняться перед телевизором, ни о чем не думать, смотреть «Реальную любовь» или еще какую мелодраму. Оля любит мелодрамы, как ты любишь итальянские фильмы ужасов. Хорошая идея, но ничего не получится – у Влада завтра день рождения, Оля обещала помочь, приготовить, убрать, помыть посуду. Взрослая женщина, а до сих пор не может отказать брату. Впрочем, да, ты тоже не отказала бы Леве, если бы он о чем-нибудь попросил. Жаль, это трудно сделать из Америки. Эй, Лева, хочешь я приеду к тебе в Нью-Джерси, помою посуду?
Да, Лева уехал, Никита уехал, Вика уехала, сколько других сгинули неведомо куда, а Маринка осталась. Ксения нет-нет да вспомнит тот давний случай, фальшивое изнасилование, детские обиды. Нет, на Маринку нельзя долго обижаться. В конце концов, одни девушки не могут сказать «нет», когда речь идет о сексе, другие любят, чтобы их били до крови – у всех нас странные вкусы, чего уж тут. Так что хватит сидеть, обхватив колени: возьми трубку, набери Маринкин номер. На что еще нужны старые подруги, если к ним нельзя пойти, когда тебя накрыло?
Алле, алле, говорит Ксения, попробуй только скажи, что как раз завтра вечером ты занята.
10
– Посмотри, правда, красиво? – и Марина приспускает майку с плеча.
У Марины красивая майка: любовник привез из Калифорнии, ручная, говорит, работа, делают бывшие старые хиппи, то есть просто хиппи, потому что бывшие хиппи все стали яппи, все стали ви-ай-пи, все стали си-и-оу. Майка в разноцветных разводах, говорят, кислотный стиль, Ксения впрочем, никогда не пробовала кислоты, она вообще не употребляет наркотиков, если не считать кофе, травы и чая. Она не пробовала кислоты, но знает слово «кислотный» и знает, что Марина любит это слово, хотя тоже, кажется, никогда не пробовала кислоты, впрочем, с Мариной ни в чем нельзя быть уверенным. На стенах висят кислотные картинки, монитор на барном стуле посреди комнаты показывает кислотные узоры, почти такие же, как майка ручной работы, которую подарил Марине ее калифорнийский любовник, такие узоры, что не надо никакой кислоты, говорит Марина и выдыхает сладкий дым.
В самом деле, красивая майка. Нетрудно заторчать с такой майки, что с косяком, что без косяка. А вот в офис в такой майке не придешь, это точно. Но Маринке не надо ходить в офис, у нее нет подчиненных, нет начальства, зато есть майка ручной работы, которую привез любовник из Калифорнии.
И вот она приспускает эту майку с плеча, посмотри, говорит, правда, красиво, посмотри, мне же самой не видно, скажи мне, как он там? Не так чтобы очень красиво, если честно: на матовой молочной коже расплывается большое красное пятно, облаком укрывая очертания татуированного дракона.
– Вау, – говорит Ксения, – просто супер. Но у тебя же раньше там бабочка была, куда ты ее дела?
Марина прячет плечо обратно под красивую майку, встряхивает соломенными волосами, смахивает пепел, – ой, как я давно не курила, – и улыбается:
– У меня была бабочка, но я забила ее драконом. Он вылупился из бабочки, как бабочка из куколки, понимаешь?
Конечно, чего ж тут не понять. Дракон из бабочки, бабочка из куколки, куколка из коробки.
– Помнишь, у Вики была первая в классе кукла Барби, кукла из розовой коробки, за безумные деньги из-за границы?
– Конечно, помню, – говорит Марина, – первую Барби не забыть, как первого мужчину.
Ксения смеется:
– У тебя-то уж точно мужчин было побольше, чем кукол.
– Прикинь, я была такая глупая, – говорит Марина, – такая дура, я так хотела девочку, чтобы ей достались мои куклы, а теперь я понимаю, что мальчик – это куда лучше, посмотри на него, ты только посмотри, всего девять месяцев, а уже видно – настоящий мужик, маленький китайский мандаринчик, апельсинчик мой, солнышко мое ненаглядное.
Подхватывает Глеба на руки, целует в маленький носик, в узкие глазки, в лопоухие ай-ты-мой-слоник ушки.
– Ма-ма! – говорит Глеб и снова уползает.
У Марины нет мебели, если не считать большого матраса в дальнем конце комнаты и барного стула, на котором светится монитор. Когда-то Марина называла это кибернетическим алтарем, и Ксения предпочитала не думать, какие обряды справлялись перед ним по ночам. И вот сейчас они сидят прямо на полу, на ковре, мохнатом и огромном, как шкура белого медведя, того самого, на котором и стоит наш мир – по преданиям северных народов, неведомых этнографам. Или, может быть, по этим преданиям, весь мир и есть спина огромного белого медведя, и мы ползаем в его шерсти, словно маленький Глеб по огромному ковру в однокомнатной квартире матери, которая сидит тут же, вместе со своей самой старой и верной подругой. На Марине красивая майка, ручная работа, любовник из Калифорнии, а Ксения как обычно в деловом костюме, при параде, в полной выкладке, боевой раскраске, властные губы, большие глаза, полчаса перед зеркалом по утрам. Когда Марина ходила в офис, она все равно не носила деловых костюмов, она была дизайнер, творческая девушка, почти богема, предпочитала этнический стиль, мужчинам это нравилось, ей это шло – впрочем, при чем тут стиль? Она всегда нравилась мужчинам, длинноногая, с ореолом светлых волос вокруг головы, с неизменной улыбкой, которую одни называли блядской, а другие – невинной.
– Эк тебя колбасит, – говорит Ксения. – А помнишь, что ты говорила, когда была беременна? Что мальчик – это враг внутри, как Intel Inside, можно даже логотип на живот вешать. Потому что мужчины и женщины – это два разных вида, а не самцы и самки homo sapiens.
– Прикинь, я была такая глупая, – говорит Марина, – такая дура, я так хотела девочку, я так разозлилась из-за этой беременности, так тормозила, помнишь?
Как уж такое забыть, конечно. Неделя японского кино в Москве, свободный вход, полный зал народа, драка за места, плохо различимые субтитры, чья-то голова загораживает пол-экрана, Марина вежливо просит пригнуться, а потом бесцеремонно пригибает голову рукой, чего он тупит, по-русски, что ли, не понимает? А когда зажигается свет, видит, что да, не понимает, раскосые глаза, желтоватая кожа, ой, как неудобно. Марина говорит «аригато», надеясь, что в японском одно вежливое слово заменяет другое, мужчина смеется и говорит по-английски, что он не японец, хотя у него есть друзья японцы, с которыми он должен был встретиться тут, но вот, видимо, они не пришли, а сам он мало что понял, честно говоря, японский язык и русские субтитры – почти без шансов. Может быть, девушка, которая так хорошо говорит по-английски, расскажет ему, что же все-таки произошло?
Марина рассказала, и они выпили за дружбу народов в ближайшем ресторане, а потом поймали такси, целовались на заднем сиденье, и Марине, уже немного пьяной, было ужасно интересно, потому что у нее никогда еще не было азиатских мужчин. А это правда, что азиаты умеют такое, ну, ты понимаешь, ну, в смысле в постели? The Asians much better do it on the mat than in the bed. What is the mat? Показывает рукой себе под ноги, на резиновый коврик, а, блин, на циновке, из рисовой соломы, right?
Найти ночью в Москве циновку все-таки не удалось, поэтому они попробовали и на кровати, и на коврике, а потом Марина посмотрела на часы и внезапно вспомнила, что утром ей должен звонить любовник из Калифорнии, тот самый, который потом подарит ей красивую майку, ручной работы, с кислотным узором, в которую она одета прямо сейчас. Прямо сейчас – это когда с той ночи прошло восемнадцать месяцев, как нетрудно подсчитать, зная возраст ребенка и среднюю продолжительность беременности у самок вида homo sapiens – если, конечно, по-прежнему верить в существование такого вида.
А год назад, таким же зимним депрессивным вечером, Марина так же сидела на полу, скрестив ноги, натянув майку на круглый живот, и говорила, что мальчик – это враг внутри, да еще и китаец какой-то вдобавок, как и его папаша.
– Почему ты ему не позвонила? – спрашивала тогда Ксения.
– А у меня нет его телефона, – отвечала Марина, – я ему свой оставила, а его не взяла. То есть он мне его написал, а я его забыла на столе на кухне, потому что тормозила утром, еще бы, мы ведь такую работу с ним сделали, целого ребенка, часа четыре трудились, взмокли оба.
– Как же ты не предохранялась?
– Прикинь, я была такая глупая, – говорила Марина, – такая дура, я предохранялась два первых раза, а потом презервативы кончились, и у него уже не так хорошо стояло, и я сказала а давай так, потому что мне очень хотелось, и к тому же я слышала, что вероятность забеременеть от третьей эякуляции подряд гораздо меньше. И вообще я собиралась с утра принять постинор, но дома затормозила, свалилась и уснула, а потом все забыла, я вообще все забыла, даже его телефон на кухонном столе, но я бы все равно не стала звонить, раз он не позвонил, мало ли, что я забеременела, самой надо было думать, ведь правда?
– Хорошо еще, что он здоровый оказался, – говорила Ксения, – а то была бы ты сейчас не беременная, а ВИЧ-инфицированная.
– Не надо, не надо меня парить, я же тебе не говорю, что какой-нибудь твой садист-любовник тебя когда-нибудь запросто прирежет.
– Это ты не говоришь? Да я от тебя это каждый раз слышу!
– А ты зато можешь меня теперь пугать, что я умру от родов.
– Вот еще, и не подумаю. Ты родишь прекрасного младенца, здорового и крепкого.
Год назад они так говорили, и так оно все и получилось, вот и младенец, здоровый и крепкий, ползает по белому ковру, как по спине белой медведицы, конечно же, медведицы, а не медведя, потому что это мамин ковер, мамина комната, мамина квартира, мамин маленький китайчонок, мандаринчик, апельсинчик, кто у нас такой вкусненький? Я потому и набила себе дракона, говорит Марина, чтобы Восток был, раз уж у меня китайский сын, я сама теперь немного китаянка, правда? А красное пятно – не переживай, оно пройдет к лету, а сейчас все равно, кроме тебя, показывать некому.
Вау, говорит Ксения, что значит некому? А куда ты растеряла всех своих мужиков, любовников со всех концов земного шара, всех возрастов и цветов кожи, с которыми тебе интересно, потому что ты никогда раньше таких не пробовала? Неужели ты исчерпала все комбинации, неужели у тебя были все, кого только можно вообразить, даже столетний афро-американец с примесью эскимосской крови, плод недолгого пребывания на Аляске в канун Первой мировой войны батальона морской пехоты, как их там зовут по-английски – морские котики? Белые медведи? Смейся, смейся, отвечает Марина, я нашла главного мужчину моей жизни, посмотри только на него, только полюбуйся, он самый лучший и самый красивый на Земле, посмотри на его лицо, посмотри на его яйца, посмотри на его член – ни у одного мужчины я не видела таких красивых яиц и такого красивого члена. А я, ты знаешь, многое повидала.
В самом деле – многих повидала, я знаю. И неужели устал смотреть зрачок, потускнел глазной хрусталик, погас взгляд? Где та Марина, с которой нельзя было прийти в гости, потому что она тут же начинала высматривать, кого бы утащить трахаться в ванную? Где та Марина, которая, когда не могла заснуть, начинала считать своих любовников, как другие считают овец или слонов, и всякий раз засыпала, так и не добравшись до конца? Где та Марина, которая все знала о сексуальных пристрастиях любого мужчины в Москве и странах, прилегающих к Шереметьево-2? Где та Марина, которая в пятнадцать лет познакомила меня с Никитой, узнав, что я – в Теме? Где та Марина, которую я так любила, что ради нее хотела бы стать мужчиной на одну-единственную ночь?
Она сидит на полу, поджав под себя ноги, в майке ручной работы, от любовника из Калифорнии, и кислотный узор на ткани – как сияние, что исходит от ее живота, и кислотный узор на мониторе – как благословение кибернетических богов, и маленький Глеб ползает рядом, как божественный эскимосский младенец по спине Великой Матери Медведицы.